

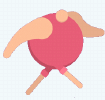
Мы ленивы и нелюбопытны ‹...›
Пушкин
Будущее уходит от лени.
Хл V, 268
Этим условиям в высокой степени отвечает творчество Хлебникова, “честнейшего рыцаря” поэзии (М XII, 28), идиостиль которого к тому же исследован мировой филологией еще очень недостаточно. Обращает внимание и очень значительный разброс оценок, касающихся отдельных произведений поэта, исповедуемого им словотворчества, его поэтики в целом, смысла его деятельности вообще. Полемика вокруг фигуры Хлебникова, попытки провозгласить его “королем поэтов” (в иронических кавычках или всерьез), столкнуть его тем или иным способом с Маяковским, одним из его “поэтических учеников”, а то и просто списать по ведомству “модернизма” во многом определяются как раз очевидной сложностью хлебниковского идиолекта. Впрочем, эта-то сложность и представляется ряду филологов малопривлекательным качеством поэта, хотя она тем более нуждается в понимании, предваряющем любые оценки.
По поводу такого рода предубеждений следует заметить, что в науке „принцип простоты (предпочтительны теории с минимальным числом допущений) может иметь лишь эвристическое значение, и в ходе развития науки каждая теория рискует оказаться в итоге „слишком простой”” (Костюк 1978: 150). В каких коррективах нуждается это положение применительно к поэтическому творчеству, в частности, к такому, которое все пронизано особой “поэтической филологией”, можно будет установить не априори, а в результате построения сопоставительной грамматики “хороших и разных” идиостилей. Идее “одемьянивания” поэзии, конечно, нет необходимости противопоставлять идею ее “овелимиривания”; просто надо возможно более полно описать и понять “полюс Хлебникова” (между прочим, Хлебников утверждал, что 10 марта 1917 г. началось овелимирение земного шара: ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, ед. хр. 91, л. 8).
Если сравнительно недавно ученые начали обсуждать пути создания различных теорий множеств, в основания математики вводить понятие случая, а в модальную логику — “контрфактические” допущения (см. там же, с. 151, 156), то, по (небесспорному) замечанию Ю.Н. Тынянова, уже давно „случайное стало для Хлебникова главным элементом искусства” (1928:25), а его своеобразная филология демонстрирует развитие различных, но явно контрфактических семантик до уровня возможных миров, ставших поэтической действительностью. Сейчас кажется почти тривиальной мысль о том, что „тексты, особенно литературные тексты, сами создают свой семантический мир, а не комбинируют готовый набор сем, существующий где-то вовне” (Келемен 1977:122–123); Хлебников же, строя свой “безумный мир”, еще не мог рассчитывать на пощаду: властное ничто (III, 25) легко отражало печально непохожих, а параллель Хлебников – Эйнштейн, намеченная Мандельштамом (см. ниже), вызовет недоумение даже у иных сочувствующих и в восьмидесятые годы (но ср. Гор 1968: 189, Харджиев 1970: 119 и др.).
У самого Хлебникова имя Эйнштейна сопрягается с именем Пикассо. В черновиках „изумительнейшей”, по слову Маяковского (XII, 27), поэмы «Ладомир» читаем:
Это будет земной Пикассо ‹...› / Это будет земной людопир ‹...› / Людомир он земной Пикассо ‹...› / Туда, где Гайавата, / Иди, Ариабхатта. / Звени, теченье Рейна, / Учением Эйнштейна (ЦГАЛИ, Ф. 527, оп. 1, ед. хр. 9, л. 2, 4, 4 об.). И далее: Это будет земной светомир ‹...› (там же, л. 9; см. также л. 10 об. и л. 12).
Отвергая (на тех же и соседних листах этой рукописи) обвинения критиков в подражательстве (Бальмонту, Уитмену и др.), Хлебников говорит о том, что противопоставляемое им склонению и спряжению скорнение представляет собой лучи согласн‹ых›, соеди‹няющие› все слова; что существуют два счета величия — один имеет в виду бытословные одежды, другой же — числа в рубахах Эйнштейна; что в разных верах земли добро совпадает со временем, а пространство — со злом и что свет как наибольший враг пространства во времени есть времяносец вселенной. Как бы ни относиться к этим размышлениям, с трудом выявляемым в рукописных набросках, несомненно одно: лучевая природа звездного языка у Хлебникова своим неметафорическим основанием имеет преобразованное поэтом учение Эйнштейна. Ясно, однако, что цитированная рукопись нуждается в особенно тщательном комплексном исследовании в контексте множества других “мировоззренческих” рукописей поэта, подготовкой которых к печати пока никто не занимается.
„Поэтического возрождения Лермонтов еще не дождался, а изучение всегда следует за возрождением”, — писал в 1922 г. Б.М. Эйхенбаум (1969 а:408). Теперь, когда издана «Лермонтовская энциклопедия» (М., 1981), приведенная оценка, естественно, устарела. Но совсем недавно она была бы полностью применима к Хлебникову, тем более, что действительное положение последнего в истории русской поэзии тоже „еще совершенно не выяснено — и вопрос, действительно, очень сложен” (там же). С Хлебниковым, пожалуй, даже исключительно сложен.
Сейчас, в преддверии 100-летия со дня рождения поэта, пожалуй, можно уже сказать, что “возрождение” набирает темпы и, следует подчеркнуть, — в тесном переплетении с изучением.
Когда писались эти слова, их автор уже мог опираться на тезис Ю.Н. Тынянова (1928:24) о том, что „Хлебников был новым зрением”. Наверное, права Л. Жадова (1976:107), называя Хлебникова поэтом-ученым — характеристика, которая восходит к той же замечательной статье Тынянова, открывавшей пятитомное собрание произведений поэта, и с которой перекликается позднейшая оценка Хлебникова таким прозаиком, как Всеволод Иванов:
К этому можно добавить глубокую мысль Тынянова, который в 1924 г. осуждающе писал, что „наша культура построена на чопорном дифференцировании науки и искусства” (1977: 166). В чисто научном плане и сейчас еще кажется, что своей гаммой будетлянина „Хлебников продолжал ‹...› традицию древнего синкретического искусства ‹...› и числовой магии, решая проблему времени в духе архаического представления о его цикличности” (Иванов 1974:49). Но позволительно усомниться в том, что это — достаточный критерий для оценки всего написанного Хлебниковым о времени. Как известно, „до появления теории относительности вообще не существовало специальной науки о времени, подобной науке о пространстве (геометрии)” (Зобов и Мостепаненко 1974: 13). Хлебникова же занимала прежде всего этика истории, интерес к которой пробудила в нем Цусима. Кроме того, по воспоминаниям заслуженного деятеля искусств РСФСР А.Н. Андриевского, Хлебников считал в высшей степени условным и относительным различие между образом и понятием, ибо в каждом понятии „незримо присутствует образ”, и в каждом образе заключен “кусочек понятия”. Поэтому-то Хлебников и требовал равноправия искусства с наукой во всей сфере познания и изменения мира (см. Дубовик 1976).
Существует, напомним, и такая — вполне конструктивная — точка зрения:
Законы времени, открытые Хлебниковым, — это “поэтические законы”, но без них, видимо, неполноценна сейчас и “алгебра времени”.
Если „сама жизнь Хлебникова — пример бескорыстного служения поэзии” (Степанов 1975:6), то напрашивается и такая мысль. По отношению к творчеству поэта (не в смысле “нра”/“не нра”, а по мотивировкам внимания к нему или отвержения его) можно в наши дни в какой-то степени измерить нравственную температуру самой филологии — аргументы ее суждений как науки помножить на ее “ответственную волю к пониманию чужого” (Аверинцев 1969: 100). И не только филологии, но и литературы, в которой, как увидим, присутствует далеко не однозначный образ поэта и которая по-прежнему с легкостью множит или поддерживает легенды о нем совсем в духе несколько безответственного и гиперироничного “мовизма” (даже при вполне сочувственной общей оценке поэта — см., в частности, Катаев 1978:25–26, 111–114, 139, 144),так что Хлебников как-то незаметно оказывается сведенным к уровню “буки русской литературы” — Алексея Крученых (о нем см. Харджиев 1975 и Nilsson 1978). Такова уж инерция “мовестиля”...
Вместе с тем в 80-е годы, видимо, никого уже не удивит признание, что кому-то доставляет неизъяснимое наслаждение просто читать страница за страницей стихи Хлебникова.2![]()
Ничего, кроме благодарности, не испытываешь и к интуиции тех пионеров-издателей, которые, нередко грубо ошибаясь, торопились как можно полнее собрать, спасти от забвения и уничтожения, ввести в оборот “все написанное” Хлебниковым. И успели: пять томов «Собрания произведений» под ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова да «Неизданные произведения» под ред. Н. Харджиева и Т. Грица (тиражами от 2500 до 5000) — цены им нет, а в наши дни — особенно. (Свою роль сыграли и выпуски «Неизданного Хлебникова», стеклографические раритеты работы А. Крученых.) Не будь пятитомника, наверное, не вышел бы в свет в Малой серии «Библиотеки поэта», в 1940 г. хлебниковский однотомник, и не было бы такого факта в одной читательской биографии: в вещевом мешке зеленого восемнадцатилетнего солдата, тяжело раненного под Старой Руссой, нежно обнялись с противотанковой гранатой два поэтических томика — Пушкин и Хлебников.3![]()
Одной этой строчки, этого “свободного стиха” с уникально-лапидарным олицетворением моря и самоустранением, кажется, достаточно, чтобы почувствовать, еще не зная: перед нами настоящий Поэт. Не версификатор, не беллетрист, не строчкогон — нечто подлинное, исходящее странным светом, необычным, но привлекательным. Поэт, забывающий о себе (и потому сам нуждающийся в чем-то вроде „Охраняется государством”),4![]()
Постепенно, не очень заметно и разными путями эти запасы начинают осознаваться. Хлебникова цитируют все чаще. Но не слишком ли часто наше потребительское цитирование скользит все по той же поверхности источника? Какова его действительная глубина? Как проникнуть туда? Или Хлебников исчерпывается одним плоскостным подходом, а третьего измерения, не говоря уж о “четвертом”, — полностью лишен этот одинокий лицедей?
Эти вопросы — одни из многих, возникающих у филолога при первоначальном обращении к творчеству Хлебникова. Ряд подобных вопросов давно поставлен, но все еще как следует не обсужден. Причин такого положения немало. Нет недостатка и в мнимых ответах. Будетлянская метафора: ‹...› я — корень из нет единицы — обернулась горькой иронией. Конечно, прав был Маяковский, требуя „Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым” (XII, 28). Но ведь так заканчивался некролог Хлебникова, и это был упрек современникам живого поэта. А в том, что творчество Хлебникова живет, вопреки стольким попыткам предать гражданской казни самое имя поэта, сомнений быть не может.
Слово — пяльцы; Слово — лен; Слово — ткань ‹...› (см. ВГ 1979: 142). Уже в самом начале творческого пути Хлебников нашел эту четкую формулу своего личного отношения к слову. Позднейшие многочисленные статьи поэта по мере накопления им собственного поэтического опыта лишь развивали и детализировали ее общий принцип. Как бы ни относиться к этому опыту, сама формула поражает как зрелостью заключенной в ней диалектики филологической мысли, так и афористичностью выражения.
Метафорическая характеристика, которую дает Хлебников трем ипостасям поэтического Слова, прозрачна и в отличие от многих стихотворных метафор допускает (без особо значимых потерь смысла) перевод на повседневный язык и язык современной филологии. В первом приближении значение формулы таково: слово не только готовый продукт исторического развития или нечто кем-то произведенное и предназначенное для использования (ткань), не только материал для поэтических и иных преобразований (лен), но и инструмент этих преобразований (пяльцы).5![]()
Филологизм Тредиаковского, Пушкина или Брюсова — филологизм, традиционный для русских поэтов, — претерпевает в XX в. любопытные изменения. С одной стороны, например, у А. Белого, он находит выход в ряде конкретных, в частности стиховедческих, работ выдающегося общенаучного значения. Это уже не явление возрожденческого универсализма, характерного, скажем, для Ломоносова, и не энциклопедичность интересов, которая была необходима Пушкину как родоначальнику русского литературного языка новой эпохи и основоположнику русского реализма. Здесь мы имеем дело с поэтами — теоретиками поэтического языка XX в. и с поэтами — исследователями художественных фактов в их системе, будь это система “мастерства Гоголя”, одного только русского четырехстопного ямба или “всего лишь” частной лексической сферы. В этом ряду показательны, например, статья «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятьи природы», написанная А. Белым в 1916 г., этюды поэтического самоанализа типа «Как делать стихи» Маяковского, специальные пушкиноведческие работы поэтов (более “академичные”, как у Ахматовой, или “субъективные”, как у Цветаевой), или, наконец, «Разговор о Данте» Мандельштама, где обобщены и многолетние раздумья поэта-ученого над проблемами поэтической семантики, художественного смысла.
Это — собственно научное, независимо от индивидуально-эмоциональной формы, объективное познание различных сторон словесного творчества, большей частью в его общепризнанных вершинах. Такой филологизм может быть назван реалистическим. С другой стороны, в те же самые годы развивается — именно Хлебниковым — филологизм иного рода. Он не отделен от реалистического филологизма непреодолимым рвом: лучшее тому доказательство — высокие его оценки не только такими поэтами, как Маяковский или Мандельштам, но и такими филологами, как Тынянов или Якобсон. Можно было бы назвать этот особый род филологизма фантастическим, однако, не в осудительных значениях “являющийся фантазией” или “несбыточный, невероятный”, а лишь в более спокойном смысле, “похожий на фантазию”. Предпочтительнее все же определить его как “поэтический” или же, учитывая многозначность и этого эпитета, как филологизм “экспериментальный”. Отважно экспериментируя на себе, поэт получил уникальную возможность обнаружить в современном ему поэтическом языке новые и многообещающие выразительные возможности, широко использовать их с различным эстетическим эффектом и даже описать некоторые из результатов своего опыта в необычных для современников терминах экспериментальной филологии. Пока сравнительно небольшая часть языковых экспериментов Хлебникова нашла отражение в литературе. (Показательны здесь работы типа Weststeijn 1978 и Vroon 1975. Новую книгу Р. Вроона автор еще не мог учесть).
Хлебников и эксперимент — большая тема, значение которой выходит далеко за рамки и поэзии, и филологии и которая может быть раскрыта лишь в специальной работе по теории научного и художественного познания XX в. в их взаимосвязях. Но то, что филологизм Хлебникова имел экспериментальный характер, кажется несомненным уже сейчас, если не в абсолютном начале научного исследования его творчества, то в исходе причудливо затянувшейся дебютной стадии, при переходе к систематическому и интенсивному изучению места этого поэта в литературном процессе и в мировой филологии, когда становится, наконец, понятно, что без разработанной истории поэтического языка история поэзии предстает лишенной важнейшего качества ее, поэзии, эстетического развития и бытования.
В литературно-художественной критике последних десятилетий и среди высказываний “мастеров о мастерах” представлены чуть ли не все возможные оттенки отношения к художественному эксперименту. Вполне естественно, что при этом почти обязательным, если не единственным объектом оценок оказывается своеобразное творчество Хлебникова, который хорошо сознавал, что он “белый ворон” русской поэзии (см. его стихотворение под условным заглавием «Конь Пржевальского»).
Известный поэт Кайсын Кулиев занял здесь категорическую и в общем довольно нетерпимую позицию: „А вот эксперименты... Они должны оставаться в мастерской художника. У Хлебникова, например, я люблю не эксперименты, а его прекрасные стихи!”6![]()
![]()
Можно ли примирить разноречивые акценты в таких высказываниях следующими словами писателя С. Залыгина: „Хлебников был писателем для Маяковского. Маяковский был писателем для миллионов”8![]()
![]()
![]()
Так или иначе, но хлебниковский идиолект должен рассматриваться и (хотя и не прежде всего) как полноправный лингвопоэтический эксперимент. В этом аспекте творчество Хлебникова представляет собой явление чрезвычайно важное для лингвистики: его тексты, можно сказать, задолго до современных нам идей модальной логики (С. Крипке, Я. Хинтикка и др.) изобилуют фактами, которые как бы напрашиваются на интерпретацию в рамках “семантики возможных миров”. Но именно потому, что эксперименты, осуществляемые поэтом, относятся не к общенормативной языковой, а к собственно эстетической области словопреобразования, они неотделимы от его идиостиля, входят в него как неотъемлемая часть. Это не значит, что читатель Хлебникова лишается “права на избирательность любви”, — можно, конечно, подобно Кайсыну Кулиеву и противопоставлять эксперименты в узком смысле слова “прекрасным стихам” поэта. Не исключено, однако, что и эксперименты могут заслужить оценку “прекрасные”. К сожалению, осмыслены эти эксперименты пока почти исключительно на любительском уровне “нравится/не нравится”. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что даже совсем недавно открытая поэзия декабриста Г.С. Батенькова, интересного поэта-экспериментатора, но очень отдаленного предтечи XX в., интерпретирована и оценена в наши дни в целом (в результате исследования Илюшин 1978) на базе более высокой филологической культуры (и с человеческой отзывчивостью, предполагаемой ею),11![]()
Слова Маяковского о „производителе”, цитированные выше, вероятно, надо понимать сейчас в том смысле, что “поэтом в душе” должен стать и читатель, что нельзя бездумно “глотать” сложные поэтические произведения и что граница между потребителем и производителем может быть подвижной. Напомню, что Хлебников называл себя изобретателем в противовес приобретателям. “Производитель”, остающийся всего лишь “приобретателем”, — это, конечно, не та фигура, которую имел в виду Маяковский. Как бы то ни было, хочется толковать слова Маяковского таким образом, что необходимо (со)творческое, непотребительское отношение к любым текстам Хлебникова.
Но даже в таком примирительном подходе к экспериментам перед филологией все равно останется трудный вопрос. В самом деле, ведь необходимо еще как-то определить, выделить и описать именно те „жизнестойкие элементы в экспериментальной работе над словом у Хлебникова, Асеева, Тычины, Лахути, Заболоцкого, Чиковани”, которые „были взращены на национальной почве и потому оплодотворяли поэзию”, если воспользоваться цитатой из недавней работы критика Ал. Михайлова.12![]()
![]()
Ситуация еще более запутается, если вспомнить недвусмысленное признание Бориса Пастернака в его автобиографии «Люди и положения»:
Автор этих слов выглядит убежденным противником эксперимента. Однако как раз “поиски новых средств выражения” резко отличали язык книги Пастернака «Сестра моя — жизнь». „Неслыханная простота” далась и этому поэту далеко не сразу. К тому же известно, насколько не “второпях”, а “задумываясь” и прибегая к собственно филологическим разысканиям, работал Пастернак над своими переводами, когда проблема языка неизбежно обнажалась. Несомненно, что “крайний” путь Хлебникова оказался ближе и понятнее Маяковскому, Мандельштаму и Заболоцкому, чем Пастернаку, ближе Багрицкому, чем Ахматовой, ближе Цветаевой, чем Есенину, ближе Сельвинскому, чем Луговскому, и, конечно, ближе Асееву, чем Твардовскому, а в предшествующем поколении — ближе Вяч. Иванову и особенно А. Белому, чем, например, позднему Брюсову,16![]()
![]()
Так, почти каждая из известных (выше приведена лишь небольшая часть) оценок хлебниковских экспериментов вызывает желание спорить, уточнять, объяснять — разбираться в сущности самого явления поэтического эксперимента вообще и хлебниковского экспериментального филологизма — в частности. Пока же споры не лишены и трагикомического элемента. Стоит, допустим, одному критику заметить: „Поэтический эксперимент необходим. Важна даже такая сложная лаборатория стиха, какая была у Велемира [sic!] Хлебникова”,18![]()
Между прочим “народ-языкотворец” тем и занимается, что “рассеивает в будущее” языковые формы, содержательные, как любые формы языка . Поэты, не успевшие извлечь из найденных ими форм всего потенциально присущего им содержания, тоже как будто не подходящий объект для иронии. Что же касается “абсолютной шкалы”, которой вот уже столько лет владеет втихомолку известный критик, то у нее есть и иные словесные обозначения. Нередко разные обертки оставляют неизменным старое патентованное средство. Категоричность суждений может выступать и в форме риторического вопроса, в частности такого: „Разве не был, например, талантлив Велемир [sic!] Хлебников? А что осталось от его творчества по серьезному счету?”19![]()
Итак, “абсолютной шкале”, оказывается, предшествовал “серьезный счет”. Почему же и та и другой — понятия достаточно строгие — не были предъявлены для всеобщего сведения в виде результатов скрупулезного анализа, допускающего проверку и критическое обсуждение, а просто спускаются “экспериментаторам”, читателям и филологам в форме некоторого откровения, нормативистского предписания? Никто никого, разумеется, не может — да и не хочет — заставить любить Хлебникова и даже просто ценить. Но стоит ли во что бы то ни стало заставлять нас презирать спорного (но выдаваемого за бесплодного) поэта, лишенного возможности ответить любителям “шкал” и “счетов”? Конечно, и “плюсовые” оценки нуждаются в аргументации, но в отличие от “минусовых” они призывают к пониманию, предполагают дальнейшие исследования, не довольствуются нынешним положением дел в хлебниковиане.
Так, например, оценки Хлебникова Мандельштамом, при всей присущей им заостренности, представляются куда более перспективными, чем филиппики его антагонистов. Ср., в частности, следующий пассаж из статьи «Буря и натиск».20![]()
Между тем и научная филология пока не выработала общепринятого и четкого отношения ни к поэтическому эксперименту вообще, ни к экспериментальному филологизму поэтов. Понятие так называемой поэтической этимологии (ср. заносчивый нос у Маяковского) утвердилось в науке, но, пожалуй, именно как некоторое изолированное явление с очень ограниченными возможностями.21![]()
![]()
С формулой Тынянова непосредственно перекликается знаменитая оценка Хлебникова Маяковским как „Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами” (XII, 23). При всей яркости этого образа до сих пор остается неясным, в чем же собственно состояло “колумбианство” Хлебникова, что конкретно он “открыл”, на каком “языке” (или “языках”) говорил этот удивительный Колумб, он же — еще более удивительный абориген открытой им Вест-Индии далекой, оказавшейся столь близкой позднейшей поэзии. Пока не поняты и строго не описаны “материковый” и “островной” языки Хлебникова, очевидно, что любые его оценки будут носить интуитивный, если не произвольный характер. Принимая или отвергая упомянутую формулу Тынянова, исследователи должны сделать упор не столько на очевидном “новом” и “семантическом”, сколько на “системе”, на охвате целого хлебниковского “языка”, как бы сложно и противоречиво, многоярусно и многообразно это целое ни представало воображению.
Здесь, пожалуй, главная трудность научного подхода к идиостилю Хлебникова. Не говоря уже о трагическом положении дел с достоверной текстологией его произведений (несмотря на усилия таких ученых, как Н.Л. Степанов и прежде всего — Н.И. Харджиев), а также с множеством текстов, остающихся неразысканными или неизданными, и отвлекаясь от объективных трудностей интерпретации и комментирования поэзии и прозы Хлебникова, надо подчеркнуть основное препятствие для успешного осмысления и освоения его творчества — почти полное отсутствие самой первоначальной систематизации материалов хлебниковского идиолекта. Исключения, подобные работе Костецкий 1975, очень немногочисленны.
Не только психика (деятельность, личность) „имеет и свою вне-сознательную модификацию” (Шерозия 1978:776), но и язык. В поисках звездного языка Хлебников (но не Крученых) в известной мере предвосхитил современные эксперименты по выявлению того “подъязыка”, который соответствовал бы подсознанию. Не вдаваясь здесь в обсуждение этой еще не освоенной лингвистикой темы, отметим, что сохранившаяся среди рукописей поэта статья «Ответ Фрейду»23![]()
Чтобы стало возможным обсуждать идиолект и идиостиль Хлебникова (и соответственно — его художественное творчество) как типологические явления, необходимы, как минимум “цитатные суммы” для отдельных слов, используемых поэтом. Однако начатая было в Московском университете штата Айдахо (США) работа по подготовке конкорданции к произведениям Хлебникова, насколько известно, не получила развития. Поэтому ситуацию в хлебниковиане нельзя считать удовлетворительной, хотя, казалось бы, мы, кроме уже названных исследований, располагаем и такими обобщающими (и очень разными по методологии) работами, как Гофман 1936, Lönnqvist 1979, Markov 1962, Mirsky 1975, Степанов 1975, Харджиев 1967 и 1975, Holthusen 1974, а также обнадеживающим множеством публикаций Г. Барана, Р. Вроона, Р.В. Дуганова, Вяч. Вс. Иванова, М.В. Панова, З. Паперного, А.Е. Парниса, Э.В. Слининой, В.И. Струнина, П.И. Тартаковского, Цв. Тодорова, Б.А. Успенского, Л. Шнитцер, Р. Якобсона и ряда других авторов. К большинству этих работ будет повод обратиться далее по ходу обсуждения различных проблем “грамматики” хлебниковского идиостиля.
Поздний Хлебников с ужасом осознал, что он никем не видим,
Несмотря на то, что функцию таких сеятелей уже в течение десятилетий выполняют многочисленные и, как правило, вполне квалифицированные, а то и выдающиеся исследователи, “урожайность” их деятельности пока не очень велика. Тем временем с хлебниковских текстов “снимаются пенки” и вне исследовательской практики, в частности в литературе — как художественной, так и научно-популярной.
Известно признание Маяковского: „Я в долгу перед бродвейской лампионией ‹...›”. Хлебников не оставил “долгов”, он написал обо всем, “успел” охватить все, что хотел, хотя и не так, как смог бы в дальнейшем. И этой широте поэтического охвата мира он обязан тем, что так много этапных сборников стихов в послесимволистской русской поэзии XX в. своими художественными идеями и ключевыми словами пересекается с его творчеством. Существенно, например, что «Камень» и «Бег времени» находят (или представляют собой) отзвук в образе времышей-камышей, его утопиях типа «Мы и дома», «Город будущего» или «Время — мера мира»; «Волны» вызывают в памяти «Море», образ «гаммы будетлянина» и строчку Волны, синие борзые; «Персидские мотивы» — «Трубу Гуль-муллы»; «Лад» — «Ладомир» и многое другое; даже «Книга про бойца» имеет переклички с «Ночью в окопе»; и т.д. Понятно, что у дервиша русской поэзии, в жизни часто не имевшего шубы, в стихах почти нет поэтизации блоковской или “полублоковской” вьюги, но строчка Русь — ты вся поцелуй на морозе! (V, 67) связывает Хлебникова и с зимними мотивами у поэтов XX в.
Вспомним также, что, с одной стороны, пролеткультовские “кузнецы” перекликаются с «Кавэ-кузнецом», а с другой — “Госплан литературы” в чем-то вульгаризует и заключительные строчки «Ладомира»: Черти не мелом, а любовью, / Того, что будет, чертежи ‹...› Если к тому же поискать, кто еще из русских писателей выдвинул слово, давшее название журналу («Смехач»), то место Хлебникова в самом первом ряду русских поэтов XX в. будет обозначено с несколько большей точностью, чем это обычно для академических курсов истории русской литературы.
По воспоминаниям Ю. Анненкова, Блок говорил, что поэзию Хлебникова недостаточно только читать: ее следует изучать.24![]()
Понятна в этих условиях преимущественно интуитивная тяга к образу “таинственного” Хлебникова. Этот образ особенно характерно, открыто и наглядно присутствует, например, в недавней книге стихов поэта-филолога Юрия Минералова «Эмайыги» (Таллин: Ээсти раамат 1979). Здесь и эпиграфы из Хлебникова, и другие упоминания его имени, и множество случаев внутреннего склонения слов, или паронимической аттракции, и, наконец, стихотворение «Хлебников».
В этой связи тем более уместно напомнить из немалого количества стихотворений, посвященных Хлебникову, хотя бы такие, как «Сон» Н. Асеева, «Хлебников и черти» Л. Мартынова, «Велимир Хлебников в казарме» С. Маркова, «Перепохороны Хлебникова» Б. Слуцкого, а из довоенных — «Хлебников в Персии» С. Гудзенко и «Хлебников в 1921 году» М. Кульчицкого.25![]()
Самостоятельная задача — выявить упоминания Хлебникова в поэзии, например, у А. Ахматовой эпиграф из «Войны в мышеловке» в ранней редакции «Поэмы без героя» (Падают Брянские, растут у Манташева. / Нет уже юноши, нет уже нашего — см. Хл II, 247), а также эпиграф из «Жути лесной», превратившийся в заглавие-стихотворение «Подвал памяти» (1940), строчка И птицы Хлебникова пели у воды у Н. Заболоцкого в стихотворении 1936 г. «Вчера, о смерти размышляя» или у него же образ «зарытого в новгородский ил» поэта в «Торжестве земледелия» (1929– 1930), эпиграф Русь! Ты вся — поцелуй на морозе (см. Хл V, 67) к циклу М. Кульчицкого «Самое такое (стихи о России)» или строчка Хлеба нет, но зато есть Хлебников! у О. Сулейменова в стихотворении «Жажда».
Эпиграфы из Хлебникова коварны. Своему стихотворению «Лермонтов. 1841» Михаил Дудин предпослал хлебниковские строки из стихотворения «На родине красивой смерти, Машуке...» (III, 181):
„Это был отчаянный со стороны автора поступок, — пишет критик, — взять такой эпиграф. Он, емкий и глубокий, съел все огромное стихотворение Михаила Дудина, которое — в лучшем случае! — выглядит расшифровкой его”.26![]()
Менее опасны и становятся привычными эпиграфы из Хлебникова в работах публицистов. Ср., например, обзор некоторых книг “новых философов”, предваряемый строчками “из В. Хлебникова”: Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое! Толпа хочет веселого. Что поделаешь — время послеобеденное.27![]()
Прямых ссылок на Хлебникова в широко известных стихотворениях ряда поэтов может и не быть, но роль хлебниковского идиостиля тем не менее может признаваться очень значительной, а то и исключительной. Вот, например, два подробных высказывания об оценках Хлебникова Маршаком (характерно здесь и недоумение в связи с синтезом “хлебниковского” и “пушкинского”):
Не одинок в то же время, конечно, и такой приверженец Пушкина, как поэт А. Решетов, полагающий, что не имеет смысла тратить „ученую эрудицию, чтобы представить экспериментальную работу Хлебникова, в том числе преобладающие у него опыты узколабораторного значения, как новаторство в русской поэзии”.30![]()
Вообще же в наши дни внимательный читатель встречается с Хлебниковым в самых неожиданных местах. Вот четверостишие, автор которого очень далек — в своей “поэтике простоты” от будетлянской “поэтики сложности”:
Эти строки Н. Рыленкова всякому, кто знаком с Хлебниковым хотя бы по изданию его стихотворений и поэм в малой серии «Библиотеки поэта» (1960), сразу же напомнят первоисточник:31![]()
Эти же строки приобретают иное, хореическое обличье в устах героя-композитора, „низенького седого человека в потертом пальто”, из «Беглых встреч» К. Паустовского: „Человек я одинокий, мне не много надо. Как сказал некий поэт: „Только корку хлеба, кружку молока да вот это небо, эти облака”. Первоисточник поэта, как видим, живет полуфольклорной жизнью.
Другой пример, пожалуй, еще более неожиданный. В рассказе Ю. Нагибина «Как был куплен лес», казалось бы, ничего общего не имеющем ни с прозой, ни с поэзией Хлебникова, тот же читатель обнаруживает такую фразу: „Другой собеседник был ей [Надежде Филаретовне фон Мекк] невидим и неведом”. Но ведь это уже было сказано раньше Хлебниковым... о Разине:
Неважно сейчас, с чем мы имеем дело в подобных случаях (а их не так мало) — с независимым ходом авторской мысли или с подсознательным заимствованием. Едва ли можно предположить здесь (кроме прямой, пусть неточной цитаты у Паустовского) умышленные аллюзии на хлебниковские тексты. Как бы то ни было, даже не выходя на поверхность, некоторые строчки Хлебникова присутствуют в современной литературе как бродило.33![]()
![]()
„Слова поэта суть уже его дела”, — сказал Пушкин. Не только полуфольклорные и афористические черты поэзии Хлебникова, но и его легендарный образ и все его творчество открыты огромному множеству современных общественных проблем. Даже нынешнее “неполное признание” его роли позволяет предположить, что будет возрастать уже заметная популярность ряда строк этого поэта как потенциальных эпиграфов на разные случаи жизни. Не исключено, что, как когда-то было с «Горе от ума» Грибоедова, пусть не половина, но все же значительная часть хлебниковских строк войдет не в пословицы, так в эпиграфы. По точному замечанию Ю. Тынянова, Хлебников не “искал”, он “находил”.
Однако здесь скрыта проблема, не менее сложная, чем словесная форма хлебниковского наследия. Лишь устойчивым абсолютизированием таких характеристик Хлебникова, как “не только невежда, но и психически больной” и т.п., как человек, творивший „словесный хаос, стремясь выразить только мучительную путаницу своих узко и обостренно индивидуальных ощущений”,35![]()
![]()
![]()
Хлебников действительно был одним из первых, кто всем своим творчеством указывал на важность для человека самого пристального вглядывания в “среду обитания” без какой-либо дискриминации живого и неживого, на необходимость вчитаться в “рукопись мира”, чтобы произвольно не нарушить равновесия, не подорвать единства человека и природы (см. ВГ 1976). Хлебников относился к природе как серьезный естествоиспытатель; поэтому вполне правомерно сопоставление его имени и имени такого выдающегося ученого, как академик Вернадский, которое недавно предложил писатель-фантаст Геннадий Гор (1968:181). Разум мировой — это не синоним, но своеобразный предтеча ноосферы, характеризуемый стремлением покорить не природу, а Рок!
Настойчивые, хотя пока и спорадические сопоставления имени Хлебникова с именами различных деятелей русской и мировой культуры, проводимые по разным поводам в литературе, сами по себе знаменательны, обычно интересны и, как правило, перспективны. В дополнение к уже сказанному здесь можно привести, не заботясь о систематизации, краткую и, разумеется, не исчерпывающую сводку таких сопоставлений. При случае будем отмечать и их источник (не всегда первый).
Хлебников и Пушкин (Тынянов 1928, Слинина 1970 а и мн. др.; см. ниже специальный раздел), и Гоголь (Белый 1934, Федин 1973), и Грибоедов (Якобсон; см. Хл IV, 339 и НП, 398), и ученые XVII в. (Гофман 1936), и Некрасов (Степанов 1960),38![]()
![]()
Вероятно, самое спорное из такого рода сопоставлений принадлежит Р. Якобсону (1962:632), находящему сходство между творчеством Хлебникова, Стравинского, Пикассо, Джойса, Брака и Корбюзье. Любопытно, что подобная же аналогия, но “от противного”, со знаком минус (аналогия “псевдогениев”) недавно была выдвинута и П. Палиевским (1966:79). В последнем случае именно безоговорочный “минус” вызывает и несогласие и необходимость в отпоре. Так что и эта тема остается открытой.
Но этого мало. В более или менее общей форме уже поставлены и такие темы, как Хлебников и Скрябин (Харджиев 1970:97–98), и детская литература (Faryno 1967), и архетипы Юнга (Аверинцев 1970:136; отчасти Панченко и Смирнов 1971), и «Искусство поэзии» Верлена (Дуганов 1974), и интерлингвистика (Гофман 1936 и др.),40![]()
![]()
Исчерпывающие сводки соответствующих материалов необходимы, поскольку филология заинтересована в том, чтобы выявить у Хлебникова притяжения и отталкивания в рамках интересовавшей его мировой культуры42![]()
![]()
![]()
Альтернатива непредвзятому прочтению одна — произвол. Он, впрочем, сказывается и тогда, когда поэты — последователи Хлебникова с наилучшими намерениями пытаются сами, не дожидаясь профессиональных филологов, разобраться в поэтике старейшего из Председателей Земного шара. Асеев еще в 1959 г. назвал Хлебникова „Баратынским двадцатого века” (см. Асеев 1961: 16). Позднее Л. Мартынов (1973 : 67–68) поделился с читателями журнала «Юность» своими разысканиями в области хлебниковского пушкинианства. Он обнаружил “пристрастие” Хлебникова к отдельным образам и стилистике Баратынского, а через них — к образам и настроениям Пушкина. К сожалению, филологическая достоверность устанавливаемых Л. Мартыновым параллелей невелика. Сопоставления (в частности, между поэмами «Эда» и «Шаман и Венера») проводятся им на уровне отдельно взятого слова или — что не лучше — по самому общему сходству ситуаций и чувств. Доказательного обоснования того, что отмечаемые сходства — нечто большее, чем простая случайность, в статье Л. Мартынова нет. Другое дело, что эта статья заслуживает внимания как попытка утвердить связи Будетлянина с классикой. Но связь Хлебников — Пушкин едва ли нуждается в опосредовании именем Баратынского. Во всяком случае Э.В. Слинина (1970 а) в работе, оставшейся Л. Мартынову неизвестной, исследовала эту связь без обращения к посредничеству автора «Эды».
Отметим здесь же четыре параллели, которые могут обозначить направления дальнейших углубленных исследований.
1. Хлебников и Достоевский . Это — “параллель с классикой”. Как будто еще не привлекала внимания сентенция в «Детях Выдры» (5-й парус), предшествующая известному четверостишию о ритмах (“метрах”) Вселенной:
Сентенция, которую мы имеем в виду, представляет собой аллюзию на знаменитую сцену из «Братьев Карамазовых»:
2. Хлебников и Рерих . Это — одна из “параллелей в культуре XX века”; в отличие от первой (ср. достоевскиймо — Хл II, 89, а также Дуганов 1974), она как будто вообще не отмечалась. Дело, конечно, не в таких частных совпадениях, как ранний интерес Рериха к птицам, его любовь к творчеству А.К. Толстого, или планы Хлебникова относительно постройки круго-Гималайской железной дороги (Хл V, 156), а в „сокровенной мысли” Рериха „о синтезе всех видов творческого устремления”.46![]()
![]()
3. Хлебников и Яхонтов . Это — параллель того же плана, но специфическая для советской культуры. Литературная композиция В.Н. Яхонтова «Поэты» (раздел «Поэты представляются») включала в себя текст из стихотворения Хлебникова «Ручей с холодною водой...» (1921), начиная со слов Прощайте все! Прощайте, вечера ‹...› и до конца (Кувшин на голове / Печальнооких жен / С медлительной походкой).48![]()
![]()
![]()
4. Хлебников и Хармс . Это — параллель, характерная для “школы Хлебникова” в более узком смысле. Параллели с обэриутами отмечались неоднократно (см., в частности, Турков 1965, Македонов 1968 и др.), но в данном случае речь идет о творческом и веселом использовании Хармсом в неподписанном стихотворении «О том, как мы на трамвайном языке разговаривали» (ж. «Чиж», 1935, № 1) звукообразов из «Зангези» Хлебникова: Бруву, Руру и Гоум, Боум, Биум, Баум.51![]()
Однако, где сопоставления — там и легенды.
В свое время Ю.Н. Тынянов с полным основанием выступил против манеры обращения к творчеству поэта в жанре, который он выразительно обозначил “и Хлебников”.52![]()
В список городов, особенно тесно связанных — непосредственно или своими окрестностями — с жизнью и творчеством Хлебникова, кроме Астрахани, Москвы, Петербурга–Петрограда–Ленинграда и Новгорода, естественно войдут и такие, тоже, казалось бы, развитые в филологическом отношении современные города, как Казань, Харьков, Баку, Саратов, Ростов-на-Дону, Ярославль, Нижний Новгород–Горький, Тверь–Калинин. (При стремлении сделать этот список исчерпывающим вспомнятся также Киев, Одесса, Симбирск–Ульяновск, Царицын–Волгоград, Пятигорск, Ровно, Лубны, Херсон, Сурож–Судак, Пермь...). Между тем ни в одном из названных городов (и где бы то ни было) нет сколько-нибудь широко организованного, хотя бы краеведчески ограниченного объединения хлебниковедов.53![]()
Сейчас уже видно, насколько опрометчивым в лингвистическом отношении было стремление ряда исследователей 20-х годов противопоставить немногочисленные „классические стихи” Хлебникова „мучительному мусору” его словотворчества (Винокур 1924:224). С читательской точки зрения Г.О. Винокур был почти совершенно прав, когда утверждал, что „стихи пишутся не для ученых: мы стали слишком историками, мы отвыкли от конкретного поэтического восприятия, — от той непосредственности, которая одна только способна ввести нас в сердцевину поэтического слова” (там же, с. 225–226). Но только “почти”. Потому что нельзя ученому стать “слишком историком”, а “непосредственность”, как хорошо известно, необходимое, но недостаточное условие полноценного восприятия поэзии XX века в очень существенной ее части. Нужно овладевать языком поэта, проникаться им, понимать его. Винокур–читатель Хлебникова подавил Винокура-филолога и результаты такого порабощения, как увидим, оказались поучительно-печальными.
Вообще овладение хлебниковским идиостилем во всех его разновидностях и в целостном единстве оказалось чрезвычайно трудоемким, даже драматичным процессом, и нельзя сказать, что в нашем обществе или хотя бы только в филологии этот процесс уже в основном завершен. Но показательно, как неуклонно развенчивается “дурная традиция”, твердящая о “малопонятности многих вещей Хлебникова”; при ближайшем рассмотрении она, как правило, действительно, „оказывается глубочайшим заблуждением критиков” (Иванов 1967:170). Винокур еще писал (1924:222) о „мрачных провалах хлебниковского косноязычия” — в 70-е годы критика, говоря о том, какой путь в поэзии избрала Ксения Некрасова, условно именует этот “путь Хлебникова” — уже “высоким косноязычием”.54![]()
Говорилось (и много раз) об отсутствии у Хлебникова в его опытах чувства меры. Вот одно из типичных высказываний, в подтексте “опирающееся” на Маяковского: „Вспомним трагедию Велимира Хлебникова — гипертрофированное внимание к форме и беспечность по отношению к содержанию сделали его только поэтом для поэтов, а не для читателей”.56![]()
Сравните, однако: „Что такое в конце концов это пресловутое чувство меры? Его не было у Бальзака, не было у Рабле, не было у Сервантеса, но зато им в совершенстве обладали многие вполне посредственные художники. Есть ли чувство меры ‹...› у самого Гоголя, наконец? А Достоевский? А „Клим Самгин”? ‹...› полотна Врубеля. ‹...› Поэт В.А. Пяст, друг Блока, ‹...› сказал очень точно: „Понять Мейерхольда трудно только потому, что его трудно вместить”.57![]()
Что касается пресловутого “поэта для поэтов”, то вот превосходное (пусть не бесспорное) рассуждение таджикского поэта Мумина Каноата (1977:4): „Уже высказывалась мысль о том, что В. Хлебников давно перестал быть „поэтом для поэтов”. Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что вместе с В. Хлебниковым в русскую поэзию пришло понимание слова как первоосновы стиха наперекор мелодике. Причем пришло с Востока ‹...› В. Хлебников по существу достиг того, о чем мечтал Гете, — западно-восточного синтеза в поэзии”.58![]()
Винокур не был одинок. Для 30-х годов характерна оценка языкового новаторства Хлебникова как „одной из самых крайних и систематически проведенных тенденций к обособлению поэтического языка и его отрыву от общего языка на основе фетишистского отношения к средствам выражения и своеобразного лингвистического иллюзионизма” (Гофман 1936:3). Практика хлебниковского творчества опровергает это категорическое утверждение: (1) идиолект Хлебникова не одномерен, но установка на “общий язык” присутствует даже в самых крайних экспериментах поэта; речь может идти лишь о расширении границ поэтического языка; (2) “фетишистское отношение к средствам выражения” оказывается фикцией, поскольку главной для Хлебникова всегда была установка на содержание (см. ВГ 1976: 184 и Урбан 1979: 160–161);59![]()
Можно довольно точно определить время, когда стали крепнуть легенды о Хлебникове, кульминацией которых была уже упоминавшаяся статья Б. Яковлева (1948). От методологии этой статьи велимироведение не вполне оправилось и поныне, однако некоторые из легенд о Хлебникове уже произрастали задолго до ее появления.
Не далее, как в 1928 г., В. Друзин, признавая Хлебникова „крупнейшим поэтом XX века” и провозглашая, что поэт проник „в глубины структуры слова”, вполне резонно заключал, что „языковое богатство Хлебникова требует специально-лингвистического анализа”.60![]()
![]()
Эти полтора года в самом деле стали переломными в отношении к Хлебникову. “Заумь” становится жупелом для исследователей, вопреки спокойному и принципиальному разъяснению Ю.Н. Тынянова (1928:25): „Его языковую теорию, благо она была названа „заумью”, поспешили упростить и успокоились на том, что Хлебников создал „бессмысленную звукоречь”. Это неверно. Вся суть его теории в том, что он перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле”. Тем не менее до сих пор самоуверенное “разоблачение нелепостей” хлебниковского словотворчества нет-нет и дает о себе знать.62![]()
Примером компромиссного плана может служить и раздел, посвященный Хлебникову в работе Русская литература 1972 г. Говоря о “заумном языке”, З.С. Паперный даже не вспоминает о Тынянове, не считая нужным принять его взгляды на заумь или опровергнуть их. Зато утверждается, что „заумный язык Хлебникова — не просто бессмысленный, в нем своя внутренняя последовательность” (с. 341). “Последовательная бессмыслица”, кажется, едва ли не хуже непоследовательной. Однако на самом деле бессмысленным является такой скорострельный подход к сложной проблеме. Что понимает З.С. Паперный под “заумным языком”, как этот последний соотносится со “звездным”, читателю осталось неясным.63![]()
И вот уже совсем недавно такой внимательный к подлинному смыслу творчества Хлебникова литератор, как А. Урбан, выступает пропагандистом опасно-невинного убеждения, что хлебниковская „теория и практика „заумного” языка лежит на поверхности и лучше всего описана и систематизирована” (Урбан 1979:158–159). Где же это? Оказывается, в работах Гофман 1936 и Степанов 1975:123–153. Спору нет, и та и другая работа внесли свой вклад в дело “описания и систематизации”. В то же время необходимо осознать, что не только Гофман, но и Степанов всего лишь прикоснулись к этой задаче, а не будучи лингвистами, по-видимому, не могли и сформулировать ее с достаточной полнотой, детализацией и пониманием значимости, присущей проблеме словотворчества. Едва ли не с работы Костецкий 1975 началась действительная систематизация пока еще ничтожной части того огромного материала, который ждет своего осмысления, но пока не извлечен из печатных и рукописных текстов поэта (ср. также Vroon 1975, Wetsteijn 1978 и ВГ 1981). Но еще достаточно силен, как мы видели, и нигилистический стереотип подходов к “заумному речетворчеству”, нашедший недавно столь показательное по беспомощности филологического анализа и предвзятости выводов отражение в упомянутой статье Ревякина (см. выше сн. 62).
По мере изживания экстремистских попыток “бросить” Хлебникова “с Парохода современности” крепнут голоса, трезво оценивающие этого Разина со знаменем Лобачевского логов и в наши дни как поэта не только особенно сложной, но во многом еще и не разгаданной творческой судьбы (Струнин 1977:61). Трезвость различных голосов этого рода, впрочем, относительна. Пример З.С. Паперного не единичен. Так, говоря о том, что Хлебников „стремился создать математизированную философию истории, в основе которой лежало представление о цикличности временного развития вселенной и человечества”, В.И. Струнин, как кажется, по инерции стиля мышления, характерного для многих упоминающих о «Досках судьбы», утверждает: „Нет необходимости доказывать утопичность устремлений Хлебникова” (там же, с. 62). Но почему же? Разве кто-нибудь уже доказал общую неправомерность “представлений о цикличности”? И разве родственные по духу идеи А.Л. Чижевского, признанные теперь с таким запозданием,64![]()
В этой связи, а также в предвидении роста внимания к Хлебникову стоит заметить, что “мода на поэта” может оказаться не менее опасной, чем замалчивание его реальной роли в творческих исканиях советской поэзии. “Мода” неспособна сама по себе критически отделять легендарное от реального и достаточно строго установленного. Ей свойственны к тому же дополнительные системы запретов, оговорок, предубеждений. Страх перед “модой”, с другой стороны, может привести к стремлению заранее определить границы “прикосновений”.
Так, А. Дымшиц, справедливо выступавший против “эстетической односторонности и кособокости” в отношении к этому поэту (см. ВГ 1975а:11), требовал отделить Хлебникова от “хлебниковщины”, „лучшее в наследии поэта — от потуг формалиствующих эпигонов, только компрометирующих его имя и творчество своими „прикосновениями”.65![]()
Едва ли, скажем, мы должны рассматривать “по этому ведомству” творчество поэта, в явной форме использующего опыт звездного языка Хлебникова, пусть соответствующие стихи эстетически оставляют нас почти равнодушными: „Слова на “го” обозначают нечто/возвышенное: /голова, го-ра,/го-лубизна, го-дина, го-рдость, го-сть. И, значит — го-род,/ес-ли на го-ре“ (В. Соснора. Крокодиловы слезы, 2).66![]()
Это касается и “переводческой моды”. Внимания здесь заслуживает та точка зрения, которую изложил недавно в интервью румынский поэт и переводчик Александр Иванеску: „На мой взгляд, — говорил он, — нужно переводить, кроме классиков, те произведения современной литературы, которые завтра станут классикой благодаря своему духовному содержанию и своим языковым новшествам. Для меня это относится прежде всего к поэзии. Сейчас я работаю над переводами стихов Велемира (увы, опять Велемира. — В.Г.) Хлебникова и вижу, как этот поэт влияет на современный поэтический мир”.67![]()
До сих пор не развенчана одна из наиболее опасных в лингвистическом плане легенд. Не кто иной, как Г.О. Винокур, известный своей филологической проницательностью, счел возможным присоединиться — почти безоговорочно (1943:19) — к тезису, развивавшемуся в работе Гофман 1936: „Самая характерная черта хлебниковского творчества заключается в том, что главным героем его поэзии является язык: не элементом, не материалом, а основным содержанием, нередко единственным ‹...›” (с. 235). Авторитет Винокура освятил для лингвистов эту беспрецедентную аберрацию, как бы выводящую поэта за пределы “нормальной литературы” в область метаязыкового творчества. При этом не помогали вполне искренние признания указанных исследователей о “глубоком художественном интересе”, который представляет поэзия Хлебникова, о его „нескольких очень значительных” художественных произведениях и т.п. Ведь метаязык — в общем-то не предмет для занятий добропорядочных лингвистов, интересующихся языком самой поэзии, а не языком как “единственным” (!) ее героем. А литературовед послушно повторяет “творимую легенду”: мол, занятый “революцией в области слова”, Хлебников ни о чем другом и не помышлял (Перцов 1966:46–47), — хотя и признает далее, с полезной и характерной непоследовательностью, что „даже самые трудные страницы поэзии (всего наследия! — В.Г.) Хлебникова ждут своего вдумчивого читателя (исследователя! — В.Г.)” (там же, с. 59).
На самом деле, как уже приходилось писать (ВГ 1976), — точка зрения Гофмана и Винокура — это очень сильное преувеличение. Его отчасти объясняет верное убеждение самого Гофмана в том, что „Хлебников с небывалой остротой выдвинул ‹...› почти все основные проблемы языка поэзии, необычайно обострил чувство языка и внимание к нему” (1936:237). Другие причины указанной аберрации следует искать в особенностях развития нашей филологии, на протяжении ряда лет слишком легко “закрывавшей” проблемы. Главный предмет размышлений поэта, как правильно отмечал З.С. Паперный, — время (Русская литература 1972:338).
Нет никаких оснований говорить и о „пресловутой теории зауми” (Степанов 1975:6) даже в виде уступки легковерному редактору. Строго говоря, “теории” построения “зауми” в хлебниковском, а не в этикеточно-пошлом смысле слова “заумь” не существовало. “Воображаемую филологию” Хлебникова отличает от “воображаемой геометрии” Лобачевского, ее “прообраза” и “катализатора”, как раз отсутствие строгости, потребной для собственно научной теории, но размывающей свои границы в поэзии.68![]()
Было бы ошибкой, полемизируя с Гофманом и Винокуром, недооценить язык как героя и орудие хлебниковской поэзии. Отвергая легенду, искажающую мировоззрение Хлебникова, стоит заметить, что одним из самых главных героев язык должен стать именно для исследователей творчества поэта как путь к познанию сущности его вклада в искусство и науку о нем. Ниже будут приведены соответствующие материалы.
С другой стороны, основной легенде Гофмана–Винокура противоречат и иные столь же ошибочные их высказывания. Так, (1) В. Гофман (1936:240) заявлял, что „Хлебников был не началом нового, а скорее концом старого”. Здесь сказались нарочитые поиски архаизирующих тенденций у поэта, всегда и явно устремленного в будущее, откуда, по его убеждению, дует ветер богов слова (II, 8).69![]()
![]()
Лишь невниманием исследователей к текстам Хлебникова можно объяснить живучесть легенды о Хлебникове-архаисте.
Так, (2) уже независимо от Гофмана, Г.О. Винокур выдвинул поразительное обвинение против Хлебникова — обвинение в „презрении к слову” (!! 1943:19), которое сейчас как-то неудобно и опровергать.71![]()
Намного глубже в этом отношении оценил Хлебникова такой замечательный (и сам пока недооцениваемый) филолог, как Р.В. Иванов-Разумник, который в своей книге «Творчество и критика» писал о „влюбленности поэта в слово“ (1922:227).
Попутно упомянем об одной частной легенде, практически уже разоблаченной, — о том, что слово летчик придумал Хлебников. «Литературная газета» опубликованием заметки Рождественский 1979: 5 сделала полезное дело, разъяснив перед миллионной аудиторией поэтам К. Ваншенкину, А. Вознесенскому и Б. Слуцкому их заблуждение. (К тому же в середине 10-х годов Хлебников еще употреблял слово летчик в значении ’самолет’ — II, 229). Казалось бы, все в порядке. Но опровергая одну легенду, «ЛГ» не избежала другой, подозревая, впрочем, вместе с известными филологами, каждый художественный неологизм (“окказионализм”) в претензии на то, чтобы непременно, материально или только семантически (скажем, в случае метафоры), но войти в обыденный (общелитературный, нормированный) язык. Этот иллюзионизм живуч в журналистике, несмотря на многократные разъяснения лингвистов.
Но сами лингвисты, не опровергнувшие в явной форме утверждение о „лингвистической маниакальности“ поэзии Хлебникова (Винокур 1943:19; ср. Перцов 1966:59 и Урбан 1979:177), оказались повинными в том, что именно язык, феноменальный язык этого поэта остается недооцененным и попросту неисследованным. Свою роль здесь сыграла последняя из легенд, на которой мы вынужденно еще задержим внимание читателя и которая как бы фокусирует в себе другие важнейшие легенды, — миф о противостоянии Хлебников/Маяковский.
Это — чрезвычайно разветвленный миф, богатый самыми печальными методологическими предрассудками и последствиями. Он захватывает своими постулатами не одного Маяковского, но в известной мере и Асеева, которого тоже порой стремятся если не противопоставить Хлебникову, то хотя бы “оторвать” от него.
Так, например, Дм. Молдавский думает, что в поэме «Маяковский начинается» Асеев, пожалуй, преувеличивает влияние Хлебникова и на Маяковского, и на самого себя и что „в годы исканий“ дед поэта был для него „ориентиром более постоянным, чем ‹...› В. Хлебников“.72![]()
![]()
Можно сослаться и на такой факт. Сразу же по выходе в свет книги «Маяковский начинается» автор ее, Николай Асеев, сделал дарственную надпись на экземпляре книги, предназначенном Каменскому: „Дорогому и единственному Василию Васильевичу Каменскому, капитану корабля, на котором адмиралом эскадры поэзии прошел сквозь жизнь Велимир Хлебников, где дальнобойным орудием поворачивался Володя Маяковский, на котором я взбирался юнгой на мачты. Н. Асеев“.74![]()
Надо обладать особо изощренной и избирательной глухотой, чтобы игнорировать недвусмысленные и хорошо известные свидетельства Асеева о своем собственном отношении к Хлебникову и о „почти благоговейном“ отношении к нему Маяковского (Асеев 1961:280).
Тем не менее застоявшаяся легенда все еще злодействует.
Посмотрим, как в последние годы сопоставляются идиостили Хлебникова и Маяковского, например, в журнале «Филологические науки». Прямо скажем — удивительно необъективно для дипломированных филологов. Так, еще до начала какого бы то ни было собственного исследования Б.П. Гончаров (1976:10) уже формулирует грубо ошибочный общий вывод: „‹...› моменты, разделяющие Маяковского и Хлебникова, значительно более существенны, чем объединяющие их“. Что-то, впрочем, этих поэтов, оказывается, и сближало: „обостренное чутье слова, внимательное отношение к еще не использованным возможностям языка ‹...›, интерес к народному творчеству ‹...›, глубокий интерес к будущему ‹...›“ (там же). Но тут же начинаются всякого рода “хотя”, оговорки (и оговорки к оговоркам типа хотя... тем не менее), имеющие целью во что бы то ни стало развести “учителя” и “ученика” по разным идейно-эстетическим классам и увековечить местничество, навсегда пресекая (слушайте!) „попытки безоговорочного сопоставления в одном ряду творческих и эстетических позиций Маяковского и Хлебникова“ (15).75![]()
Попробуем, в методологических целях, извлечь из статьи Б.П. Гончарова переполняющие ее оппозиции, сознавая, конечно, что эта процедура — методически — может быть сопоставлена с чем-то вроде нарочитой литературоведческой “какографии”, надеемся, впрочем, не слишком заразительной. Вот что, примерно, мы получили бы:
Целостность поэтической системы / отсутствие такой целостности (10); правильное / неправильное отношение к поэтическому экспериментаторству (10–11); верный/неверный подход к использованию ресурсов “общенародного языка” (11); „глубоко содержательная художественно-выразительная система“ / “во многом” отсутствие таковой (12); нехарактерность “крайнего субъективизма” и “произвола” / характерность таковых (12–13); “лишь отдельные окказиональные слова” / „возведение [правда, лишь „порой”] принципа окказиональности в абсолют“ (14); принцип „максимально возможной выразительности“ / недооценка “базиса” — коммуникативной функции языка (14–15); борьба за читателя / „поэт для производителя“ (15); использование „всех ресурсов национального языка“ / попытка выработать новый язык, „резко отъединенный от общенародного“ (16).
Подкрепляется такое жесткое, чтобы не сказать бессмысленное и бесхозяйственное, противопоставление не системным анализом самого языка (а ведь претенциозный подзаголовок статьи гласит: “К проблеме концепции слова” (слова!)), а предвзятым цитированием отдельных высказываний, взятых вне их системы и поэтому подчас лишающих какого бы то ни было смысла само это противопоставление “бузины” и “дядьки”, как это наглядно продемонстрировано в заключительном абзаце статьи, в котором Хлебникову как бы антитетически отказывается и в использовании „ресурсов национального языка“, и в поэзии, „индивидуальной по своей форме“, и даже в „отчетливом устремлении в светлое будущее“ (16).
Как бы в обход настоятельных рекомендаций Б.П. Гончарова, В. Шкловский в недавней беседе с корреспондентами «Комсомольской правды» все-таки безоговорочно сопоставил „такие замечательные“ имена, как Горький, Блок, Маяковский, Хлебников, Мейерхольд, Ахматова, Асеев, Тынянов, Эйзенштейн.76![]()
![]()
А вот и другое, но столь же неизбежно-необходимое нарушение “запрета Гончарова”: „Имя Хлебникова неизменно возникает рядом с именами Маяковского, Асеева, Пастернака, Заболоцкого, Мартынова, Слуцкого, Сосноры... Он возвышается над ними огромной загадочной тенью.
Его поэзия значима и для поэтов совершенно другого характера и стиля, как Мартынов и Тарковский. Причем для всех он — один из предшественников“ (Урбан 1979:158; подчеркнуто мною. — В.Г.).
Любителям выискивать у Маяковского середины 20-х годов свидетельства его “отступничества” от учителя, намеки на переоценку им отношения к Хлебникову следует лишний раз напомнить содержание и заглавие статьи «Вас не понимают рабочие и крестьяне». Она написана Маяковским в 1928 г., и творчество Хлебникова по-прежнему играет важную роль в системе авторской аргументации против легковесной демагогии критиков. Отбиваясь от них, поэт и писал, что искусство не рождается массовым — оно массовым становится (М XII, 165). Нет, вероятно, другого поэта, который бы так нуждался в понимании этой истины читателями и исследователями, как Хлебников.
Представляя позицию Маяковского в докладе «Левей Лефа» (29 сент. 1928 г.) как решительный отказ от идей самовитого слова,78![]()
Мы — а остальные тем более — забыли, что лаборатория — это жизнь и мозг всякого ремесла“ (М XII, 184).
Больше того. Тогда же, в уже цитированной статье «Вас не понимают рабочие и крестьяне», именно стихи Хлебникова Маяковский недвусмысленно назвал „семенами и каркасами массового искусства“ (М XII, 165). Тем яснее становится устойчивое и далекое от всякой фетишизации отношение Маяковского и к опытам Хлебникова с самовитым словом. Утверждая в некрологе 1922 г., что „Хлебников дает только метод правильного словотворчества“, Маяковский до конца не изменил этой своей позиции. Хотя в собственном творчестве он воспользовался лишь частью хлебниковских “уроков”, зато тем быстрее сумел довести их до массового читателя.79![]()
![]()
Внося в том же 1928 г. поправки в текст автобиографии «Я сам», написанной в год смерти Хлебникова, Маяковский оставил без изменений в главе «Пощечина» знаменательные слова: „В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом“ (М I, 21).
Нельзя сказать, что попыткам насаждать мнимые или чрезмерные антагонизмы между крупнейшими советскими поэтами пока противостоят лишь известные работы Н.И. Харджиева (см., в частности, Харджиев 1970; см, также Новое о Маяковском 1958:84, 86 и Перцов 1966:63). К сожалению, итоговая работа Степанов 1975 фактически просто обходит такого рода антагонизмы, как бы не замечает их остроту. Между тем мирного сосуществования с агрессивно-ложной методологией быть не должно. И научное, и художественное познание терпят немалый ущерб из-за того, что в нашей филологии столь часто „по отношению к Маяковскому брали тон адвокатский (как будто он в этом нуждался!), по отношению к литературным современникам — прокурорский“ (Паперный 1963:20).81![]()
![]()
Правильным, продуктивным и перспективным представляется подход, который продемонстрировал поэт Николай Ушаков в книге «Седьмое поле»; отрывки из нее недавно были опубликованы.83![]()
У Блока — „своя губерния, своя Россия, свои итальянские города, — не бунинский Стамбул ‹...›, не степь с языками лиманов ‹...›, не хлебниковское устье Волги, не его Каспий — Персия“. И далее к сопоставлению привлекаются имена Маяковского, Ахматовой, Есенина, Пастернака, Сельвинского...
При этом сопоставление ни в малейшей мере не означает выравнивания. „Конечно, не все поэты равно внимательны и чутки к слову. У Хлебникова, Блока, Маяковского, Есенина, Демьяна Бедного, Багрицкого, Пастернака, Цветаевой, Асеева, Светлова, Тихонова, Мартынова, Смелякова, у лучших наших молодых поэтов свои „взаимоотношения” с языком, у каждого поэзия по-своему „отстаивается словом“ — этот перечень „по-разному чутких“ из рецензии на книгу Н. Асеева «Лад» (Паперный 1963:310) по справедливости возглавляет Хлебников. Подобное “главенство” не означает, что именно он — “лучший”, но по феноменальной чуткости к слову не только в конкретном контексте, но и в системе русского языка как почти необъятного для отдельного поэта творческого целого — от отдельного говора до языка всей предшествующей литературы и от новейшего выражения Даешь!84![]()
Маяковский сам, едва ли не первым, подчеркнул важность сохранения в отношении Хлебникова „правильной исторической перспективы“ и произнес в том же некрологе столь ответственное слово учитель. Спустя несколько лет Ю. Тынянов сформулировал вывод: учиться на этом поэте „можно, только ‹...› изучив его методы. Потому что в этих методах — мораль нового поэта“ (1928:30 = 1965:299). В самом деле, пора их изучить и извлечь из них этические уроки. И опять-таки нас не должны смущать обилие полученных Хлебниковым позднее оценок типа “солипсист”, “псевдогений”, “идеалист и реакционер”, “словесный жонглер” и т.п., применявшиеся к нему обоймы фразеологизмов со словечками “тщился”, “гомункулусы”, “самоцельное”, “всячески третировал”, “механически”, “анархически”, “беспредметная”, “путаные”, “формалистические трюки” и др. В трясине отлучений тонули голоса и прямых учеников, в том числе “горлана-главаря”, и выдающегося филолога, тоже прошедшего через необоснованные обвинения в формализме.
Сегодняшний интерес к Хлебникову вызван не чьим-то произволом или “рецидивами формализма”. “Воображаемая филология” развернута поэтом в будущее, ориентирована непосредственно на нашу современность. Она — сильнейший аргумент в полемике не только с примитивными обличениями кибернетики и структурных методов “самодвижением” или “алгебры” — “гармонией”, но и с еще более новомодными удручающими филиппиками против “арьергардного филологизма”, утвердившегося, оказывается, в нашей культуре.85![]()
Не было “двух путей”, противостоящих друг другу, которыми шли, якобы в разные стороны, лишь изредка сближаясь, Маяковский и Хлебников, а была общая дорога, преодолевал которую каждый из них по-своему, присущей ему походкой (“походкой идиостиля”), со своими достижениями и человеческими слабостями и со своими, не исключающими, а дополняющими друг друга результатами. Даже в К. Бальмонте или И. Северянине, неправильно было бы видеть одну только прямую противоположность “будетлянам”. Как ни однозначны прозвище Игорь Усыплянин и пренебрежительная форма Бальмонтик, встречающиеся в текстах Хлебникова (V, 267 и 193), должно быть принято во внимание также то, что объективно связывает его с творчеством и этих поэтов, а не только временных “прямых учителей” М. Кузмина (Хл V, 287), Вяч. Иванова, С. Городецкого или А. Ремизова (см. НП, 469). Не исключено, например, что строчки типа чуждый чарам черный челн именно своей бесперспективностью, в глазах Хлебникова, укрепили его в мысли об особой значимости начального согласного в слове.86![]()
![]()
![]()

персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 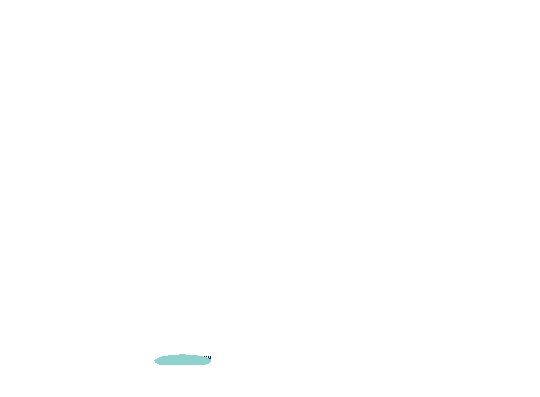 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||