

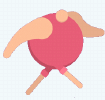
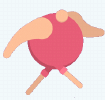
Здесь Хлебников не был первооткрывателем. Его хорошо известная любовь к Гоголю, возможно, объясняется и тем, что именно Гоголь едва ли не первый так свежо и глубоко удивился „драгоценности нашего языка. Иной раз название слова, — писал он, — драгоценнее самой вещи, которую называют”. Замечательные гоголевские слова недавно и очень уместно напомнила поэт Татьяна Реброва в диалоге с поэтом Ларисой Васильевой.1![]()
Было время, когда, привычно разводя Маяковского и Хлебникова по разным эстетическим епархиям, последнего именовали “алхимиком слова” (Паперный 1953:107). Это звучало резко уничижительно, поскольку писалось задолго до “реабилитации” ряда “алхимиков” и до перевода на русский язык книги Я. Парандовского «Алхимия слова» (1972). Сейчас можно пожалеть, что эта книга оставляет в стороне едва ли не самое интересное в поднятой автором теме: именно русскую поэтическую “алхимию” и ее значимость для “химии” русской поэзии XX века.
Прошло около 20 лет, и вот З.С. Паперный уже сочувственно обсуждает иные образные характеристики поэта: „освободитель слова”, преодолевший сферу „словесного тяготенья”, как писали о Хлебникове в разное время его соратники, и сам признает в той же и здесь — очень удачной, образной манере, что поэт „осуществил своего рода расщепление словесного ядра” (Русская литература 1972:340). Однако, не будучи подкреплен анализом материала, образ этот много теряет в своей убедительности.
Если посмотреть на самовитое слово, на “слово как таковое” без предвзятости, окажется, что оно и является той „самостоятельной силой, организующей материал чувств и мыслей”, которую имел в виду Маяковский, утверждая, что Хлебников создал целую „периодическую систему слова” (М XII, 24).
Известно немало попыток раскрыть смысл самовитого слова более детально, чем это делают заведомые критики Хлебникова. Первые опыты такого рода восходят еще к пионерской, но теперь уже сильно устаревшей работе Якобсон 1921. Понимая под самовитым словом попросту то, что само слово становится „главным фактом и героем поэзии” (ср. точку зрения В. Гофмана и Г. Винокура), Вл. Марков (1962:6–7) тем не менее перечисляет различные реализации этого понятия: 1) неологизмы, которые как бы провоцируются самой структурой русского языка; 2) заумь (т.е. звездный язык Хлебникова), принципиально отличная от “анархистской” зауми Крученых; 3) установка на “звукообраз”, т.е. развитие приема, известного как “звуковая метафора”, наконец, 4) пресловутая “тугая фактура” футуристического письма. Не останавливаясь на детальной критике этой очень приблизительной классификации, можно заметить, что понятие самовитого слова нуждается не только и не столько в упорядочении охватываемого им материала, сколько в правильном онтологическом обобщении. Совсем недавно в работе, специально посвященной слову самовитый (Шмелева 1975), не нашлось места даже для упоминания имени Хлебникова.2![]()
![]()
Сам Хлебников определял в 1919 г. свое первое отношение к слову как слово самовитое, как слово вне быта и жизненных польз (II, 9). Формулировка эта — источник многих недоумений, недоразумений и опровержений — ни в какой мере не позволяет приписывать поэту взгляд на результаты словотворчества как на что-то лишенное значения, смыслового содержания, концептуальной или/и художественной идеи. Ни одно из хлебниковских новообразований не может быть названо обессмысленным.
Он всегда экспериментировал именно с планом содержания (ср. ВГ 1976: 184 и Урбан 1979: 160–161). Поэтому противопоставлять его “мнимое” словотворчество “подлинному” словотворчеству Маяковского, как это неоднократно делалось (см., например, Тагер 1952:228 и т.д.), значит принимать за “самоочевидное” обман зрения. “Быт” и “жизненные пользы”, своеобразно понимаемые, просвечивают буквально в каждом из неологизмов Хлебникова.4![]()
Конечно, так называемые птичий язык, безумный язык и язык богов (см. «Зангези» — III, 318–321, 339, 345–346, 387; «Мудрость в силке» — II, 180; «Ночь в Галиции» — II, 200–201; «Ка» — IV, 65–67; «Боги» — IV, 260–267; «Пружина чахотки» — IV, 268–271; глюм — ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, ед. хр. 64, л. 20 об. и т.п.), на первый взгляд, могут показаться лишенными всякого смысла. Но (1) это — не авторская речь, а виды чистой звукозаписи, сознательное воспроизведение, прямая транскрипция “речи персонажей”. Поэт, несомненно (!), имеет в виду, что и эти “языки” обладают, как теперь говорят, “знаковой природой”, имеют смысл, но не берется их толковать, переводить в более членораздельную форму, интерпретировать.
Кроме того, (2) такие случаи остаются на самой периферии хлебниковского словотворчества. В сложной структуре авторского идиолекта и идиостиля они требуют минимального комментария как “заумь”, непосредственно граничащая с эпатажной “заумью” футуристов, но по установкам и функциям все же отличная не только от бессмысленных наборов типа скум / вы со бу / р л эз и т.п. у А. Крученых5![]()
![]()
Основные же способы хлебниковского словотворчества так относятся к обычным продуктивным способам русского словообразования, как, пользуясь выражением поэта в его статье 1908 г. «Курган Святогора» (НП, 323), доломерие (т.е. геометрия) Лобачевского к доломерию Евклида. Именно они составляют основу той науки словотворчества (V, 228), о которой мечтал и которой занимался Хлебников до самых последних дней (и от чего был очень далек Крученых со своей в основном “нигилистической” “заумью”).7![]()
В упомянутой статье И.Н. Шмелева, никак не используя важнейшее для ее задачи словоупотребление Хлебникова, тем не менее достаточно хорошо разъяснила общий смысл слова самовитый: ‘имеющий самостоятельную ценность, значение’.8![]()
![]()
Самовитое слово Хлебникова — это слово, не оторванное начисто от быта и жизненных польз, а слово, противопоставленное им, не ограничивающееся ими, а связанное с “бытом” отношением “дополнительности”, не скованное своими словарными, всеобщими, ничейными значениями и потому способное отрешиться от призраков данной бытовой обстановки, взорвать с помощью словотворчества глухонемые пласты языка, проложить путь из одной долины языка в другую (V, 229).
Критерием ценности и, так сказать, истинности идиостилевых, индивидуальных способов словотворчества, применяемых Хлебниковым, должны служить сами результаты художественной практики, а не отвлеченно лингвистические, хотя сами по себе необходимые, соображения о “научности” или “ненаучности” (“нормативности”/“ненормативности”, “продуктивности”/“непродуктивности” и т.д.), скажем, тех значений, которые поэт приписывал в словах начальным (а затем — любым: см. «Зангези»)10![]()
Кажется, что лишь самые необычные по структуре из его окказионализмов нуждаются в развернутых комментариях, большинство — как бы говорит само за себя языком не столько “науки”, сколько “искусства” словотворчества. Однако все обстоит здесь совсем не просто и для издателя, и для читателя. Поскольку многое в идиостиле Хлебникова признается эстетически ценным, даже чисто перечислительные опыты словотворчества, столь обильные и в самых ранних из дошедших до нас рукописей поэта,11![]()
![]()
Многие художники слова неоднократно возвращаются к уже опубликованным текстам своих произведений, дорабатывают и перерабатывают их. Хлебниковский — принципиально динамический — метод заставлял автора постоянно развивать уже изложенное, зафиксированное, размывать границы между “первоначальным толчком” и “окончательной версией”, так что практически любой его текст обрастал “вариантами”, мог “циклизироваться”, насыщаться разного рода реминисценциями, перерастать в новое произведение13![]()
Очень важно также иметь в виду, что словотворчество Хлебникова не отделено китайской стеной от других особенностей — характеристик его идиостиля. Этим тривиальным, на первый взгляд, обстоятельством вызывается совсем нетривиальное требование к исследователю так или иначе соотнести, например, бросающиеся в глаза хлебниковские материальные окказионализмы с его же не менее многочисленными семантическими окказионализмами — метафорами, метафорическими перифразами, фактами паронимической аттракции, переосмыслением имен собственных, перевертнями и т.п. В. Марков в работе 1962 г. и попытался учесть в какой-то мере это требование (см. его упомянутую выше классификацию). Однако ни те, ни другие хлебниковские окказионализмы не описаны пока даже как относительно автономные подсистемы. Чисто словесная переоценка первых и недооценка вторых не способствуют прорыву заколдованного круга в исследовании хлебниковского идиостиля как целого.
Все это и означает, что уже в рамках первого отношения к слову, когда Хлебников стремился найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова (II, 9), подход исследователя к этой “плавке” должен быть предельно осмотрительным, учитывающим и ее экспериментальность, и метафоричность,14![]()
Особую трудность здесь создает рано обнаружившееся убеждение Хлебникова в том, что собирание русского языка не окончено и что необходимо заглядывать в словари других славянских языков с тем, чтобы выбрать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны (V, 298).15![]()
Не стремясь к сколько-нибудь полному перечислению десятков и сотен относящихся сюда слов, отметим еще только полноту хлебниковского стремления охватить русский язык во всех его богатствах. Рядом с брашна III, 16, половчин III, 51 и рифмой предрек — рек III, 123 мы находим у него огромные пласты современных ему просторечия и жаргонов. Метафорические зенки III, 56 и пренебрежительное надармака III, 313 соседствуют не только с винтарями III, 50, братвой и годком III, 126–127, жратвой, у мамыньки и др. НП, 56–63, матюгом III, 108, почечуем III, 295, знашь III, 299, призывом шарапай III, 112 и т.п., но и с “высоким”. Характерна в этом отношении речь хлебниковских персонажей. Одна из сестер-молний (III, 167), например, говорит о себе: Я ‹—› слово бог и вслед ругательство кого-то стерва‹,› что догоняет собакой лающей кошку на дереве. И кроме того я мечтательство.16![]()
Из материалов, хранящихся в ЦГАЛИ, также приведем несколько характерных сниженных слов. Например, в «Гроссбухе» (ед. хр. 64, л. 7) содержатся черновые записи к поэме «Труба Гуль-муллы» и/или связанным с ней стихотворениям. Среди них есть следующее двустишие со словом жиган:
Там же, среди других черновиков (л. 9 об.), находим редкое слово наутык:17![]()
Ср. также важный и для общей истории просторечия факт (там же, л. 38 об.): Он из-за нее стрелялся, /чтоб доказать, что не слабо. И еще (ед. хр. 41, л. 1 об.): нет ни копья ‘ни копейки’; дурака валять. Наконец: А ведь я сыграл бы в ящик (ед. хр. 46, л. 4).
И опять-таки характерно соседство почти скоморошьего:
Со строчкой:
В словотворческом плане первому отношению к слову отвечает огромное множество окказионализмов. Оставляя их анализ до особой работы, подчеркнем, что уже в начале 1908 г. (а возможно, и еще раньше) у Хлебникова появляются образования типа бозничий (<возничий) и мленник, (<пленник) (НП, 89 и 103), провоцирующие его более поздний поиск звездного языка. Их не следует смешивать с образованиями типа облакини (НП, 115), плескиня (НП, 90), смехини, слепини (НП, 64), в которых суф. -иня служит средством олицетворения различных природных и человеческих стихий, очень частыми у раннего Хлебникова.
В то же время для осознания существа общего отношения Хлебникова к слову и к собственному идиостилю важно выяснить, чего в этом идиостиле нет. „Все без исключения литературные школы нашего времени живут запрещениями: этого нельзя, того нельзя, это банально, то смешно. Хлебников же существовал поэтической свободой, которая была в каждом данном случае необходимостью”, — писал Тынянов, имея в виду „поэтическое честное слово” Хлебникова и заканчивая свою статью о нем (1928:30). Это тонкое и правильное в целом наблюдение и противопоставление нуждается лишь в двух оговорках: 1) свобода любого поэта все же до известной степени ограничена природой того языка, которым он пользуется (см. ВГ 1965:24); 2) что касается Хлебникова, то его идиостиль обнаруживает некоторые сознательные самоограничения, хотя поэт и не всегда последовательно проводил их на практике. Они заслуживают того, чтобы задержать на них внимание читателя.
Это удивительно, но одна из самых существенных и характерных особенностей хлебниковского идиостиля не только не подчеркивается, но даже не всегда и упоминается в хлебниковиане (см., например, Степанов 1975). Естественно, что она и не комментируется сколько-нибудь подробно. Речь идет о господствующем на всем творческом пути поэта запрете на корни западноевропейских языков, в том числе на интернациональный греко-латинский корнеслов. Действительно, Хлебников едва ли не единственный в большой поэзии России XIX –XX вв. “восточник”, противостоящий не только многочисленным современным “западникам”, но и узким эпигонам славянофильства. Не совсем точно поэтому говорить без серьезного переосмысления о его „славянофильско-восточнической ориентации” (Метченко 1940:53); Хлебников стремился к синтезу, к смягчению односторонних увлечений, и, скажем, в области имен собственных у него упомянутый запрет не действовал.19![]()
Другая особенность ограничивающего порядка, насколько известно, совсем не упоминавшаяся в литературе, хотя и она существенно отличает Хлебникова от очень многих его современников, — это чрезвычайная осторожность в использовании общенародной фразеологии. В опубликованных текстах Хлебникова фразеология в широком смысле (не считая цитат) встречается крайне редко. В материалах, хранящихся в ЦГАЛИ, точно так же фразеологию приходится буквально выискивать по капле. Кроме двух просторечных фразеологизмов, упомянутых выше (дурака валять и сыграть в ящик), заслуживают быть упомянутыми еще лишь единицы. Это — (А все-таки) бабушка надвое сказала (ед. хр. 64, л. 90 об.), (ворон/Летел) за тридевять земель (там же, л. 92), сопоставление варианта нормативной и преобразованной поговорок Все на свете ведет в Рим и Все на свете ведет в Пекин и Токио (ед. хр. 83, л. 9; 1920 г.), открывает Америку (ед. хр. 82, л. 43) и т.п. Лишь один из них (за тридевять земель) — в наброске стихотворного текста.
Причины такого отношения Хлебникова к фразеологии ясны только отчасти. Очевидно, главной причиной является основная установка поэта именно на слово “как таковое”, а не на более крупные словесные блоки. С этим связан и интерес Хлебникова к бесконечно малым художественного слова, к дифференциальному, а не интегральному исчислению в рамках “воображаемой филологии”.20![]()
И это понятно, если учесть, что и звездный язык имел дело с простыми именами языка (V, 203), с разложением слова (V, 198). Хлебников мог написать «Слово о Эль» (III, 70) и многие подобные пассажи, а также посвятить множество экспериментов отдельным корням и настойчиво воспроизводить и по-разному использовать свои излюбленные “ключевые” слова. Но не фразеологизмы, особенно сращения, идиоматика которых лишь затемняла и без того затемненный смысл самовитых слов. Вне быта — это, очевидно, означало: и “вне нормативной фразеологии”.
Как и почти все у Хлебникова, не следует понимать “запрет на фразеологию” слишком буквально. Это ограничение, а не запрет. Поэтому пусть чаще в метафорически преобразованном виде, но и фразеологию поэт допускает в свой идиолект. Ни полноценные идиомы типа вылететь в трубу (III, 117), ни цитатные вкрапления вроде Эх, не жизнь, а жестянка! (III, 130 — «Иранская песня«) не являются запретными для идиостиля Хлебникова. И все-таки фразеология не казалась, очевидно, ему необходимой как фон для его собственной окказиональной идиоматики. Больше того, она могла бы в какой-то степени мешать восприятию свежих авторских афоризмов, метафор и перифраз, приходить с ними в столкновение как клишированная образность, затасканная, с точки зрения будетлянской эстетики, бытом, а отчасти и предшествующей поэтической традицией.
Конечно, отвлеченно говоря, жаль, что хлебниковский идиостиль, так сказать, искусственно “обеднен” не только за счет корней западноевропейских языков и европеоидных Fremdwörter, но и за счет исконно русской идиоматики, такой колоритной и своеобразной. Но последовательность поэта (если мы правильно улавливаем его нигде не эксплицированные мотивы) внушает уважение своей отвагой, к тому же не педантичной, а идущей на известные компромиссы.
Ниже мы увидим, что еще одно ограничение его поэтики — “ограничение на юмор” лишь кажущееся. У Хлебникова, идиостиль которого, на первый взгляд, напоминает скорее Л. Толстого, а не Гоголя или Пушкина и Маяковского по тому или иному отношению художника к игре слов, по видимой несколько тяжеловесной серьезности, на самом деле немало каламбуров, автоиронии и прочих атрибутов “моцартианства”. Видимость и сущность расходятся и в этом пункте. Здесь лишь покажем, как в подготовительных материалах для «Досок судьбы» каламбур строится у него не просто на почти запретном “латынском” материале, но как раз на материале фразеологическом — поговорочном. Воспроизведем этот каламбур сначала в смешанном макароническом написании, как он зафиксирован в рукописи ЦГАЛИ (ед. хр. 87, л. 81):
Возможно, что дальнейшее обследование почти неохватного без конкорданций и специальных словарей хлебниковского (в том числе неопубликованного) наследия выявит все же некоторую фразеологическую подсистему, более значимую в его идиостиле, чем это представляется сейчас. Тем не менее примеры, которыми мы располагаем, говорят пока лишь о значимости сопряжения редких фразеологизмов с каламбуром (или — шире — с категорией “юмористичного”). Ср. еще один случай примерно такого же рода: скрываться в бегах — полуфразеологическое устойчивое сочетание — преобразуется Хлебниковым в паронимическое по отношению к нему остраняющее высказывание: в богах нынче скрывается (ед. хр. 60, л. 40).21![]()
Своеобразным завещанием Хлебникова, обращенным к будущим исследователям проблем самовитого слова, являются следующие его слова, относящиеся, как можно думать, к апрелю 1922 г. (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, ед. хр. 73, л. 8): Те, кто принимают слова в том виде, в каком они поданы нам разговором (читай: нормированным, литературным языком. — В.Г.), походят на людей, верящих, что рябчики живут в лесу голые, покрытые маслом и сметаной ‹...› Это еще один, “иронико-орнитологический”, вариант тезиса, включенного в статью «Наша основа» (V, 229): Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Настойчивое подчеркивание занимавшей Хлебникова мысли тем не менее не избавило ее от искаженного бытования в среде исследователей.
Так, например, совершенно неверно, что “наиболее полно” принцип самовитого слова реализован в «Заклятии смехом» (Перцов 1966:48).22![]()
![]()
Здесь самая пора сказать и о “втором отношении” Хлебникова к слову — о стремлении найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, о пути к мировому заумному языку (II, 9). Связь этих “двух отношений к слову” очевидна. Ее определяет выход за пределы славистики в мир как стихотворение (V, 259), к опытам звездного языка.

персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 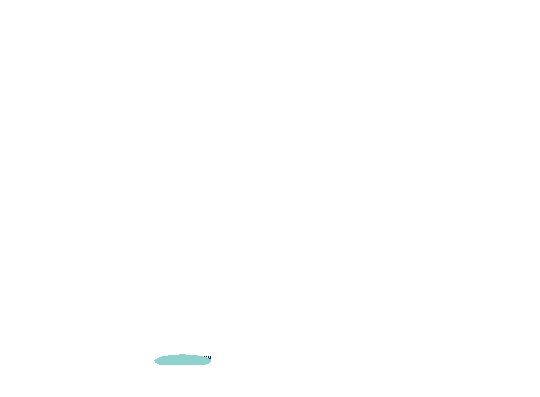 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||