

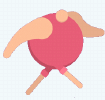
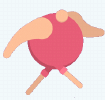
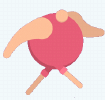
1) Юношеская эпатажная установка на “разрушение языков” обернулась поисками единого смертных разговора (I, 198 и 186), т.е. приобрела конструктивный смысл. Как характеристика хлебниковского идиостиля звездный язык представляет собой существенное средство поэтического выявления и подкрепления семантических ассоциаций. В своих лучших произведениях Хлебников дал впечатляющие образцы эстетического отношения к языку; озарил своеобразным светом индивидуально-неповторимую поэтическую историю языка, как она рисовалась Будетлянину; создал значительное в художественном отношении многообразие фактов истории поэтического языка, которые невозможно игнорировать, как показывают исследования, и в истории литературы,2![]()
2) Кризис младограмматизма в XX в. особенно наглядно обнаружился в области интерлингвистики — науки о языках как средствах международного общения. Бодуэн мог возмущаться эпатирующими “будетлянами”, но он же негодовал — и столь же справедливо — по поводу методологической недостаточности младограмматической аргументации против искусственных языков.3![]()
![]()
В связи со сказанным необходимо остановиться на теме “Хлебников-интерлингвист”. Как оказалось, интерлингвистические интересы Хлебникова были весьма разнообразны. Фактически интерлингвистикой пропитан почти любой его текст, множество высказываний из этой области находится среди его черновых заметок, а о его “интерлингвистической ревности” свидетельствует такая запись дневникового характера, относящаяся к самым последним годам жизни поэта: Алексей Круч‹еных› подлаявший недавно мировой язык делаю ‹...› дичь будет ‹...› (ЦГАЛИ, ед. хр. 93, л. 1 об.). В заметках для себя Хлебников делал и такие сопоставления: Что лучше — всемирный язык или всемирная бойня? Из этого, впрочем, не следует, что в создании мирового языка он видел единственную возможность избежать мировой войны, как полагает С. Мирский (1975:59).
Нельзя сказать, что творчество Хлебникова совсем не изучалось с интерлингвистической точки зрения — в той или иной мере этот аспект присутствовал почти в любом обращении к деятельности поэта, поскольку единый смертных разговор (1, 186 — «Ладомир») составляет едва ли не основной ее пафос. Однако ни Бодуэн, ни Марр, ни Дрезен, ни Бокарев — вообще никто в отечественной интерлингвистической традиции не проявлял особого интереса к Хлебникову. Не исключено, конечно, что будут найдены новые материалы, например, в архиве Л.П. Якубинского, лингвиста, занимавшегося словотворчеством Хлебникова,5![]()
Тем существеннее, что современная структурная лингвистика, даже без прямых внушений “космоглоттики” (подходящий здесь термин Н.В. Юшманова и др.), приходит к необходимости анализа „лингвистической теории” Хлебникова. А.Г. Костецкий (1975) дал такой анализ, обобщив материалы девяти статей поэта, в которых тот разрабатывал так называемую “заумь”, или азбуку ума, или азбуку понятий, или звездный язык, т.е. идею мирового языка как собирателя человеческого рода (V, 217). В итоге мы располагаем сводным “словарем” хлебниковской азбуки ума. Остается, правда, сложная задача корректировки и дополнения этой реконструкции путем анализа таких произведений поэта, как «Слово о Эль», «Ледяною ночи, ледяною грусти...», «Царапина по небу», «Зангези»6![]()
Работа Степанов 1975 полностью игнорирует Хлебникова-интерлингвиста. Единственная в нашем литературоведении попытка рассмотреть „языковое новаторство Хлебникова” под интерлингвистическим углом зрения — это работа Гофман 1936. Согласно Гофману, однако, „лингвистические ‘открытия’ Хлебникова были сделаны не позднее XVII в.” (с. 209).7![]()
Критика концепции Гофмана — особая задача, которая здесь не ставится. Можно только заметить, что работа эта неисторично объединяет ранние и поздние высказывания Хлебникова, что она не опирается на разбор языковой и интерлингвистической практики поэта, что сейчас она во многом устарела и неприемлема как со стороны самого перечня обвинений („бегство от действительности”, „лингвистический иллюзионизм”, „порочный творческий метод” — с. 237 и т.п.), так и со стороны марристской аргументации и фразеологии, наконец, что Гофман, в отличие от Костецкого, слишком прямолинейно суров и необъективен в своих оценках лингвистических “теорий” поэта , усматривая „маниакальность”, „фетишизм”, „реакционность” и „декаданс” там, где уместнее, очевидно, была бы большая терпимость к „поэтической модели мира” и к ее автору — фантасту .
В недавней работе западногерманского слависта, посвященной теме Востока в творчестве Хлебникова (Mirsky 1975), есть небольшой раздел (5.2 — с. 59–66) «Всемирный язык и поэтическая утопия», в котором предпринята интересная попытка показать иерархическую структуру того, что нерасчлененно обозначается как заумный язык, эволюцию этого понятия и его функциональное расширение от всеславянского языка8![]()
Выше отмечалось, что Хлебников стремится избегать неславянских апеллятивов (исключений не так уж мало, но по отношению к западноевропейским заимствованиям это именно исключения, а апеллятивы широко понимаемого Востока разрешены). Однако имена собственные именно как „интерлингвистический слой языка” (Топоров 1962:5) обычно входят в тексты поэта в своей общенормативной форме.
На путь к мировому заумному языку Хлебников становится уже в 1912–1913 гг. Самовитого слова вне быта и жизненных польз, с которым связано любимое поэтом мыло словотворчества (V, 154), самого по себе уже недостаточно. Второе отношение к слову Хлебников формулирует не как свободную плавку, а как целенаправленные поиски единства вообще мировых языков, построенного из единиц азбуки (II, 9). Но для этого надо определить единицы. Вот образчик рассуждения Хлебникова: Ч значит оболочка ‹...› Ч есть не только звук, Ч есть имя, неделимое тело языка. Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решен вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться че ноги, все виды чашек — че воды — ясно и просто (V, 235–236).9![]()
![]()
Вот один из немногих текстов на звездном языке:
Таким образом орфоэпические и интонационные стандарты оставляются на будущее (напомним, что эти опыты еще первый крик младенца, как признает их автор).11![]()
Проблема орфографии решается двояко — как проблема русской транскрипции некоторого единого для всего человечества текста и как проблема построения письменных знаков иероглифического типа — немых денег на разговорных рынках; так, Вэ рисуется поэту в виде круга и точки в нем (понятие “вращения”), Зэ — вроде упавшего К: зеркало и луч (понятие “отражения”), Эль — как круговая площадь и черта оси (понятие перехода движения точки по прямой в движение по поперечной плоскости) и т.д. В морфологии любопытно использование одного (!) только родительного падежа. Остается без ответа вопрос о том, как быть со словами типа степи, гунны, готы и под. и как различать грамматические число и время. Обращают на себя внимание оставляемый без перевода союз но, многофункциональный знак +; синтактико-семантические затруднения при попытке обратного перевода также очевидны.
Интересно, но до последнего времени не было известно, как Хлебников-интерлингвист относился к эсперанто. А.Е. Парнис недавно разыскал среди сохранившихся рукописей поэта важную заметку, в которой отмечается, что эсперанто очень строен, легок и красив, но беден звуками и не разнообразен и что в нем избыток омонимии и скудень синонимии. Заметку продолжают подсчеты такого рода: Число размещений по 1, 2, 3 из 30 равно приблизительно 25000 слов (30+30·29+30·29·28). 25 тысяч корней было бы более чем достаточно для какого угодно богатого корнями языка. Из этого видно, что Хлебников делал прикидки применительно и к чисто априорным принципам построения мирового языка. Следы еще одной прикидки сохранились в другой неопубликованной заметке Хлебникова, текстом которой автор обязан также любезности А.Е. Парниса. Этот трудно транскрибируемый текст выглядит примерно так:
Очевидно, что Хлебникову остался неизвестным проект сольресоль.12![]()
Звездный язык Хлебникова обладает одной особенностью, интересной в словообразовательном отношении. Он динамичен в том смысле, что все время впитывает в себя аналитический и синтетический опыт хлебниковского словотворчества. Поскольку азбука ума выявлена, поэт может ввести новое допущение о том, что каждая из согласных корня, а не только начальная, является единицей этой азбуки и что таким образом слова, начатые одной и той же согласной, не просто объединяются одним и тем же понятием, но и оказываются ареной борьбы противоположностей, столь социально значимой, что поэт даже называет ее Паны и холопы в азбуке (III, 80). Отсюда такие поэтические высказывания, как Хлап или холоп — опора для холи, Холоп — двигающая сила / Холи пана, а Пан это ‹...› / Парами праздный паровоз / Уход Пэ: его нет (поскольку Эн имеет значение небытия) и когда в слово пан пришло Эль любви, лебедя, лелеки, / Леля, лани, Лаотзы, Лассаля, Ленина / Луначарского, Либкнехта, то Пан — пал! (III, 83 — 85). Иначе говоря, каждый неодноконсонантный корень может рассматриваться поэтом как сложный, а “основосложение” — как главный способ словообразования в рамках мирового заумного языка.
Может, но не непременно должен. Известно, что перечень “языков”, которыми пользовался Хлебников как подъязыками русского языка, и пользовался в одно и то же время, — достаточно внушителен. При этом “стиль мышления”, характерный для его творчества, удивительным образом сочетал строгость и последовательность рассуждений в естественнонаучном и точном знании со свободой и гибкостью поэтического взгляда на мир, в том числе и на задачу “прорыва в языки”. Возможно и соединение звездного языка и обыденного, как в первой части «Царапины по небу», и их раздельное использование, а между художеством и экспериментом, повторим, нет непроходимых граней.
Звездный язык прорастает в словах русского языка, словотворчество тоже опирается на реальные языковые структуры, преобразовывая и переформировывая их по потребностям поэта. Звездный язык и словотворчество готовы были слиться в аналитических и синтетических процедурах, но лишь один случай соположения окказионализма виель ‘крыло бабочки’ с единицами звездного языка Эль и Вэ (III, 139; там же лиель) как будто позволяет видеть здесь не обычное для поэта производное от свирель типа хотель, зовель и т.п., а своеобразный композит из простых имен языка: В + Л. Соотнесение трех основных семантических полей, из которых берутся слова для определений “фонем-морфем” в азбуке ума (см. Костецкий 1975:38), — “пространства”, “движения” и “математических понятий”, с последними опытами Хлебникова в области так называемых “релятивных окказионализмов” (см. Vroon 1975), т.е. окказионализмов с корнями из местоимений, союзов, предлогов и частиц, говорит о том, что звездный язык уже был готов включить в свой севооборот и собственное словотворчество Хлебникова. (Об оппозиции корней нет-, от- и тот- / эт- и лет- / или как своеобразной временной парадигме, как спряжении корней для создания образа времени см. ВГ 1981).
Слово севооборот употреблено не для оживления стиля. Это слово из студенческой публикации поэта «Опыт построения одного естественнонаучного понятия», также выявленной А.Е. Парнисом. Севооборот — одна из иллюстраций отношений метабиоза , противопоставляемого по признакам пространства и времени “симбиозу”, понятия, которое объединяет, по Хлебникову, поколения кораллов внутри какого-нибудь атолла и поколения людей внутри народа. Точно так же в ‘верую’ воинствующего пангерманизма входят отношения метабиоза между славянским и германским миром — еще один пример из указанной статьи.
Не располагая никакими прямыми доказательствами, невозможно утверждать, что понятие метабиоза Хлебников распространял и на отношения между отдельными единицами в рамках собственного языкового строительства. Тем не менее безусловное для поэта единство человека и природы, установка на конские свободы и равноправие коров (I, 193), сравнение современного многообразия языков, которые разъединяют, с когтем на крыле птиц (V, 265) и выдвижение идеи звездного языка как языка общего для всех и т.д. — все это позволяет думать, что единый смертных разговор будет связан отношениями метабиоза с существующими языками. В историософии Хлебникова представляется несомненным метабиотическое основание его устойчивого интереса к скифам, с одной стороны, и к запорожцам — с другой (ср. Чертомлыцкий курган и Чертомлыцкую сечь). Эсперанто же и язык птиц симбиотичны .
Проект звездного языка уникален и может заставить нас внести уточнения в наши интерлингвистические типологии. Это язык, предназначенный для всех живых существ, призванный заменить существующие ныне языки, т.е. невспомогательный, язык одновременно и научно-фантастический, т.е. искусственный, и поэтически-естественный, язык апостериорный в этом последнем смысле, но априорный в глазах критиков-интерлингвистов, язык с полным набором функций, но представляющий интерес прежде всего как поэтическое творчество, а не как прагматическая значимость.
Бегло рассмотренный опыт Хлебникова — первого поэта-фантаста-интерлингвиста, как и весь образ и жизненный путь этого удивительного человека, учит нас Филологии и Экологии — вниманию к взаимосвязям и любви к пониманию чужого.13![]()

персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 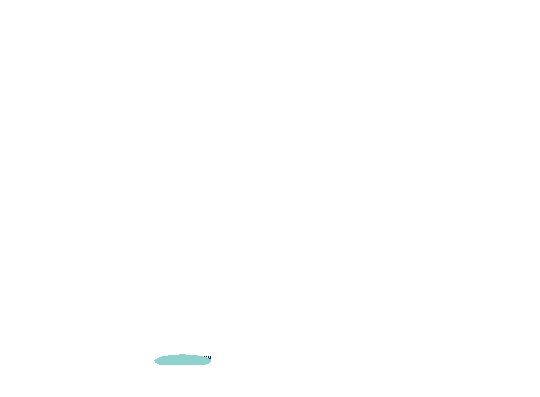 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||