

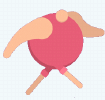
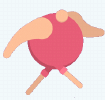
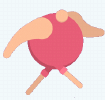
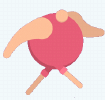
Обнаружилось также, что и музыка занимала Хлебникова как модель мирового языка. И опять-таки интерлингвистика не покрывает у него “музыкальное”. Посмотрим в этой связи далее и на “музыкальный” аспект его идиостиля.
Неожиданное понятие метабиоза напомнило нам о хлебниковской историософии, орнитологических интересах, о поэте-фантасте; о том же, впрочем, говорили и другие уже затронутые выше темы. Таким образом возникают темы судьбы, птиц в ряду иных “ключевых образов”, тема фантастики и др. Придется в дальнейшем обратиться и к ним.
Все-таки главной — в принятом нами плане исследования и изложения — оказывается линия, связывающая два “отношения” Хлебникова к слову, которые он сам наметил и которые выше мы постарались раскрыть, с целым “гнездом языков”, с многомерным “образом языка” в его творчестве. Поэт сам неоднократно и по разным поводам по-разному перечислял эти “языки”, которыми он пользовался не только в поэзии и прозе, но и в опытах возведения здания “воображаемой филологии”.
Вот наиболее полный перечень “языков” из черновых записей поэта:1![]()
Пополним эту авторскую сводку иными наименованиями “языков”, не слишком заботясь на первых порах о случаях явной синонимии и возможной омонимии в обозначениях. Уже на л. 57 об. в “Гроссбухе” встречаем (21) Грубый язык и (22) Нежный язык,3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Обратившись к другим текстам (и единицам хранения), мы можем пополнить и этот перечень, продолжая нумерацию “языков”. Так, в ед. хр. 95, л. 14 мы обнаруживаем краткий список (1922) из семи номеров:8![]()
![]()
Вспомним, кстати, еще один перечень — семи “видов поэтического языка”, использованных в «Зангези» (см. III, 387 и Степанов 1928:60, где со ссылкой на „черновики 1909–1912 гг.” — ?? — говорится о семи плоскостях слова): звукопись–птичий язык, язык богов, звездный язык, заумный язык–плоскость мысли, разложение слова, звукопись, безумный язык. Согласимся, что птичий язык предполагает отмеченные выше под номером 32 птичьи речи, приняв к сведению, что это — вид звукописи; четыре других наименования не нуждаются пока в комментариях;10![]()
![]()
![]()
Едва ли будет ошибочным предположение, что запись Хлебникова Поединок слов с пометой К Зангези (ед. хр. 65, л. 2), относится к той самой десятой плоскости этой сверхповести, или заповести, как называл ее автор (III, 317), где Эм ворвалось в владения Бэ, чтоб не бояться его, выполняя долг победы (III, 338).13![]()
В тетради с записями поэта, относящимися к 1912–1913 гг., есть словосочетание Равенство слов (ед. хр. 63, л. 6). На том же листе обращает внимание помета Преломляющий Я. Нет оснований безоговорочно утверждать внутреннюю связь между этими записями. Тем не менее мы должны принять к сведению провозглашение принципа равенства слов, из которого в известной мере позволительно извлечь следствие о своеобразном равенстве, в глазах преломляющего поэта, различных “языков”, которые питали его идиостиль. Опять-таки мысль поэта и наш комментарий нельзя понимать как неразличение потенций и тем более функций отдельных “языков” в конкретном идиостиле и за его пределами. Мысль, которую хочется сформулировать и подчеркнуть, сводится к необходимости одинаково серьезно и осторожно подходить к любым высказываниям Хлебникова о языке, речи, “языках”, слоге, слове и т.д., видеть в них проблему, а не конгломерат (разрозненных и легковесных) фраз, требующих и заслуживающих нелегкого анализа и стремления осмыслить в них далеко не тривиальную систему “воображаемой филологии”.
Отвергать с порога как “явно некорректные”, с точки зрения классической науки о языке, многие утверждения поэта вроде битва звуков или двусмыслие как начало двупротяжения слова (ед. хр. 63, л. 14 об. и 15), или Слава слова и слава солнца. Сияние слов. Солнечная природа слов. ‹...› в основе наречий лежит разное отношение к западу и востоку, к лучам восходящего солнца ‹...› сознание как счет (ед. хр. 78, л. 11 об.), или вроде того, что в 10-е годы ‹...› песни распались, как трупное мясо, / На простейшие частицы, / И на черепе песни выступила / Смерть вещего слова, / Лишь череп умного слова ‹...›. (III, 93. — «Взлом Вселенной»), или квазиэпатирующие словосочетания и фразы ословление чисел, освободитель от языка и Художник числа приходит на смену художнику слова ‹...› (ед. хр. 85, л. 28 об. и 46 об.)14![]()
Но продолжим наш перечень. В него придется включить и то, что сам поэт обозначил, как (39) Мелкая колка слов (ед. хр. 27, л. 11), к которой он перешел, после того как сказал „стой” крупным времявладен‹и›ям слов. Несомненно, что от нее существенно отличаются те (40) Бесконечно малые художественного слова, которые Хлебников хотел найти в «Госпоже Ленин» (см. II, 10). Займут свое место и (41) Крепкие, дебелые слова (русского языка), которые, по выражению поэта, были изгнаны со страниц «Весов» (V, 193), и (42) Внутреннее склонение слов (V, 171. — «Учитель и ученик»),15![]()
Остается добавить в перечень “языков” немного. Из «Царапины по небу» — (45) Соединение звездного языка и обыденного с подзаголовком Прорыв в языки (III, 75)16![]()
Высказывания, даже очень яркие, подобные строчкам (III, 25):
Таким предстает перед нами на почти необозримой поверхности “языковой” аспект хлебниковского идиостиля. Выявить целых пятьдесят три языка было нелегко, но, пожалуй, еще труднее разобраться в этой полуметафорической и, кажется, совершенно непоследовательной авторской классификации. В самом деле, даже если отвлечься от проблем языка/речи, языка/слога (т.е. “стиля”), не преодоленных и современной классической лингвистикой и филологией в целом, то возникает уже на первых порах множество вопросов не менее головоломных. Чем, к примеру, косое созвучие отличается от вывихов слова и его вращения? Почему Даль и народные слова отделены друг от друга? Разве словотворчество не следовало бы распространить и на звукопись или на разложение слова, или на те же вывихи? Вообще — возможно ли — имеет ли смысл и допустимо ли в качестве исследовательского подхода — представить этот “заумный хаос” в логически беспристрастном и иерархически организованном порядке? Разве именно порядок, иерархия и будничный рассудок не были отброшены Хлебниковым в его занятиях языком? Не являются ли “синонимичность” и “омонимичность” высказываний, обозначений и окказионализмов поэта их неотъемлемым родовым свойством? Не огрубим ли мы образную мысль филологической интерпретацией?
Мы знаем, однако, и иного Хлебникова — тонкого биолога, систематика, студентом опубликовавшего три (или даже четыре! см. ниже) работы, которые оказали влияние и на поэта-филолога. В 1907 г. увидела свет его заметка о разновидности кукушки.18![]()
![]()
Орнитологические наблюдения 1905 г., которые В.В. Хлебников проводил совместно с братом Александром, стараниями последнего были позднее тоже опубликованы.20![]()
О третьей (или четвертой) работе Хлебникова-биолога, имеющей принципиальное значение, уже шла речь выше. Насколько известно, сам Хлебников нигде на нее не ссылался. Однако в его собрании произведений она должна занять одно из самых почетных мест и получить всесторонний комментарий. Здесь в связи с проблемами хлебниковских “языков” и отношения поэта к строгим структурным схемам подчеркнем, что оппозиция симбиоз/метабиоз, по-видимому, должна рассматриваться как подчиненная более общей и главной, в глазах Хлебникова, оппозиции пространство/время. Еще в 1904 г. он писал в статье «Пусть на могильной плите прочтут...», излагая в форме эпитафии занимавшие его задачи: Он нашел истинную классификацию наук, он связал время с пространством, он создал геометрию чисел (НП, 318). А в «Досках судьбы», лишь первый лист которых вышел при жизни автора, Хлебников утверждал, что в них дана найденная опытом количественная связь начал времени и пространства. Первый мост между ними (ДС, 9). Сохранив любовь к классификации и к систематизации, он и в «Досках судьбы» прибегает к тем же самым структурным схемам (“поясняющей таблице”), что и в статье 1910 г. «Опыт построения одного естественнонаучного понятия». Теперь они выглядят так (ДС, 10–11; вносим элементарную редакционную правку):
| В основании | В показателе степени | |
| Сковывающая тройка или двойка | + | |
| Бесконечный рост числа (числовая воля) | + |
| В основании | В показателе степени | |
| Сковывающая тройка или двойка | + | |
| Бесконечный рост числа | + |
Если на шлифовку своих классификаций у Хлебникова не хватало времени, то все-таки по существу он с первых шагов и до последних был одним из первых отечественных структуралистов (без кавычек и в строгом, неуничижительном смысле этого еще двоякоумного обозначения).
Сказанного достаточно, чтобы решиться на попытку прояснить, хотя бы в некоторой степени, сходства и различия между хлебниковскими “языками”, даже не прибегая к образу Хлебникова-“математика”, числяра, который писал в 1921 г. Маяковскому: В числах я зело искусил себя. И готов построить весну чисел, если бы работал печатный станок (V, 318). (Строгость числовых выкладок — дополнительный, но очевидный аргумент в наших сомнениях, поэтому о нем можно не распространяться).21![]()
Прежде всего, чтобы облегчить задачу себе и читателю, необходимо дать словами Хлебникова единый, общий перечень “языков”. Вот он в относительно полном, повторяю, виде:
Кое-что в этом перечне разъяснить и проиллюстрировать можно сразу же. Так, например, (21), (22), (26), (31), (51) сравнительно легко поддаются систематизации. Грубый (21) и нежный (22) “языки”, как уже было сказано, вынесены поэтом в заглавия; они сводятся к использованию слов и выражений типа нá, дубина, в зубы, оглобля или, напротив, таких, как неженки-беженки (см. V, 75). Особого интереса они, может быть, заслуживают в качестве членов бинарного противопоставления, показывающего, что Хлебников не пренебрегает на шкале стилистических противопоставлений самыми контрастными средствами выражения. Однако более яркой иллюстрацией грубого была бы XVI плоскость «Зангези» с ее откровенной речью припадочного (III, 345–346),22![]()
Мы не нашли у Хлебникова прямых указаний на необходимость полноправного противопоставления этих двух “языков” еще двум обозначениям в перечне, составленном им самим, — жестоким словам (8) и нежным, сладким (9). С оговоркой о желательности более тонкого специального анализа всех соответствующих текстов рискнем все же идентифицировать номера (8) и (21), с одной стороны, и номера (9) и (22) — с другой. Поэту, по-видимому, было важно лишь отличать эти “слова” от “языков” как отдельные сигналы — одну из стилевых примет многопланового текста от целостных языковых слоев, определяющих общую стилевую направленность некоторого стихотворения.
Радужная речь (26) — это черновое заглавие одной из песен звукописи, вошедших в «Зангези»: Лели-лили снег черемух, / Заслоняющих винтовку и т.д. (III, 344). Как вид звукописи она и должна тем самым рассматриваться ниже.
Страстное (31) отчасти тоже разъяснено было выше. Оставшаяся в черновиках характеристика стихотворения «Кормление голубя» едва ли может претендовать на факт “языка”, поскольку не обнаруживает каких-либо собственно языковых признаков, отличающих его от многих других лирических вещей Хлебникова.23![]()
(Это — редкий случай сплава виртуозной паронимии, головокружительных метафор, относительно выдержанного четырехстопного хорея и непринужденных — вплоть до глагольной — рифм. Он просится в хрестоматию и ждет специального стиховедческого комментария.)
Наконец, корявый слог (51) даже названием не претендует на факт “языка”. Он представляет собой подзаголовок стихотворения «Признание», обращенного к Маяковскому (III, 293), в котором встречаются и смелые окказионализмы (остроглазье, провопли), и нарочито сниженные в стилистическом плане элементы разной природы (барахло, хам, папаша, цыц, по Рософесорэ, в лоб), и их впечатляющее метаязыковое объединение (на скороговорок скорословаре, переосмысление слова хам как аббревиатуры). Напрашивается вывод о том, что корявый слог можно без особой натяжки интерпретировать как реализуемое ‘просторечие’ при всех сохраняющихся и поныне разногласиях относительно истолкования сущности этого явления. Сказать что-либо определенное об отличиях корявого слога от грубого языка в понимании самого Хлебникова затруднительно.
Однозначно раскрывается сущность перевертня (13). Это — палиндром(он), т.е. „слово, стих или фраза, одинаково читаемые по буквам слева направо и справа налево“.24![]()
Трудности создания в перевертнях осмысленного эстетически впечатляющего текста нарастают лавинообразно при увеличении количества слов в предложении и предложений в целостном тексте. Жесткие формальные ограничения (даже с учетом допустимых фонетико-орфографических “вольностей”) ориентируют поэта и читателя на семантическую диффузность и неоднозначность. Теснота и единство стихового ряда здесь особенно выигрышно проявляются в форме моностиха, претендующего на выразительность пословицы. (Ср. полученный в эксперименте перевертень-призыв:
„Сам дошел и доводи лошадь масс“).25![]()
Указанные преимущества и трудности хорошо демонстрируют начальные строки «Разина»:
Этот феноменально пространный единый стих при всей его виртуозности неоднороден. Первая его часть имеет все признаки полноценного стихового (“верлибр”) выражения и содержания. Она афористична и отвечает сущности мировоззренческих устремлений поэта. Она и осталась в поэзии, ее можно и хочется цитировать. Вторая, “зеркальная”, часть семантически отмечена лишь в разных рамках хлебниковского “языкового” многообразия, хотя интонационный аккомпанемент диффузной семантике, контрастной (по отношению к первой части) стилистике и эмоциональной погашенности впечатляет или способен впечатлять читателя. В этой части автору с огромным трудом удалось свести концы с концами, но ценой значительных художественных потерь.
Примечательно, что среди черновиков «Разина» (ед. хр. 13, л. 1) есть вариант, в котором сразу за процитированными идет короткая блестящая строка:
Надо было выбирать; возможно, любой другой поэт предпочел бы этот лапидарный вариант, внешне безупречный и по-своему простой, точный и выразительный. Хлебников же отверг его как неточный по мысли и не побоялся упреков, избрав более сложный и богатый ассоциациями путь, сопряженный с очевидными разноуровневыми изъянами. Зато первая строчка осталась как вдохновенное дитя несовершенного перевертня, хотя слово логов недооценивают (см. Кедров 1982).
В черновиках «Разин» истолковывается как Разин в обоюдотолкуемом смысле и Заклятье двойным течением речи, двояковыпуклая речь (Хл 1, 318 и Lönnqvist 1979:56; с незначительными разночтениями). Мы не ввели в наш перечень эти обозначения как самостоятельные “языки”. Здесь важно подчеркнуть, что они лишь по наружности сближаются с “языками” (23) и (27).
Можно отметить в «Разине», кроме того, ряд существенных для хлебниковского мироощущения строк. Это, прежде всего Мы, низари, летели Разиным, интересная тем, что включает в себя материальный окказионализм; это Топора ропот — строка, предвосхитившая классику В. Шефнера (Наоборот прочтите ропот / И обозначится топор); это строки Мабыдь дыбам, / Молим о милом, где орфографическая “вольность” связана с использованием укр. мабуть, которое поэт воспринимал, очевидно, лишь со слуха.
Обращение к словотворчеству и нелитературной лексике несколько расширяет возможности перевертня, однако даже в хлебниковском идиостиле он занимает вполне подчиненное место среди средств выявления потенций самовитого слова. Тем не менее эта его функция должна быть четко осознана, потому что даже Маяковский, стремясь “оправдать” у Хлебникова „длиннейшую поэму, читаемую одинаково с двух сторон“, писал, что это, мол, „конечно, только сознательное штукарство — от избытка“ (М XII, 25).27![]()
![]()
Закончим обсуждение перевертня старой цитатой из В. Шкловского, рассказывавшего о состязании акынов в Казахстане:
В литературе, посвященной Хлебникову, немало внимания было уделено его обращениям к иностранным словам, Далю, народным словам и общеславянским словам. С точки зрения развития русского поэтического языка это были отдельные расширения его “словесной базы” (если воспользоваться, переосмыслив, заглавием одного из выступлений Маяковского) в целях расширения пределов русской словесности (НП, 341).
Под иностранными словами (6) явно понимаются главным образом не “западноевропейские”, а “материковые”, “восточные слова”, хотя Хлебников, повторим, не был здесь последовательным ригористом в отношении таких слов, как поэт, гиератический, катеты, радио, интернационал, логарифм, формула, аккорд (особенно в заметках “для себя”). Собственные имена при этом как „интерлингвистический слой языка“ (Топоров 1962:5) использовались без каких-либо ограничений.30![]()
Для изысканий, связанных с работой над звездным языком, Хлебников неоднократно обращался к словарю Даля. Публикуя в 1928 г. одну из неизданных статей поэта, Н.Л. Степанов приводит в «Примечаниях» (V, 350–351) пространные разъяснения диалектных слов, использованных в этой статье (слова на Ха и на Че). Вероятнее всего, что Даль (7) и народные слова (14) — это, с точки зрения Хлебникова, взаимосвязанные, но разные источники его идиостиля. Даль фиксирует очень ценное, в глазах поэта, но прошлое в народном языке; народные слова — это тот живой и постоянно обновляемый источник, который служит поэту моделью в статье «Курган Святогора» (1908):
И в одические интонации «Ладомира» вполне органически вплетаются голоса слов и выражений типа который дён, ожин, киюра, кокорины, в лони годы (рифма: выгоды). Несомненно, что Даль в узком смысле слова31![]()
![]()
В то же время недостаточно противопоставлены у Хлебникова источник корявого слога и народные слова. Безоговорочно представить их как оппозицию просторечия и диалектного языка едва ли возможно; тем более, что Хлебников не выделяет как отдельный “язык” жаргоны, но тот же «Ночной обыск» изобилует и жаргонизмами. При другом классификационном подходе в этом кругу “языков” следует рассмотреть и бурный язык (18), в котором Н.Л. Степанов (1928:61), пожалуй, справедливо видел „аффективную речь“ (ср. запись о горении речи и поту‹хании› — ед. хр. 27, л. 11 об.; связана с «Зангези»).
С другой стороны, к этому же комплексу “языков”, естественно, должны быть отнесены и крепкие, дебелые слова (41), также ориентированные на просторечие, на народные слова и на корявый слог (ср. еще записи форм: женатики и суседок — ед. хр. 98, л. 32 об.).
Сложнее обстоит дело с общеславянскими словами (15). Комментарий к этому хлебниковскому “языку”, не должен быть тривиальным. Здесь речь идет явно не об этимологически строгом смысле соответствующего термина лингвистики. К общеславянским словам следует, видимо, отнести и древнерусские, и старославянские архаизмы, и любые вкрапления в тексты поэта из других славянских языков. Некоторые оговорки необходимы, пожалуй, для украинского, роль которого в творчестве Хлебникова особо существенна и давно ожидает внимания украинистов.33![]()
![]()
Естественно, что понятие “архаизмы” для Хлебникова может не совпадать, как и понятие обыденный язык (36), с нашими современными представлениями о “реликтовых формах” и о “литературном языке” (в его протяженной “синхронии”). Поскольку в перечне “языков” не выделены как особый слой “старые (устарелые) слова”, возможно, что поэт, особенно в материалах для Азбуки ума, т.е. для звездного языка, рассматривал “архаизмы” как полноправные славянские слова, которые, как отмечалось, он собирался свободно плавить. Противопоставлялись при этом не просто “архаизмы” и, скажем, “неологизмы” или стилистически нейтральная лексика, а целостный идиостиль поэта (и идиостили близких ему современников, соратников) — языку, взятому взаймы у пыльных книгохранилищ, у лживых ежедневных простынь,35![]()
![]()
Поэтому субъективное восприятие и функциональное использование “архаизмов” Хлебниковым, например, множество встречающихся у него рифм типа железо — березы (НП, 206) или звезды — подъезда (НП, 207) или змея — ея (НП, 202) и т.п., а также строчки типа: Пусть голос прочь бежит, хоть нет у гласа ног (НП, 184) или сочетание в соседних строчках окказионализма умночий и архаизма рекла (НП, 104),37![]()
Во всяком случае примечательно, что “архаизмы” Хлебникова практически не выполняют, если не считать некоторых цитат (ср.: Будь добр, бози, ми ‹...› в «Ладомире» — I, 197), функции стилизации — исторической или комической.39![]()
![]()
Такая почти неограниченная свобода обращения с инославянскими и архаическими формами приводит иногда к невозможности однозначной интерпретации “объективного” стилистического эффекта некоторых текстов Хлебникова и в то же время к особому усилению стилистической экспрессии. Ср., например, глубину коннотаций, привносимых в текст формой дорози, — очевидно, “украинской”, но омонимичной с “древнерусской”:
Причем, едва ли Хлебников сознательно задавался здесь экспериментальной целью получить подобную стилистическую двуплановость. Никаких оснований подозревать поэта-виртуоза в том, что форма дорози понадобилась ему “для рифмы”, конечно, нет. Остается предположить, что эта форма входит в норму его идиостиля как стилистически равноправная остальным словоформам, использованным в стихотворении.
Относительно старых речей (усталых слов) (30) можно утверждать, что с этим обозначением поэт связывал нечто вроде штампов, клише, затасканных формульных выражений как в собственно художественной речи, так и в повседневном общении, — вообще трафареты общения, для которых Хлебников предлагал использовать язык зрения, поскольку слух устал. Языки же, мечтал он, останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза (V, 158). С одной стороны, эта идея связана с надеждами, возлагаемыми на число, а с другой — с языком речей (49) и языком имен собственных (48), в свою очередь также непосредственно связанными с числовым языком — (35), о котором будет сказано ниже, как и о числослове (1).
Обратимся к следующей группе “языков”. В авторский перечень входят тайные слова (20). Они как будто не находят у Хлебникова прямых иллюстраций за исключением сопоставлений общеизвестного характера крылышкуя — ушкуй (V, 194) или таинственный — воинственный. Сюда, возможно, следует отнести и высказывание поэта о словах как живых глазах для тайны, когда через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл ‹...› (V, 269). Ср. вариант: Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной „второй смысл”, когда оно стекло для смутной и закрываемой им тайны, спрятанной за ним. Тогда через слюду и блеск обыденного смысла светится второй, сверкая темной избой в окно слов (ед. хр. 72, л. 1). Знаменитая тройка Гоголя, — продолжает Хлебников, связывая слово с художественным образом, — ‹...› звучала своим художественным шорохом слов так сильно лишь потому, что в нем сквозь конскую тройку сквозила и светилась быстрая „тройка дней”, катившая Россию к Мукдену. Но то, что по дороге от Искера было открыто сердцу, не было еще ясно разуму. ‹...› Это речь дважды разумная, двоякоумная = двуумная. Обыденный смысл лишь одежда для тайного.41![]()
Тем самым мы связали с тайными словами еще два “языка” — язык двух измерений (27) и двуумный слог (28). Что касается последнего, то в черновиках им озаглавлена запись: Когда будила заря / Стая ворон кружилась над шкурой мамонта / 5 сент‹ября› 1919 Буденный у Воронежа разбил Мамонтов‹а› и Шкуро (ед. хр. 64, л. 62 об.). Этот замысел реализован в стихотворении «Какой остряк, какой повеса...», в котором, по-видимому, издатели контаминировали разнородные тексты, но в том числе и строки: И вдруг Воронеж, / Где Буденный: / Легли, разбиты, шкурой мамонта — / Шкуро и Мамонтов. / Вдали Воронеж. / Умейте узнавать углы событий / В мгновенной пене слов (III, 211). Сопоставив слова этого отрывка, мы поймем, что имел в виду Хлебников, заявляя: Прообраз в завтра углублю. / Пока мне старцы не перечат; / Пророка посохом шагает / То, что позже сбудется, / Им прошлое разбудится (там же). Ср.: вороны — Воронеж, будить — Буденный — сбудется и т.д.42![]()
Созвучия слог (29), как выясняется из контекста, не имеет отношения к перезвону речи. Это — зачеркнутая автором метафора в описании революции 1905 г. в XVIII плоскости «Зангези»: Это два было времени богом / И событья звенели созвучия слогом ‹,› / Точно два удара / В кова‹н›ые блюда (ед. хр. 64, л. 88 об.; ср. III, 353).
Не совсем понятно, что имел в виду Хлебников, предваряя сочетанием Личный язык (24) текст: Гзи-гзи, зосмерчь. / Пак, пак, кво! / Лиоэли! Лиоэли! ‹...› (ед. хр. 64, л. 65). Некоторое сходство отдельных его звукосочетаний с «Грозой в месяце ау» (V, 73) и классическим «Бобэоби...» (II, 36) позволяет рассматривать все эти тексты как разные проявления личного языка — от чистой “зауми” до “зауми” живописующей и звукописной. Сам же он, хоть и в зародыше, представляет собой примитивное словотворчество.
В этом же ряду разъясняются безумный язык (33) и безумные слова (19). Соответствующие контексты читатель найдет, например, в «Зангези» (III, 343–344), где есть и слово безумствовать и безумные слова разного типа: петер (<ветер), божестваръ, умножарь, верхарня и др. В черновиках мы находим множество аналогичных “пробных” текстов. Все это — не только виды словотворчества, но и виды заумного языка; в то же время в каком-то смысле это и якобы безумные речи, поскольку Хлебников полагал, что есть путь сделать заумный язык разумным (V, 235) — через разложение слова и звездный язык.
Оривая речь (50) разъясняется просто как гнездо слов-производных от орать в экспериментальных контекстах, в целом представляющих собой поздний этап словотворчества Хлебникова, преемственный и развитой по отношению к знаменитым «Смехачам» (ср. в орограде, оратенько, орины, оребен и др.). Как явный вид словотворчества здесь мы подробнее рассматривать оривую речь не будем.
Бесконечно малые художественного слова (40) представлены в «Госпоже Ленин» и в «Происшествии в помещичьей усадьбе среднего достатка» (НП, 300–301). По существу, это не расщепление слова на его части как элементы звездного языка, а расщепление сознания, ощущений и восприятий. В лингвистическом смысле слова (40) неправомерен в ряду прочих наших “языков”.
Оставшиеся “языки”, среди которых находятся самые важные для Хлебникова числовой и звездный, а также словотворчество и косое созвучие, теперь уже легче представить в соподчинении разновидностей и синонимике внутри отдельных групп “языков”. Остановимся сначала на тех, которые здесь удастся лишь кратко разъяснить в их отношениях к другим без детализации и почти без примеров.
Начнем со словотворчества (4). Рассказом о нем открывается статья «Наша основа» (V, 228). Как отмечалось, с ним связаны безумный язык, личный язык, оривая речь. Несомненно также, что словотворчество пронизывает и такие самые сложные образования, как звездный язык, заумь, числовой язык. Это, так сказать, — главное средство хлебниковского идиостиля, важнейший способ его существования и развития на всех этапах. Но понятно, что это — способ языкотворчества, но не сам “язык” или “языковой” слой: это — структурный ярус, определяющий лексику того или иного “языка”, однако не сама лексика.
В грамматике идиостиля словотворчество — это актуализированные специфические способы словообразования. У Хлебникова они приобретают такую роль, что мы не можем здесь мимоходом дать о его изощренном и сложном для анализа словотворчестве сколько-нибудь целостное представление. Сделаем лишь три замечания.
1. Именно со словотворчеством связаны в нашем перечне поединок слов (38), за которым скрывается, по-видимому, особый и неединообразный способ словосложения, пока не упоминавшийся в литературе о поэте (сонзори, мразнеги, тучлапа, спорвер и др.),43![]()
2. У Хлебникова — в духе времени — немало аббревиатур и сложносокращенных слов, не только общераспространенных (РКП, Чека, военмор, исполкомы) или переосмысленных (главлес), но и оригинальных (Главздрасмысел, Советы Азийского материка = Азматери, советпослы). В нашем сводном перечне такого рода “сокращения” вполне заслуживали бы отдельного номера — (54), но в свете вышесказанного нет необходимости без конца увеличивать число “языков”, так сказать, в двойных кавычках.44![]()
Для другой группы “языков”, которые на поверку тоже оказываются не “языками”, а лишь способами словопреобразования, в хлебниковском метаязыке нет родового имени. Мы бы предпочли такое обозначение, как паронимия, но оно, будучи “грецизмом”, не отвечает духу и форме иных “языков” — составляющих нашего объекта — уникального идиостиля в его лингвопоэтическом аспекте — и слишком выбивалось бы из номенклатуры, принятой поэтом (впрочем, ср. алгебраический язык). Остается принять в качестве родового название внутреннее склонение слов (42), генетически наиболее древнее в этой группе (см. «Учитель и ученик» — 1912 г.), хотя оно и связано с неосуществившимися надеждами Хлебникова на то, что ему удастся найти для “чередований” гласных (в неродственных корнях!) столь же убедительные (в его глазах!) семантические корреляты, что и для согласных, сначала только начальных, а позднее — в любой позиции в слове, и в конце жизни как будто было им почти полностью оставлено в пассивном запасе терминологии.45![]()
Остальные “языки” этой группы окажутся тогда элементарными приемами установления квазиродства “корней” и слов. Косое созвучие (10) и синонимичный ему косой перезвон речи (28) могут быть интерпретированы как “вокалический тип” паронимии (ВГ 1979а:280) с расподоблением гласных. Целинные созвучия (11) — как случаи “поэтической этимологии” без каких-либо “чередований” (там же, с. 280–281 и ВГ 1975б и 1977).
Большую трудность соотнесения с материалом представляют вывихи слова (12). Возможно, что сюда относится экспериментальное стихотворение «Пен пан» (II, 218) с его “обратными” рифмами типа о бесе — о себе и нечет — течений, но оно написано еще в середине 10-х годов и в общем не представляется продуктивным в наследии поэта. К подобным относительно редким фактам, кажется, ближе такое обозначение, как вращение слова (17).
Здесь мы можем, наконец, сформулировать обещанное третье замечание к словотворчеству.
3. Вывихи слова (12) — это все же, скорее, те многочисленные у позднего Хлебникова окказионализмы, которые получили в литературе название “релятивных” (Vroon 1975; ср. ВГ 1981): ончина (<кончина), отобняк (<особняк) и под. (III, 281). Возможно, что сюда же относится и более значительное множество окказионализмов типа вервонцы (<червонцы), весничий (<лесничий и т.п., изобилующие в статье «Наша основа» и в «Зангези» (могатство могачей и мн. др.). Вопрос этот, однако, не должен считаться достаточно проясненным.
Разложение слова (5) у Хлебникова явно противостоит скорнению согласных, как анализ по азбуке ума — процессу преобразования консонантов в значимые квазиморфемы, “фонемы-морфемы”, т.е. в ту же самую азбуку ума, или звездный язык. “Как таковое”, оно не может претендовать на ранг “языка” и должно быть осмыслено в рамках того многоаспектного явления, которое Хлебников называл звездным языком. «Царапиной по небу» и «Зангези» отнюдь не исчерпываются возможные иллюстрации такого анализа. Сошлемся на следующие строчки из отброшенных вариантов «Зангези» (ед. хр. 64, л. 89 об.):
Так слово Пресня “разлагается” на Эр и песня.46![]()
Очевидно, с разложением слова более или менее синонимически связаны, во-первых, мелкая колка слов (39), о которой см. выше, во-вторых, разложение слова на аршины ‹...› (47), где аршины — это попросту ‘составные части’, т.е. консонанты из азбуки ума, в-третьих, обнаженный костяк слова (46), т.е. структура слова с точки зрения звездного языка, иначе говоря, — совокупность составляющих слово консонантных “фонем-морфем”.
В результате проведенного анализа мы получили возможность сосредоточиться на четырех “главных языках”, составляющих основной (вместе со словотворчеством как принципом) лингвистический “спецификум” хлебниковского идиостиля. Не случайно три из них открывают пространный авторский перечень “языков” и все четыре — более сжатый семичленный перечень (см. выше).
Звукопись (3) естественно охватывает не только звукопись временем краски (25) — III, 344: Но вот песни звукописи‹,› где звук то голубой, то синий, то черный‹,› то красный, — но и птичьи речи (32), например утренние речи птиц солнцу (III, 319), или птичий язык (III, 387). Сюда же относится, как отмечалось выше, и «Гроза в месяце ау» (V, 73), возможно, характеризуемая и как личный язык. Последнее обозначение с осторожностью можно было бы распространить на все звукописные опыты, поскольку они как “субъективный язык”, очевидно, противопоставлялись “объективному”, в глазах Хлебникова, звездному языку. Однако исключение пришлось бы сделать для птичьих речей: ведь они представляют собой не столько звукопись в строгом смысле слова, сколько “звукозапись” птичьих голосов, опирающуюся на опыт орнитологии, а не на личный произвол примитивного словотворчества, как это имеет место в языке богов. Не только кукушкино ку-ку, но и тьорти едигреди вьюрка или цы-цы-цы-сссыы овсянки (III, 318–319) вовсе не являются выдумкой Хлебникова.
Есть у птичьих речей и особый лингво-экологический, что ли, аспект. Они непосредственно не соотнесены с почти неохватным множеством образов птиц в остальном творчестве поэта, но их включение в «Зангези» на равных правах с голосами людей и богов отвечает давней его мечте о насыщении русского языка голосами птиц и его усилиям:
Так он писал в неоконченной поэме «Жуть лесная» летом 1914г. (НП, 239).
Говоря о звукописи, хочется напомнить и тыняновские слова о том, что „переводя лицо в план звуков, Хлебников достиг замечательной конкретности:
Губы — здесь прямо осязательны — в прямом смысле.
Здесь — в чередовании губных б, лабиализованных о с нейтральными э и и — дана движущаяся реальная картина губ; здесь орган назван, вызван к языковой жизни через воспроизведение работы этого органа” (Тынянов 1977:313).47![]()
Тем более дифференцированно должна быть рассмотрена хлебниковская “заумь”, хотя сам поэт пользовался этой этикеткой для нестрогого обозначения самых разных сторон своего идиостиля, вплоть до звездного языка.
В более строгом смысле “термина” хлебниковский заумный язык (2) охватывает всего лишь незначительную часть интересующего нас идиостиля. Сюда должна быть отнесена, во-первых, конечно, волшебная речь (43), то, что поэт называл священным языком язычества, — все эти заклинания класса шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу, т.е. вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе отчета и который является как бы заумным языком в народном слове (V, 225).48![]()
![]()
![]()
В-третьих и в-четвертых, заумный язык распространяется на рассмотренные выше безумный язык (33) и личный язык (24). Как видим, даже в общей сложности — это относительно незначительные вкрапления в идиостиль, однако именно они привлекали внимание критики и публики, вырастая до масштабов легенды о Хлебникове-заумнике.
Нельзя обойти молчанием тот факт, что слово заумный (ср. заумь и заумник) еще в большей степени, чем слово самовитый (см. выше), обременено предвзятым словоупотреблением и односторонним пониманием. Литературный язык, разумеется, не может обойтись без словосочетаний типа заумная терминология (или заумный доклад, как известно, и Хлестаков „любил иногда заумствоваться”, а слово заумь (не заýмь!) совершенно необходимо не только в разговорной речи, но и в кодифицируемых сферах нашего общения. Однако хлебниковское употребление слова заумный индивидуально. Этот эпитет — всего лишь дифференцирующее определение в квазитермине заумный язык. “Заумным” в бытовом значении этого слова заумный язык является лишь с точки зрения бытового “здравого смысла”, неприменимой в данном случае. Сам Хлебников, подчеркивая, что есть способ сделать заумный язык разумным (V, 235), пришел к одной из “безумных идей” нашего века — к идее звездного языка. Однако не только в статьях и черновиках, но и в художественном творчестве он дал впечатляющие содержательные примеры овладения “заумью”, ее подчинения эстетически значимому смыслу (который, как правило, может далеко расходиться со “здравым”) и художественной дисциплине.
После всего сказанного о других “языках” вернемся к надолго прерванной теме и попробуем кратко эксплицировать звездный язык (16). Без дополнительных комментариев ясно, что абсолютным синонимом к нему выступает алгебраический язык (52), при помощи которого поэт изображает бой в звездном письме: В Ха облаков летают летчики ‹,› / Ла дыма над землей‹,› / Ла крови возле шашки‹,› / Зэ месяца в зе‹н›ице мертвеца (ед. хр. 14, л. 5).51![]()
Не приходится сомневаться и относительно другого “языка”, связанного со звездным и включенного нами в общий перечень. Опечатка (44), пишет Хлебников, рожденная несознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества; поэтому она может быть приветствуема как желанная помощь художнику. Слово цветы позволяет построить мветы, сильное неожиданностью (V, 233).52![]()
Тем не менее все без исключения тексты на звездном языке — это не свободные от обыденного языка “чистые” эксперименты, а тексты, представляющие собой соединение звездного языка и обыденного (45). При этом обыденный язык выступает не только в роли метаязыка по отношению к звездному или соучастника, например, в колоде пестрых словесных плоскостей в «Зангези» — III, 321, но и как его необходимый союзник, помощник, партнер, больше того — как его основание, с которым он в будущем, по мысли поэта, окажется уже не симбиотически, а метабиотически связанным.53![]()
Выше уже достаточно было сказано о том, как Хлебников понимал скорнение согласных (34). Еще в 1908 г. он сформулировал закон забвения происхождения словесной глыбы и равенства сложной составной словесной глыбы изначальному словесному ‘наделу’ ‹...› (ед. хр. 60, л. 15 об.). Это — раннее изложение идеи звездного языка, неясной пока и самому поэту, хотя термин скорнение, кажется, должен бы был появиться уже тогда. А вот позднейшее изложение идеи: ‹...› все слова, начатые с одной согласной, написаны одним почерком разума, одни‹ми› чернилам‹и› звука (ед. хр. 9, л. 12 об.).54![]()
Идея звездного языка и скорнения согласных прояснялась, судя по рукописям поэта, лишь постепенно, и даже «Наша основа» еще излагает предварительный этап языкотворчества. Вот признание самого Хлебникова: „Звездный язык” и тяготение к нему как крайней степени обобщения наступил для меня через 38 (дней) = 18 лет после вещей «Девьего Бога», где тяготение к цельному‹,› живущему‹,› как растение‹,› языку (ед. хр. 74, л. 52).55![]()
![]()
Не забудем, что идеей звездного языка пронизаны и многие другие “языки”, принципы и “приемы” поэта. Не говоря уж о словотворчестве, и разложение слова, и мелкая колка слов, и разложение слова на аршины ‹...›, и обнаженный костяк слова не могут рассматриваться в изоляции от этой идеи. Косвенно с ней связан и комплекс “языков” (т.е. “приемов”), объединяемых косым созвучием, хотя дистанция от опытов типа В высь весь вас звала (НП, 121) до консонантных “чередований” кажется значительной и лишенной “пересадочных станций”. На самом деле косое созвучие прямо указывает на консонантный инвариант при вокалических преобразованиях, который собственно и лежит в основе скорнения согласных.
Не переоценивая аналогий с обыденной речью, укажем все же на три разрозненных любопытных параллели со звездным языком и со словотворчеством Хлебникова из совершенно различных источников наших дней: 1) ряд лазер → мазер → газер
(гамма-лазер);57![]()
2) „Сегодня на даче холодно и Антон попросил:
— Папа, зажги гречку!
Ясное и экономное слово гречка — это печка, которая греет!”
(детская речь из коллекции Л. Куклина);58![]()
3) „‹...› Мебель, хренебель, рестораны” (в просторечии Александра Ивановича Кирпикова, героя «Живой воды» Владимира Крупина).59![]()
Эти факты не говорят о том, что поэзия Будетлянина предсказала терминотворчество НТР или предвосхитила словотворчество разговорной и детской речи. Они лишь свидетельствуют о еще не реализованных в широких масштабах потенциях обыденного языка и, возможно, о некоторых пока неясных тенденциях его дальнейшего развития.
В фонде Хлебникова в ЦГАЛИ мы обнаружили любопытные материалы, касающиеся попытки поэта популяризировать идеи звездного языка с помощью кино. Это краткие неразвернутые наброски, из которых процитируем беглую запись замысла: Сценарий полотно идет слово ряд пехотинцев заглавный звук на коне или аэроплане с шашкой указывает путь, за ним рядовые звуки слова пехотинцы (ед. хр. 93, л. 4, см. также л. 6 и 3 об.).
Последний из “языков” нашего перечня — это числовой язык (35). Как и в ряде других случаев, ему сопоставлено “слово” этого “языка” — числослово (1), или числоимена.
И. Поступальский в рецензии на том второй «Собрания произведений» Хлебникова (1930:190–191) полагал, что нет принципиальной разницы между поэтикой числа у Хлебникова, с одной стороны, и обращениями к числу у таких поэтов, как З. Гиппиус (стихотворение «Числа»: ‹...› Как имена вторые, нам даны / Божественные числа. ‹...› Никто сплетенья чисел не рассек. / А числа, нас связавшие навек, — / 2, 26 и 8) и К. Бальмонт (стихотворение «Числа» в сб. «Зарево зорь»). Но сходств здесь не больше, чем между вполне традиционным стихотворением Бальмонта «Чет и нечет» (1899), а также его же книжкой «Поэзия как волшебство» (1915), с одной стороны, и числословами 2n и 3n в поэзии Хлебникова или звездным языком — с другой.60![]()
Мало общего и между отношением к числу у Хлебникова и той числовой поэтикой, которая широко практиковалась в Средние века и была, в частности, систематически проведена Данте в «Божественной комедии», где, к примеру, размещение слов amore, fiamma и Grazia определялось, как недавно показал М. Хардт, символически понимаемым числом, соответствующим порядковому номеру песни, стиха и терцины, а общему числу употреблений некоторого слова могла придаваться символическая значимость, осложняемая тайным языком “гематрии”, т.е. суммированием числовых значений у букв некоторого имени, и т.п.61![]()
Пожалуй, некоторой параллелью к Данте может служить поэма «Поэт», рассчитанная ровно на 365 строк (подробности см. в работе Lönnqvist 1979:69–70; опубликованный вариант поэмы имеет 457 строк; см. также Анфимов 1935). О том, что Хлебникова интересовал Данте, свидетельствует краткая запись, относящаяся к 1921 г.: Данте было близко число 7. Вирг‹илию —› 71 (ед. хр. 92, л. 32 об.). Может быть, что во время встреч Хлебникова с Вячеславом Ивановым в Баку также шла речь о Данте. Ср. такую запись для себя:
‹...› 1 янв‹аря› 1921 Вяче‹слав› Ива‹нов› предложил писать космическ‹ую› поэ‹му› (там же, л. 48 об.).
Хлебниковское отношение к числу следует рассматривать и оценивать в связи с прокладывающим себе дорогу в XX в. взаимодействием лингвистики и поэтики, которое опирается и на поиски самим искусством соответствий между “точным” и “поэтичным”, если воспользоваться выражением В. Гюго, который даже утверждал, что „число играет в искусстве такую же роль, как и в науке”.62![]()
„Основное число человечества по Хлебникову — 317” (Спасский 1935:201). Здесь мы имеем типичный случай самоуверенной неправды, тщательно перевранной, как выражался Хлебников (V, 257), идеи. И мы до сих пор не опровергли этой благонамеренной приблизительности, потому что, как и ее автор, не удосужились познакомиться хотя бы с «Досками судьбы», не говоря уж об архивных фондах. Но даже на уровне 10-х годов можно было бы задержаться на строчках из «Детей Выдры» (II, 165):
В этой работе не ставится задача излагать в деталях и анализировать гамму будетлянина в ее истоках и результатах, в противоречиях ее очень сложной эволюции и перипетиях последующих оценок. Укажем ниже только на главное в интересующем нас аспекте; пока же подчеркнем неправомерность неразличения этапов, которые прошло хлебниковское учение о времени: грань декабря 1920 г., когда был открыт основной закон времени (см. НП, 385 и 386; V, 315–319, а также ряд цитат в этой работе), является важнейшей; даже статья «Наша основа» написана до “открытия закона”. Рассуждать об “основных числах” у Хлебникова без обращения к «Доскам судьбы» и рукописным материалам 1921–1922 гг. бессмысленно.
Прежде всего, однако, необходимо сказать несколько слов о последних двух “языках” из нашего перечня. Это — язык имен собственных (48) и язык речей (49). Оба они — разновидности числового языка.
В ЦГАЛИ, в фонде Хлебникова, в отдельной единице хранения (ед. хр. 86) собраны разрозненные листы, в основном представляющие собой записи для «Досок судьбы» (но не только!) и относящиеся опять-таки лишь главным образом к 1920–1922 гг. (на отдельных листах, написанных по старой орфографии, мы находим отрывки из дневников еще студенческой экспедиции поэта на Урал!). Лист 28, на котором упомянуты и кратко описаны “языки” (48) и (49), следует отнести самое позднее к 1918г., но, имея в виду и старую орфографию, и параллель в одном из хлебниковских «Предложений» 1915–1916 гг. (V, 158), едва ли мы ошибемся, если скажем, что оба эти “языка”, позднее не упоминаемые, еще дореволюционная идея поэта.64![]()
Язык имен собственных должен включать в себя все мифы и истории таких общеизвестных персонажей, как Лейли, Медлум (т.е. Меджнун), Дафнис, Хлоя и т.д. Каждому имени приписывается некоторое число, так что ‹...› написав в карманной книге 17 и 13, я предлагаю быть Дафнисом и Хлоей. Филемон получает число 333, Бавкида — 444, Отелло — 99, Астарта — 77, Дон Жуан — 88,65![]()
Соответственно язык речей состоит из набора стандартных вопросов и ответов, как бы мы теперь сказали, в типических ситуациях разговорной речи (или лучше — общения). Насколько можно понять, основной том словаря этого “подъязыка” охватывает в левой своей части все соответствующие реплики всех языков, или, как пишет автор, всеобщее обращение, а в правой — даются определения в подлиннике (?) и единый для всего человечества номер — 1383, 7, 9 и т.п. Другой том строится как перевод основного тома на все переречия [!] земли, вступившие в союз.
Мотивом к разработке обоих “подъязыков” является следующее простое и ядовитое соображение: По большей части то, что говорится, очень глупо и нравственно некрасиво.66![]()
![]()
Не противоречивым, а дополнительным относительно этого проекта выступает и совсем иная идея Хлебникова, также лишь намеченная в черновиках «Царапины по небу» (ед. хр. 14, л. 8 об.): 2‹-я› система счисления: берется 365 разных слогов и числа обозначаются этими слогами.

персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 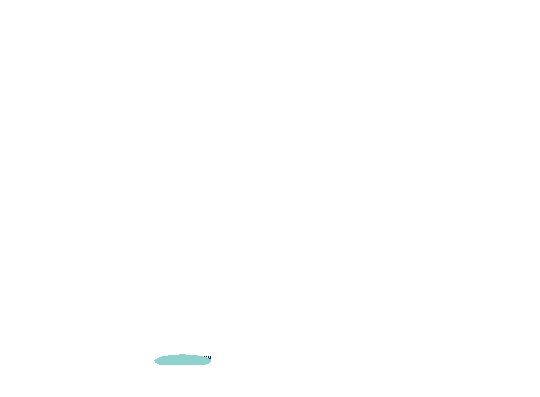 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||