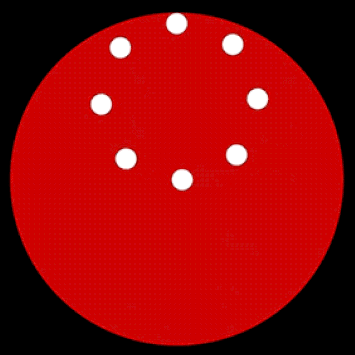Рэймонд Кук
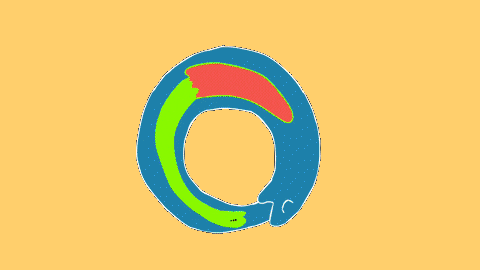
Велимир Хлебников. Переосмысление
Окончание. Предыдущие главы: 




5. Единая книга
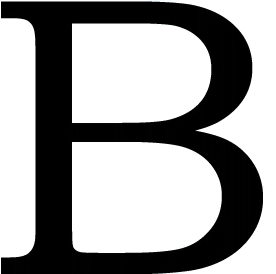
представлении Хлебникова об утраченной благодати первобытных времён едва ли не главное — уверенность в бытовании понятного всем и каждому языка: иноплеменная речь не нуждалась в переводе,
слова разрушали вражду и делали будущее прозрачным и спокойным (
СП V: 216). Нечто подобное лежит и в основе хлебниковской утопии: достижения науки и искусства мгновенно транслируются посредством
теневых книг и
радиочитален (
СП IV: 287–295).
Памятуя об этих чудесах доступности, распространение собственных произведений Хлебникова удовлетворительным признать нельзя. Приход их к читателю был далеко не своевременным, вероятность приобретения — крайне малой. Хуже того — есть мнение, что ни один другой русский поэт не представлен корпусом столь искажённых текстов.1
Начнём с того, что подход издателей из числа футуристов к рукописям Хлебникова ответственным не назовёшь. Как свидетельствует Маяковский, „нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая весёлое недоумение Хлебникова”.2 К сожалению, некоторые из огрехов футуристских сборников проникли в пятитомник (СП) под редакцией Степанова, который и сам как текстолог не всегда на высоте задачи.
К сожалению, некоторые из огрехов футуристских сборников проникли в пятитомник (СП) под редакцией Степанова, который и сам как текстолог не всегда на высоте задачи.
Спору нет, состояние рукописей Хлебникова (хотя это никоим образом не оправдывает стороннего самоуправства) далеко не образцовое. Почерк его неразборчив, исправления и дополнения порой маловразумительны, незавершённые произведения и наброски новых могут соседствовать на одной странице, „во многих случаях даже трудно решить, к какому произведению ‹...› принадлежит тот или иной фрагмент”.3 Бенедикт Лившиц вспоминает о трудностях, с которыми он и Николай Бурлюк столкнулись при разборе бумаг, оставленных в Чернянке гостившим там (лето 1910) Хлебниковым:
Бенедикт Лившиц вспоминает о трудностях, с которыми он и Николай Бурлюк столкнулись при разборе бумаг, оставленных в Чернянке гостившим там (лето 1910) Хлебниковым:
Это был беспорядочный ворох бумаг, схваченных как будто наспех. На четвертушках, на полулистах, вырванных из бухгалтерской книги, порою просто на обрывках мельчайшим бисером разбегались во всех направлениях, перекрывая одна другую, записи самого разнообразного содержания. Столбцы каких-то слов вперемежку с датами исторических событий и математическими формулами, черновики писем, собственные имена, колонны цифр. В сплошном истечении начертаний с трудом улавливались элементы организованной речи.
Привести этот хаос в какое-либо подобие системы представлялось делом совершенно безнадёжным. Приходилось вслепую погружаться в него и извлекать наудачу то одно, то другое. ‹...›
Конечно, оба мы были плохими почерковедами, да и самый текст, изобиловавший словоновшествами, чрезвычайно затруднял нашу задачу, но по чистой совести могу признаться, что мы приложили все усилия, чтобы не исказить ни одного хлебниковского слова, так как вполне сознавали всю тяжесть взятой на себя ответственности.
4
Современники-мемуаристы практически единодушны: обращение Хлебникова с „четвертушками и полулистами” бережным не назовёшь. „Он всё теряет”, — писал Давид Бурлюк Левкию Жевержееву в 1913 году;5 Маяковский приписывает Хлебникову обыкновение набивать наволочку рукописями, а затем терять её.6
Маяковский приписывает Хлебникову обыкновение набивать наволочку рукописями, а затем терять её.6 Коллеги-футуристы Хлебникова склонны оправдывать вольное обращение с его рукописями самим фактом их издания. Николай Асеев, например, оценивал заслуги Бурлюка-публикатора чрезвычайно высоко: по его мнению, “отец русского футуризма” и был спасителем текстов Хлебникова. Ещё до санталовской трагедии он заявил:
Коллеги-футуристы Хлебникова склонны оправдывать вольное обращение с его рукописями самим фактом их издания. Николай Асеев, например, оценивал заслуги Бурлюка-публикатора чрезвычайно высоко: по его мнению, “отец русского футуризма” и был спасителем текстов Хлебникова. Ещё до санталовской трагедии он заявил:
.
‹...› перечислять произведения Хлебникова — занятие пустое. Большинство их не попадает в печать по небрежности автора, не заботящегося об их судьбе, и по преступному равнодушию современников, из которых только Д.Д. Бурлюк обладал способностью разглядеть будущую гордость русского искусства и публиковать эти работы ‹...›
7
Да и сам Бурлюк был не прочь напомнить о своей прозорливости. На склоне лет он описывает, как однажды подобрал с пола клочок бумаги, который оказался, „шедевром новой русской литературы”. Это было «Заклятие смехом».
8
Относительно понимания Бурлюком значения Хлебникова сомневаться и в самом деле не приходится. В уже упомянутом письме к Жевержееву читаем:
Хлебников выше критики. ‹...› Хлебников требует забот. Его надо собирать. Рукописи его надо хранить. Он требует как никто полного издания — построчного — своих вещей. Это собрание ценностей, важность которых учтена сейчас быть не может.
9
И всё-таки известен случай недовольства Хлебникова издателями: распространение Давидом и Николаем Бурлюками без разрешения и в искажённом виде произведений, не предназначенных для печати, встретило яростный отпор. Особенно поэт был возмущён тем, что братья завладели путём хитрости старым бумажным хламом (СП V: 257). Хлебников был далёк от последовательности в неприятии самоуправства “первопечатников” (рукописи тщательно перевирались и в дальнейшем, но без видимых проявлений негодования поэта), но этот случай доказывает, что к судьбе своих произведений Хлебников был равнодушен отнюдь не всегда. Из его переписки, например, следует, что дважды — в 1909 и 1915 годах — он просил Каменского вернуть ему неопубликованные автографы. Эти листки мне дороги, — пишет он в первом из этих писем (НП: 355, 380).
Более того, на излёте жизни Хлебникова определённо тревожила судьба его рукописного наследия. В конце 1921 года ему пришла в голову идея поручить Татлину построить часовенку для рукописей ‹...› железный череп общий чугунный лоб хранящий наши дела и мысли чтобы мыши времени не сгрызли их.10 И мыши времени были о ту пору не единственными его недругами: Хлебников не просто роптал на небрежное обращение соратников по футуризму с его рукописями, но прямо обвинял их в краже и плагиате. Таким образом, расхожее мнение о беспечности Хлебникова в обращении с плодами своих дел и мыслей не соответствует действительности.
И мыши времени были о ту пору не единственными его недругами: Хлебников не просто роптал на небрежное обращение соратников по футуризму с его рукописями, но прямо обвинял их в краже и плагиате. Таким образом, расхожее мнение о беспечности Хлебникова в обращении с плодами своих дел и мыслей не соответствует действительности.
Запоздалая обеспокоенность Хлебникова тем, что коллеги-футуристы обращаются с его рукописями не должным образом, связана с мерой включённости поэта в будетлянство как литературное движение. Да, его работы действительно были отчасти перевраны в замахе на „пощёчину общественному вкусу”, но выгода от продвижения их в печать и провозглашения автора гением, надо полагать, перевешивала. После отказа тогдашних “властителей дум” печатать его произведения сборники футуристов оказались для будетлянина едва ли не единственной отдушиной. Ваан Барушьян зашёл так далеко, что предположил:
Хлебников, очевидно, вступил в союз с футуристами единственно из желания публиковать свои вещи.
11
Разумеется, каково бы ни было отношение Хлебникова к своим рукописям, издание таковых он приветствовал. Возмущаясь обнародованием отдельных работ или небрежной редактурой, против печатного станка он отнюдь не возражал. Письма поэта изобилуют названиями журналов и сборников с опубликованными (или планируемыми) его сочинениями. Более того, можно проследить настойчивые попытки Хлебникова пробиться к читателю. Приступайте к печатанию! — взывает он к Матюшину в апреле 1911 года, — ‹...› пришлите телеграмму с таинственным словом — да! (НП: 359–360). Десятилетие спустя эти же настроения обнаруживаем в письме Осипу Брику по поводу выхода собрания сочинений: Но главная тайна, блистающая, как северная звезда, это — изданы мои сочинения или нет? Шибко боюсь, что нет! (НП: 384).
Именно незадача с итоговым изданием вызвала очевидную в последние месяцы жизни поэта неприязнь к былым литературным соратникам. По его мнению, те, на кого по старой памяти он столь опрометчиво положился, провалили дело. А ведь час вверить человечеству законы времени в их окончательном виде пробил. Увы, мечта обнародовать «Доски судьбы» вряд ли встретила бы у издателя сочувствие: даже стихи напечатать не удалось.12
Трения между поэтом и его коллегами-футуристами Степанов полагает причиной того, что „Хлебников до сих пор заслонён лесами футуризма” (СП I: 34). Кстати говоря, редактор-составитель СП, в отличие от соратников Хлебникова по футуризму, настаивает: поэт „к рукописям относился очень заботливо” (СП I: 15) и проявлял „отнюдь не безразличное или небрежное к ним отношение” (СП I: 35). Не доверять профессиональному знатоку “хождения по мукам” найденных к тому времени хлебниковских рукописей вряд ли разумно: поэт
постоянно возил их с собой (это был его единственный багаж), иногда лишь давая их на хранение; в особенности он заботился об участи своих вычислений.
СП I: 15
Если вспомнить, что бóльшую часть жизни Хлебников не имел постоянного пристанища, пресловутая наволочка с обрывками и клочками оказывается выдумкой, если не злостным измышлением. Рукописи были единственным имуществом и постоянными спутниками Хлебникова. Тот, кого коллеги-футуристы ославили растеряхой, Степанову представляется расчётливым путешественником, который, оставляя при себе удобоносимое, сдаёт багаж в камеру хранения.
И всё-таки сведения об отношении Хлебникова к своим рукописям противоречивы и довольно невнятны. Думается, объяснимо это или состоянием самих бумаг (вспомним оценку старый бумажный хлам, СП V: 257) или охлаждением к ним автора. Однако не следует забывать и в том, что Александр Парнис назвал „идеалом бродячего певца”.13
Как и многие из знакомцев Хлебникова, харьковский психиатр Анфимов, обследовавший его в 1919 году, свидетельствует, что поэт „терял свои вещи”,14 но при этом делает оговорку: Хлебников „всем своим существом вошёл в жизнь литературной богемы,” пребывая в убеждении, что „поэты должны бродить и петь”.15
но при этом делает оговорку: Хлебников „всем своим существом вошёл в жизнь литературной богемы,” пребывая в убеждении, что „поэты должны бродить и петь”.15 В последнем случае Анфимов дословно цитирует “декларацию творцов”, которую, по словам Дмитрия Петровского, они с Хлебниковым составили в 1918 году.16
В последнем случае Анфимов дословно цитирует “декларацию творцов”, которую, по словам Дмитрия Петровского, они с Хлебниковым составили в 1918 году.16 Этот призыв объявить поэтов „вне нации, государства и обычных законов” и предоставить им права „беспрепятственного и бесплатного переезда по железным дорогам, выезд за пределы Республики во все государства всего мира”, был доведён до сведения большевистского наркома просвещения Луначарского, но этим дело и кончилось.17
Этот призыв объявить поэтов „вне нации, государства и обычных законов” и предоставить им права „беспрепятственного и бесплатного переезда по железным дорогам, выезд за пределы Республики во все государства всего мира”, был доведён до сведения большевистского наркома просвещения Луначарского, но этим дело и кончилось.17
Но почему Хлебников распоряжался плодами своего ума и таланта столь диковинным для пишущей братии образом? Если предположить игру поэта в первобытного барда, то значение рукописи сводится к нулю: сохранность текста гарантирована не бумажной копией, а тренированной памятью. С другой стороны, окончательной и неизменной такого рода изящная словесность не могла быть по определению. Однако во времена Хлебникова грамотность населения уже достигла уровня, когда тон межличностному общению задавал печатный станок. Не объясняется ли явно двойственное отношение будетлянина к сохранности своих бумаг сшибкой “духа Гутенберга” (точное соответствие печатного текста рукописному) с дописьменным подходом к воспроизведению образца (дословное не обязательно, улучшенное приветствуется)?
Хлебников, конечно, прекрасно понимал, что для сохранения его произведений печатный станок необходим. Но, похоже, сам подход поэта к речетворству отрицал полностью готовую к набору, выверенную до последней запятой рукопись. Постоянная правка написанного — вот, по большому счёту, хлебниковский “способ производства”. Об этом свидетельствуют практически все, кто держал в руках рукописи Хлебникова,18 и Степанов, когда говорит об „отнюдь не безразличном или небрежном” отношении поэта к своим автографам (СП I: 35), подразумевает именно стремление к совершенству. Однако недоверие к написанному в один присест — показатель ответственности писателя — казалось издателям Хлебникова из числа футуристов едва ли не вандализмом. Оказывается (и это, должно быть, способствовало перевиранию рукописей), составители футуристских сборников опасались доверить Хлебникову вычитку типографского набора: он всё переписывал заново. Об этом свидетельствуют очевидцы. Петровский: „Хлебникову нельзя было давать корректуры, он не исправит, а перепишет всё заново по-иному”. Маяковский: „К корректуре его нельзя было подпускать, — он перечёркивал всё, целиком, давая совершенно новый текст”. Давид Бурлюк: „Хлебников не способен делать корректуру — он пишет поверх её новый вариант. Его от печатания надо устранить совершенно”.19
и Степанов, когда говорит об „отнюдь не безразличном или небрежном” отношении поэта к своим автографам (СП I: 35), подразумевает именно стремление к совершенству. Однако недоверие к написанному в один присест — показатель ответственности писателя — казалось издателям Хлебникова из числа футуристов едва ли не вандализмом. Оказывается (и это, должно быть, способствовало перевиранию рукописей), составители футуристских сборников опасались доверить Хлебникову вычитку типографского набора: он всё переписывал заново. Об этом свидетельствуют очевидцы. Петровский: „Хлебникову нельзя было давать корректуры, он не исправит, а перепишет всё заново по-иному”. Маяковский: „К корректуре его нельзя было подпускать, — он перечёркивал всё, целиком, давая совершенно новый текст”. Давид Бурлюк: „Хлебников не способен делать корректуру — он пишет поверх её новый вариант. Его от печатания надо устранить совершенно”.19
Редакторы-футуристы стремились “уберечь” рукописи Хлебникова от него самого. Их отношение к его автографам, таким образом, “оправдано” не только угрозой физическому существованию „четвертушек и полулистов” (по вине якобы разгильдяя Хлебникова), но и “опасностью” для их литературного бытия (вследствие творческого метода автора).
Итак, Хлебников записывал свои произведения, а потом их переделывал. Целиком. Даже набранное свинцавой. Общепринятому понятию о книге это соответствует с большой натяжкой. Не поэтому ли кое-кто приписывает творчеству поэта “дурную бесконечность”? Маяковский был в этом смысле одним из самых откровенных: „Законченность его напечатанных вещей — фикция. Видимость законченности чаще всего дело рук его друзей”.20 Вопрос о цельности творчества Хлебникова сложен ещё и потому, что итогом переработки текста может оказаться и правленый черновик, и “беловик беловика” — вариант, не отменяющий достоинств первоначального текста. И тогда составителям «Избранного» приходится заниматься не отсевом предварительных почеркушек, а искать мерило поговорки „лучшее — враг хорошего”.
Вопрос о цельности творчества Хлебникова сложен ещё и потому, что итогом переработки текста может оказаться и правленый черновик, и “беловик беловика” — вариант, не отменяющий достоинств первоначального текста. И тогда составителям «Избранного» приходится заниматься не отсевом предварительных почеркушек, а искать мерило поговорки „лучшее — враг хорошего”.
Бывало и так, что Хлебников восстанавливал по памяти свои старые стихи (ИС: 477–478). И это не были затверженные строки отстуканного когда-то на пишущей машинке.21 Такая гибкость воссоздания отнюдь не удивила бы дописьменного барда: уже готовое переиначивается, и новый извод не отменяет, а встаёт рядом с предыдущим.22
Такая гибкость воссоздания отнюдь не удивила бы дописьменного барда: уже готовое переиначивается, и новый извод не отменяет, а встаёт рядом с предыдущим.22 Изучив подборки хлебниковских вариантов, редакторы НП Харджиев и Гриц пришли к важному выводу:
Изучив подборки хлебниковских вариантов, редакторы НП Харджиев и Гриц пришли к важному выводу:
Хлебников многократно перерабатывал свои стихи не только для того, чтобы придать им более “законченную” или “совершенную” редакцию, но и потому, что он ощущал каждую свою словесную конструкцию не как вещь, а как процесс. ‹...›
Понятие канонического текста неприменимо ко многим произведениям Хлебникова.
НП: 12
Этим засвидетельствована глубинная особенность хлебниковского творчества — подвижность и текучесть. Вообще говоря, произведение может быть как законченным, так и незавершённым, как целостным, так и фрагментарным. С одной стороны, автор вправе множить версии ранее написанного, с другой — почему бы каждой из них не оказаться самовитой?
Как бы ни претила редакторам-футуристам эта особенность творческого метода Хлебникова, она своеобразно воплощает идеал именно футуристической эстетики. Кубистское направление в живописи отвергло веками навязываемую статику форм, провозгласив идеалом их “самосборку” из квази-плоскостей на сетчатке глаза. Поэты футуристского толка подхватили это новшество: война застылости языка объявлена уже в ранних манифестах, соавтором которых был Хлебников. В совместном с Кручёных «Слове как таковом» читаем:
живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). этим достигается наибольшая выразительность. и этим именно отличается язык стремительной современности уничтожившей прежний застывший язык.
23
В «Букве как таковой» проповедано преимущество рукописных текстов над печатными, а
мертворожденное слово официальной литературы высмеивается (
СП V: 248).
24
Именно такими умонастроениями объяснимы просьбы Хлебникова к друзьям внести в его произведения нечто своё. Маяковский, например, вспоминает о том, как Хлебников, давая что-то в печать, добавлял: „если что не так — переделайте”.25
Творчество есть процесс, а не единичный акт, и этот процесс, по мнению Хлебникова, вовсе не обязательно подразумевает единоличность. Пример тому — сотрудничество с Кручёных. Поскольку соавторами они бывали неоднократно, удивляться тому, что Хлебников уведомляет Кручёных о его праве вносить изменения в присылаемый текст (СП V: 298), не приходится.26 Хлебников не только сам переработал свои произведения, но и позволял это делать другим. То, что кому-то представляется небрежным обращением с рукописями, на поверку может оказаться осознанным и вполне приемлемым подходом к творческому процессу.
Хлебников не только сам переработал свои произведения, но и позволял это делать другим. То, что кому-то представляется небрежным обращением с рукописями, на поверку может оказаться осознанным и вполне приемлемым подходом к творческому процессу.
II
Именно динамичность творческого процесса Хлебникова способствовала пониманию его поэзии как „одного бесконечного стихотворения”
27
или „огромной фрески, непрерывно создаваемой”.
28
Дело в том, что, помимо разрастания дорабатываемого произведения в набор самостоятельных вариантов, излюбленным приёмом Хлебникова были вариации на одну и ту же тему. Эстетический принцип, которым, по-видимому, он руководствовался, таков: на одном уровне отдельные произведения допустимо рассматривать как самостоятельные, на другом — поскольку творческий процесс, их порождающий, динамичен — они взаимодействуют с другими
отдельностями, которые, в свою очередь, ещё с кем-то и так далее. Такой “символ веры” находит свой критический отклик в “открытом подходе”, обсуждавшемся ранее.
29
Роналд Вроон полагает, что
‹...› всё творчество поэта представляет собой целостный комплекс, где любое отдельно взятое произведение заключает в себе множество других. Если рассматривать таковые порознь, они могут показаться фрагментарными или композиционно беспорядочными, но когда эти фрагменты сомкнуты с другими, они образуют единое целое.
30
Поэтому-то у Хлебникова столь многочисленны циклы или “созвездия”. Поэт как бы тяготел к этой форме в силу естественного влечения. Более того, это влечение, похоже, было осознанным.
31
Неверно думать, будто Хлебников был принципиально против использования традиционных жанровых индикаторов или не имел склонности экспериментировать с некоторыми редкими жанрами.32 Очевидно другое: настойчивое стремление поэта вырваться за рамки прописных ограничений ради собственного понимания задач литературы. Направление, которое избрал Хлебников, — композиционная форма, названная им сверхповестью (заповестью) — тот же цикл, но единственный в своём роде по разнообразию используемых приёмов.33
Очевидно другое: настойчивое стремление поэта вырваться за рамки прописных ограничений ради собственного понимания задач литературы. Направление, которое избрал Хлебников, — композиционная форма, названная им сверхповестью (заповестью) — тот же цикл, но единственный в своём роде по разнообразию используемых приёмов.33 Хлебников замыкает различные тексты — иногда в смеси форм (стихи, проза, драма) — в рамки единой структуры. Каждый текст сохраняет самовитость, но в то же время тяготеет к смежным, создавая впечатление взаимосвязанности. Хлебников, надо полагать, искал подходы к форме сверхповести ещё на заре русского футуризма. В письме Каменскому (август 1909) читаем:
Хлебников замыкает различные тексты — иногда в смеси форм (стихи, проза, драма) — в рамки единой структуры. Каждый текст сохраняет самовитость, но в то же время тяготеет к смежным, создавая впечатление взаимосвязанности. Хлебников, надо полагать, искал подходы к форме сверхповести ещё на заре русского футуризма. В письме Каменскому (август 1909) читаем:
Задумал сложное произведение «Поперёк времени», где права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывается к рюмке. Каждая глава должна не походить на другую. При этом с щедростью нищего хочу бросить на палитру все свои краски и открытья, а они каждое властны только над одной главой ‹...›.
НП: 358
Слова о нарушении прав логики времени и пространства наводят на мысль, что Хлебников предполагал некое формальное новшество применительно к собственным изысканиям способов преодоления временны́х барьеров. Именно такое преодоление налицо в «Детях Выдры», где нимало не совпадающие во времени (и пространстве) Ганнибал, Разин и Коперник мирно беседуют на острове Хлебникова. Вопросы времени и законов, которые, по мнению поэта, управляют им, без околичностей поставлены в «Зангези», кульминационной сверхповести Хлебникова.
Поскольку понятие сверхповесть Хлебников, по-видимому, не считал нужным пояснять вновь и вновь, обратимся к Введению в «Зангези», отчасти раскрывающему её композиционные принципы:
Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. ‹...› Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело — белого камня, плащ и одежда — голубого, глаза — чёрного. ‹...›
Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из “рассказов” есть сверхповесть.
СП в 317
Итак, в форме
сверхповести слиты воедино понятия фрагмента (
отрывка) и целого. Независимые блоки составляют единое
изваяние. Хотя каждое фрагментарное произведение Хлебникова не приходится считать задуманным как
сверхповесть, из вышесказанного ясно, что формальная сторона концепции
отрывка действительно занимала Хлебникова. Подтверждение этого находим в замечании Степанова о том, что Хлебников планировал большую вещь под названием «Озирис XX века»:
34 Писать, как написано «Ка»
Писать, как написано «Ка» ‹...›
применить метод писем ‹...›
метод отрывков ‹...›
описания вещей ‹...›
разборка сундука (
СП IV: 331). Упоминание в этом контексте «Ка» и цитированные выше слова о
нарушении прав логики времени и пространства определённо допускают включение этого произведения (герой которого с лёгкостью перемещается по столетиям и континентам) в реестр хлебниковских
сверхповестей.
В соответствии с общим подходом Хлебникова к литературной форме законы этого новоявленного жанра оказываются весьма гибкими. «Дети Выдры» (1911–1913), первая по счёту сверхповесть, и «Зангези», последняя, содержательно скреплены своими главными героями, известными по многим независимым отрывкам, которые были созданы или переписаны с учётом общей структуры. Более того, оба сочинения — смесь прозы, драмы и стихов. А вот «Азы из узы» и «Война в мышеловке» гораздо более похожи на цикл самостоятельных стихотворений с единой темой. Гибкость сверхповести такова, под этот жанр подпадают даже такие поэмы, как «Прачка» и «Настоящее».35 При этом обе являются образчиками составных текстов.
При этом обе являются образчиками составных текстов.
Именно в контексте сверхповести, а также с учётом постоянной переделки/перекомпоновки по памяти можно подметить в творчестве Хлебникова любопытное явление, известное под русским термином “заготовка”: отрывки одного произведения перекочёвывают в другое. Например, строки о сетке чисел в «Сердца прозрачней, чем сосуд...» (НП: 25) повторены в «Зангези» (СП III: 357). Можно привести и другие примеры.36 Стоит также отметить, что отдельные произведения, входящие в сверхповесть, могут сосуществовать независимо или впоследствии “изолироваться” как отдельные тексты.37
Стоит также отметить, что отдельные произведения, входящие в сверхповесть, могут сосуществовать независимо или впоследствии “изолироваться” как отдельные тексты.37 Это похоже на, скажем так, “заготовку с дальним прицелом”.
Это похоже на, скажем так, “заготовку с дальним прицелом”.
Учитывая общую динамичность искусства Хлебникова и тот факт, что он рассматривал творческий акт как процесс, понятно, что подлаживаться под стандарты печатных изданий такой автор отнюдь не собирался. И не он один: неприятие современного искусства книги — один из эстетических принципов поэтов-гилейцев. Когда они ступили на литературное поприще, “властители дум” из числа стихотворцев печатались в роскошных журналах «Золотое руно», «Весы» и, разумеется, «Аполлон». Гилейцы отвергли типографское благолепие, намеренно выпуская книги самого неказистого вида. Дорогостоящему глянцу и щегольским виньеткам символистских изданий они противопоставили копеечные затраты на печать. Первый «Садок судей» (1910), например, был „целиком отпечатан на обратной стороне дешёвых обоев, а этикетка с названием красовалась на их казовой стороне”.38 Веленевой бумаге, до мелочей продуманным шрифтам и роскошным иллюстрациям “казали кукиш” оттиснутые с литографского камня каракули:
Веленевой бумаге, до мелочей продуманным шрифтам и роскошным иллюстрациям “казали кукиш” оттиснутые с литографского камня каракули:
кустарный вид был задуман не для соперничества с изысканной элегантностью изданий символистов, а как антитеза таковым.
39
Неприятие печатного текста достигло высшей степени отрицания. В манифесте Кручёных и Хлебникова «Слово как таковое» читаем: „Речетворцы должны бы писать на своих книгах: прочитав — разорви!”40 По-видимому, именно так поступал Хлебников: по словам Давида Бурлюка,
По-видимому, именно так поступал Хлебников: по словам Давида Бурлюка,
у него была “дурная привычка” вырывать прочитанные страницы.
41
Однако для Хлебникова этот ярко выраженный антиэстетизм был чем-то бóльшим, нежели чисто негативным отношением: книгоиздательской косности литературного бомонда он противопоставил живое искусство простонародья. Уже в ранней брошюре «Учитель и ученик» поэт задаётся вопросом: Почему русская книга и русская песня оказались в разных станах? (СП V: 182). Не весьма приязненное отношение к печатным изданиям обнаруживаем и в другом месте этого сочинения:
Ученик. Видишь ли, я думаю о действии будущего на прошлое. Но разве можно с таким грузом книг, какой есть у старого человечества, думать о таких вещах! Нет, смертный, смиренно потупи взгляд? Где великие уничтожители книг? По их волнам нельзя ходить, как по материку незнания!
СП V: 174
Антиэстетизм футуристов «Гилеи» есть попытка оживить художественное восприятие, обновить образ и покончить с предзаданностью письменной речи. Их эксперименты направлены на создание „новых живых слов”.
42
В «Нашей основе» читаем:
Словотворчество — враг книжного окаменения языка, и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем. Новое слово не только должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи. Словотворчество не нарушает законов языка.
СП V: 233–234
Итак, книгопечать способствует окаменению языка, тогда как словотворчество — залог его развития. Отказ от книги в пользу живой природы отчетлив уже в хлебниковском «Зверинце»: Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочитанных книг (НП: 286). Стихотворение «Песнь мне» — с тем же посылом: В век книг / Воскликнул я: „Мы только зверям / Верим!” (НП: 205). Отвращение к набранному свинцавой очевидно в поэме «Синие оковы», где бумажная книга названа кладбищем соснового бора. Поэт, говоря о живом слове и событий азбуке, предпочитает непосредственное общение белому листу (СП I: 292).
Порицание книг, особенно многотомных научных изданий, могло быть вызвано неприязнью Хлебникова к их авторам. Одним из тех, на кого направлено острие критики поэта, был Карл Маркс, и советские блюстители нравов Хлебникову этого, разумеется, не простили. В «Детях Выдры» карфагенский полководец Ганнибал угрожает Марксу физической расправой. Встретив на острове Хлебникова Сципиона, Ганнибал не только выказывает недовольство эстетической стороной марксизма (Карл мрачно учит нас), но прямо предлагает:
Давай возьмём же по булыжнику
Грозить услугой тёмной книжнику?
(СП II: 173)
Борис Яковлев, злобно атакуя Хлебникова в «Новом мире» (1948), не преминул воспользоваться этим высказыванием, дабы очернить поэта.
43
Яковлев приводит ещё один пример непочтительности Хлебникова к марксизму:
В
шуточной поэме «Внучка Малуши» Хлебников призывает разжечь
радостный костёр из книг,
терзающих молодёжь, как
свирепые вериги, — так характеризует он марксистскую литературу.
44
Марксистская литература, которую Хлебников предает огню в этом произведении, — книги Каутского и Бебеля:
Челпанов, Чиж, Ключевский,
Каутский, Бебель, Габричевский,
Зернов, Пассек — все горите!
Огней словами — говорите!
(СП II: 75–76)
Другие авторы, чьи произведения сжигаются, к марксизму не имеют никакого отношения: профессор психологии, профессор судебной психиатрии, историк, бактериолог и анатом.
45
То, что Каутский и Бебель были писателями-социалистами, вызывает куда меньшее недоумение, чем нападки на книги вообще и на учебники в частности. О «Внучке Малуши» Марков пишет:
Её тема — резкий сатирический контраст современного образования и его сухого, книжного подхода к естественным наукам с языческой свободой и близостью к природе.
46
Призыв к сожжению книг можно расценить и как антиправительственный акт: пламя истребит символы власти: в антивоенном «Веко к глазу прилепленно приставив...» (1917) поэт ставит Государства в один ряд с книгоиздательствами / И торговыми домами Война и К° (СП III: 21).
Ритуальное сожжение книг — отдельная тема у Хлебникова. Призыв к аутодафе такого рода находим в «Разговоре двух особ» (1913), продолжении диалога «Учитель и ученик». Здесь короткая атака на труды Иммануила Канта — немецкого философа, к которому Хлебников не питал особенного уважения — завершается признанием:
Я тоскую по большому костру из книг. Жёлтые искры, беглый огонь, прозрачный пепел, разрушающийся от прикосновения и даже дыхания, пепел, на котором можно ещё прочесть отдельные строки, слова похвальбы или высокомерия, — всё это обращается в чёрный, прекрасный, изнутри озарённый огнём цветок, выросший из книги людей, как цветы природы растут из книги земли ‹...›
СП V: 183
Посредством акта, напоминающего ритуальное сожжение, книга превращается в цветок — метафора отказа от произведения рук человеческих ради естественного творчества земли. Благодаря огню печатная книга, этот памятник ограниченности, превращается в нечто полезное: из книги людей прорастает цветок природы.
Вполне закономерно, что неприятие Хлебниковым книги отражено именно в этом разговоре, своего рода сократовском диалоге, ибо в «Досках судьбы» читаем:
Вот такие ряды:
Всем знакомый Сократ, пророк устной беседы, родившийся в 458 году до Р.Х.
Через 365·5 после него Дзонкава — великий учитель монголов, родившийся в 1357 г. Это был проповедник добра для глухих степей материка, враг книг, шедший путем устной беседы с учениками; он основал учение лам. Это Сократ пустынной Азии.
СС III: 491–492
Сократ — пророк устной беседы; его азиатский коллега Дзонкава, проповедник добра, вёл беседы со своими учениками и, что более важно, был врагом книг. Этические соображения Хлебников увязывает с неприятием печатного станка и приверженностью изустной передаче знания. Склонность Хлебникова к форме диалога почти наверняка связана с этой установкой. Хотя к «Разговору двух особ» читатель приобщается в печатном виде, автор диалога наверняка мыслил его устным по сути. Такова антитеза книгам, которые он хотел видеть обращёнными в пепел.
Многозначительный эпизод сожжения книги встречаем в коротком прозаическом произведении, начинающемся словами Никто не будет отрицать... Хлебников так описывает сожжение книги Флобера «Искушение святого Антония»:
‹...› ночью город был прекрасен. Мёртвая тишина, как в мусульманских селеньях, пустынные улицы и чёрные яркие зори неба. Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо умирала у меня на глазах. Я выдумал новое освещение: я взял «Искушение святого Антония» Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при её свете прочитывая другую; множество имен, множество богов мелькнуло сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в чёрный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я должен был так поступить. Я утопал в едком, белом дыму ‹...› над жертвой. Имена, вероисповедания горели как сухой хворост. Волхвы, жрецы, пророки, бесователи ‹...› все были связаны хворостом в руках жестокого жреца.
СП IV: 115–116
Здесь стоит обратить внимание на подробности. Во-первых, сожжение книги представлено именно как ритуальное жертвоприношение с персоной Хлебникова в качестве исполняющего обязанности
жестокого жреца. Этот ритуал, видимо, соответствует религиозной природе конкретного текста. Во-вторых, в жертвенном огне самостоятельные эпизоды книги достигают определённого единства, разнообразные боги и пророки становятся вязанкой
хвороста, превращаясь затем в единообразный
чёрный пепел. Как пишет здесь же Хлебников, имена основателей трёх мировых религий — Иисуса Христа, Магомета и Будды — вместе
трепетали в огне (
СП IV: 116). В-третьих, сама книга вызывает двойственное впечатление. Вновь и вновь подвергаясь уничтожению хлебниковским поэтическим
Я (с автобиографическим, надо полагать, подтекстом),
47
она не просто подвернулась под горячую руку — гибель в огне оказывается способом самореализации написанного: очередная страница читается при свете предыдущей. Книга, похоже, вызывала и тягу, и отторжение:
Едкий дым стоял вокруг меня. Стало легко и свободно.
Я долго старался не замечать этой книги, но она, полная таинственного звука, скромно забралась на стол и, к моему ужасу, долго не сходила с него, спрятанная другими вещами. Только обратив её в пепел и вдруг получив внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то мой враг.
СП IV: 116–117
Хотя книга полна таинственного звука, её уничтожение приносит внутреннюю свободу; и Хлебников осознаёт, что книга была каким-то врагом. Однако разрушение и созидание идут рука об руку: подобно сожжению сочинения Канта, при сгорании книги Флобера образуется не просто пепел, а чёрная роза (СП IV: 116).
Позиция Хлебникова относительно печатных изданий, вероятно, поставила его перед своеобразной дилеммой. С одной стороны, он остро сознавал необходимость таковых для сохранения своего наследия. С другой — книга была для него каким-то врагом, его творческий метод и эстетические принципы, казалось, восставали против создания такого “существа”. Превращение книги людей в растущий из книги земли цветок отражает его поиски разрешения этого противоречия.
Именно в плане таких исканий следует рассматривать совокупность хлебниковских метафор, в которых, по мнению Хенрика Барана,
природа или какой-то её аспект предстаёт как книга или некая разновидность процессов, связанных с созданием и использованием письменных текстов.
48
Примеров таких сравнений в творчестве Хлебникова предостаточно. Баран совершенно правильно выделил
49
такие, например, строки:
Весны пословицы и скороговорки
По книгам зимним проползли.
(СП III: 31);
А я хотел гулять по Невскому
И книгу начать солнца, его весенних дней.
(СП III: 100)
Подобное находим в отрывке «Разин. Две Троицы», где на полувысохшем русле мокрой топи можно было увидеть свободно набросанные широкие когти, отпечатанные медведем, изданные рекой в роскошном издании с широкими полями, с прекрасными концовками сосен в обложке песчаных берегов ‹...› (СП IV: 150).
Текст природы в поэтическом мире Хлебникова не является исключительно печатным или рукописным, порой он озвучен: в «Сердца прозрачней, чем сосуд...» ручей поёт словом разностопным (НП: 25); каменная баба (СП III: 32–35), несмотря на очарованную тишь, которую она якобы воплощает, оказывается настоящей какофонией звуков и устного дискурса; кора ивы лепечет сказки по-людски. В разговорном плане изображены шелестящие листья тополя, горы — столетних звуков твёрдые извивы (и в эту сцену вводится немой поэт). Каменные истуканы — сказки каменной доски. Неудивительно, что одну из каменных баб поэмы оживляет хлебниковская бабочка.
“Каменный” текст налицо и в «Сердца прозрачней, чем сосуд...»: Вся книга каменного дна / Глазам понятна и видна (НП: 26). В стихотворении «Ручей с холодною водой...» упоминается даже каменный дневник (НП: 25) — “сплав” камня и времени. Здесь грозное ущелье оборачивается каменною книгой, каменными ведомостями последней тьмы тем лет (CП III: 136). О каменных листах | каменных книгах подземного читателя узнаём в сверхповести «Зангези» (СП III: 318). Материковая порода земли — “твёрдый носитель” текста природы; пласты и отложения — литературные артефакты. И это сознательная, строго выверенная эстетическая позиция Хлебникова. Как он писал однажды в письме Кручёных: Моё мнение о стихах сводится к напоминанию о родстве стиха и стихии (НП: 367).50
Неудивительно, что небо и звёзды отображены в метафорах “природа/книга”:
Ах, если б снять с небесной полки
Созвездий книгу,
Где всё уж сочтено ‹...›
(СП III: 263)
Извечная тема угадывания судьбы по звёздам была, разумеется, архиважна для составителя «Досок судьбы».
Хлебниковские метафоры “природа/книга” иногда относятся не к земной поверхности в целом, а выборочно, к отдельным странам и материкам. Россия, например, названа им книгой общей (СП I: 142); в другом месте находим поразительный образ: Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей — / Похожа на один божественно-звучащий стих (СП II: 78). Представление о книге или тексте как о стране или материке может развиться до сравнения со всем миром. В записных книжках упомянута рукопись мира (СП V: 266); а один из тезисов Хлебникова и Петникова к лекции 1917 года заканчивается оглушительным уподоблением: мир как стихотворение (СП V: 259). Метафора “природа/книга” возведена в статус эстетического принципа. Более того, поиски адекватной литературной формы приводят Хлебникова прямиком к устройству мироздания. Во многом это отражение установок сверхповести, где прослеживается стремление отойти от статичной книги и воссоздать в композиционной форме и временнóй динамизм, и пространственное многообразие единого живого мира.51
Нередко образ писателя у Хлебникова претерпевает именно такое развитие. Если мир — рукописный текст, то автор может превратиться в “мирового писателя”, использующего создания природы как “орудия производства”. Его перо — вырванная с корнем сосна, чернильница — море (СП V: 155).52 Личность писателя может раскрываться в географических терминах. Находим, например, поэтическое Я, чьи волосы оказываются крупнейшими реками мира (СП V: 25), а тело представляет собой Россию и даже вселенную (СП IV: 35). Возможно, ярчайшее из подобных проявлений поэтического самоощущения —
Личность писателя может раскрываться в географических терминах. Находим, например, поэтическое Я, чьи волосы оказываются крупнейшими реками мира (СП V: 25), а тело представляет собой Россию и даже вселенную (СП IV: 35). Возможно, ярчайшее из подобных проявлений поэтического самоощущения —
горная панорама с ущельями, водопадами, ледниками, где по горам скачет оленье стадо ‹...›. Поэт — это бард, в котором заключена целая вселенная.
53
Замысел поэмы «150 000 000» куда как скромен в сравнении хлебниковским размахом: будетлянин считает себя вправе назначить действующим лицом всё человечество. В письме Маяковскому (Баку, 18. II. 21) читаем:
Думаю писать вещь, в которой бы участвовало всё человечество 3 миллиарда человечества и игра в ней была бы обязательна для него.
СП V: 317
“Тексты” книги и мира становятся неразличимы. Умонастроение такого рода крепнет и в других произведениях, особенно в «Досках судьбы». Под занавес жизни Хлебников говорит о Земле как о книге с кричащим заглавием “человек” (СС: 479). Мнение же о человечестве в его совокупности таково:
В обычном словесном изложении человечество походит на белую груду, на вороха сырых, свеженабранных листов печати, ещё не собранных в книгу. Малейший ветер заставит их разлететься в стороны. Но есть способ сверстать эти разрозненные белые листы в строгую книгу, применив способ измерения рождений людей с судьбой одной и той же кривизны.
Подобные рождения, как прочная проволока, хорошо скрепляют готовые рассыпаться страницы будущей книги.
СС: 491
Хлебников имеет в виду законы времени, которые, по его мнению, управляют рождением и смертью людей, чьи судьбы, так или иначе, перекликаются. Именно поэтому рождение Сократа и великого учителя монголов Дзонкавы у него закономерно связаны. Таким образом, концепция книги Хлебникова в конечном итоге выказывает исключительно своеобразное отношение поэта не только к Земле и её насельникам, но и к законам времени, которые он полагал управляющими судьбами людей. Эти законы обеспечивают сшивку разрозненных страниц истории человечества воедино. Такова книга будущего, которую задумал создать писатель Хлебников.
Этим идеям уделено пристальное внимание в неопубликованных работах, вероятно, тоже предназначенных для «Досок судьбы». Говоря о прародителях и перволюдях разных народов мира (Менес у египтян, Адам у евреев, Паньгу и Фу-си у китайцев), Хлебников продолжает:
Столбец лет их рождений есть столб, на котором, всем открытая, лежит книга единства человечества — умейте только прочитать её, захотите перелистать страницы.54
Изучить эту книгу единства Хлебников мечтал смолоду. Уже в диалоге «Учитель и ученик» (1912) узнаём о желании младшего собеседника прочесть письмена, вырезанные судьбой на свитке человеческих дел (СП V: 174). На излёте земной жизни Хлебников уверяет, что не только умеет читать эту книгу, но и сделал её содержание общедоступным: написанный им путеводитель понятен всем, было бы желание. Более того, текст книги единства обеспечивает не только предвидение событий, но и гармонию грядущего. Книга Хлебникова — ещё и его видение единства человечества.
Разумеется, этот дерзновенный порыв не уникален. В «Досках судьбы» видим новый подход к решению проблем, поставленных ещё в Библии, Коране и Ведах. А составитель «Досок» неплохо, как мы знаем, разбирался в трудах своих прославленных предшественников.
Хлебников не был религиозен в общепринятом смысле. Поэта, как справедливо заметил Роналд Вроон, следует причислить не к мистикам, а к провидцам.55 Если он и питал склонность к каким-либо вероучениям, то это были религии Востока: индуизм, ислам и буддизм с его верой в реинкарнацию. Однако в его самоопределении как пророка исповедуемое кредо зиждется на вполне научном подходе к времени как таковому и судьбе, его следствию. И всё-таки острие хлебниковской рациональности направлено в область вероисповедания и религии. Цветан Тодоров допускает в этом смысле даже перехлёст:
Если он и питал склонность к каким-либо вероучениям, то это были религии Востока: индуизм, ислам и буддизм с его верой в реинкарнацию. Однако в его самоопределении как пророка исповедуемое кредо зиждется на вполне научном подходе к времени как таковому и судьбе, его следствию. И всё-таки острие хлебниковской рациональности направлено в область вероисповедания и религии. Цветан Тодоров допускает в этом смысле даже перехлёст:
На горизонте этой сверхрационалистической системы маячит — пусть и смутно — призрак теологии. Если события этого мира подчиняются регулярному ритму, то это потому, что принцип этого ритма исходит откуда-то свыше.
56
Хлебников заботится о “питании” не только разума человека, но и его духа. Одну из своих ранних работ (вероятно, «Учитель и ученик») он считал скатертью-самобранкой с пиром для духовных уст всего человечества (СП V: 293).
Утверждение, что книга единства человечества неким образом отражает религиозные устремления писателя, не бесспорно, и всё-таки своим замыслом таковая напоминает религиозные тексты. Неотъемлемый признак вероучения в письменном виде — самоподача в терминах “книги природы”, точнее, книги земли или “книги жизни”. Это так же верно для Библии, как и для Корана.57 И представление Хлебникова о мире как стихотворении, о письменах, вырезанные судьбой на свитке человеческих дел является отражением вероучений древности и подражанием вероучителям.
И представление Хлебникова о мире как стихотворении, о письменах, вырезанные судьбой на свитке человеческих дел является отражением вероучений древности и подражанием вероучителям.
Как бы признавая этот факт, Хлебников вводит религиозную книгу в свои метафоры “книги природы”. Например, после посещения зоопарка он пишет Вячеславу Иванову, что ему странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с Исламом ‹...› в спокойном лице верблюда я читал развёрнутую буддийскую книгу (НП: 356).58 В одном стихотворении тополь — Весеннего Корана / Весёлый богослов (СП III: 30).59
В одном стихотворении тополь — Весеннего Корана / Весёлый богослов (СП III: 30).59 Упоминание Хлебниковым основополагающих религиозных текстов выходит далеко за рамки поэтической метафоры — его публицистика и теоретические труды тому порукой. Например, свои попытки расширить границы русской словесности он полагал восполнением недостающих глав русской библии (НП: 341). Аллюзию на библейские тексты можно усмотреть и в желании озаглавить отдел статей «Книгой заветов» (НП: 6). Хлебников считал Коран сборником стихов, а Магомета — великим поэтом (СП V: 241). Подобные настроения ощутимы уже в ранней статье: собственные стихи названы намёками и коранами (СП V: 195).
Упоминание Хлебниковым основополагающих религиозных текстов выходит далеко за рамки поэтической метафоры — его публицистика и теоретические труды тому порукой. Например, свои попытки расширить границы русской словесности он полагал восполнением недостающих глав русской библии (НП: 341). Аллюзию на библейские тексты можно усмотреть и в желании озаглавить отдел статей «Книгой заветов» (НП: 6). Хлебников считал Коран сборником стихов, а Магомета — великим поэтом (СП V: 241). Подобные настроения ощутимы уже в ранней статье: собственные стихи названы намёками и коранами (СП V: 195).
Доклад, прочитанный в Баку (декабрь 1920) Хлебников озаглавил Коран чисел (СП V: 316). Тогда он сделал удачное пророчество о Советской власти (СС III: 531) и, по-видимому, подробно изложил свои законы времени (НП: 385, 485). Во время доклада Хлебников тем, кто предпочитает Магомета, сообщил, что их вниманию предлагается продолжение проповеди Магомета, ставшего немым и заменившего слово числом; марксистам было заявлено: я Маркс в квадрате (СП V: 316). Доклад, кажется, большого успеха не имел.
О соотнесении Хлебниковым своих вычислений с Кораном узнаём из неопубликованных математических изысканий. Одну из тетрадей он предварил пометкой мой Коран.60 Вторя положениям своей лекции 1920 года, в другом месте он замечает: Коран уже написан словами. Его надо написать числом.61
Вторя положениям своей лекции 1920 года, в другом месте он замечает: Коран уже написан словами. Его надо написать числом.61 Похоже, он считал, что математическое выражение открытых им законов времени — достойная замена мировым религиям:
Похоже, он считал, что математическое выражение открытых им законов времени — достойная замена мировым религиям:
То, о чём говорили древние вероучения, грозили именем возмездия, делается простой и жёсткой силой этого уравнения; в его сухом языке заперто: „Мне отмщение и Аз воздам” и грозный, непрощающий Иегова древних.
Весь закон Моисея и весь Коран, пожалуй, укладываются в железную силу этого уравнения.
Но сколько сберегается чернил! Как отдыхает чернильница!
СС III: 474–475
Хлебников не сомневался, что веру в Творца заменит
мера мира, то есть математика. В «Детях Выдры» (1911–1913) заявлено:
Идёт число на смену верам; лет десять спустя, обретя уверенность в открытии
законов времени, он пишет:
мера заменила веру.
62
В «Досках судьбы» читаем:
Итак, лицо времени писалось словами на старых холстах Корана, Вед, Доброй Вести и других учений.
Здесь, в чистых законах времени, то же великое лицо набрасывается кистью числа и таким образом применён другой подход к делу предшественников. На полотно ложится не слово, а точное число, в качестве художественного мазка живописующего лицо времени.
Таким образом в древнем занятии времямаза произошёл некоторый сдвиг.
Откинув огулы слов, времямаз держит в руках точный аршин.
СС III: 472–473
Хлебников предвкушал отказ от древних вероучений под натиском его математических построений. Точное число применительно к времени делало излишними Коран, Веды и Евангелие:
Древние населяли небо богами. Древние говорили, что боги управляют событиями, ‹...› очевидно ‹...› боги древних являются показателями степеней.
СС III: 494
Присвоение числу статуса божества видим в мистерии Хлебникова «Скуфья скифа», где бог времени поименован Числобогом. Хотя это божество неосязаемо, на поверку оно оказывается поэтическим двойником Я — его старым приятелем по зеркалу (СП IV: 84). Это и неудивительно: Хлебников стремился заместить древние священные тексты именно своими писаниями.
Возвышенное представление о поэтическом Я как “творце” очевидно и в стихотворении «Единая книга». Как следует уже из названия, перед нами своего рода итог воззрений Хлебникова на книгу, в литературном плане имеющий заметное сходство не только с его книгой единства человечества, но и с книгой земли. Её страницы — большие моря, / Что трепещут крылами бабочки синей, / А шелковинка-закладка, / Где остановился взором читатель, — / Реки великие синим потоком (СП V: 24). Всё человечество — её читатель, а Хлебников — автор. Однако это не просто набор метафор “природа/книга”:
Я видел, что чёрные Веды,
Коран и Евангелие,
И в шёлковых досках
Книги монголов
Из праха степей,
Из кизяка благовонного,
Как это делают
Калмычки зарёй,
Сложили костёр
И сами легли на него —
Белые вдовы в облако дыма скрывались,
Чтобы ускорить приход
Книги единой ‹...›
(СП V: 24)
Налицо ещё один акт ритуального сожжения, известного по другим произведениям Хлебникова. Однако на сей раз огню предаются не книги Флобера, Канта или марксистов, а именно те священные тексты, на смену которым вот-вот придут «Доски судьбы»,
63
и появление
единой книги Хлебникова этот
костёр призван ускорить.
Хлебников стремился объединить в ней и книгу земли, и прославленные тексты о судьбе этой земли.64 Единая книга одновременно с изображением истолковывала единый мир.
Единая книга одновременно с изображением истолковывала единый мир.
Послесловие
Когда Хлебников заговорил об осаде трёх башен, случайным упоминанием архитектурных форм это не было. Кроме зубчатых башен и стен никому не известного города, строительным камнем которых служат цифры, или свайной постройки вселенной | свайной хаты | сруба новой избы | мировой избы из брёвен двойки и тройки, Хлебников был горазд на самые диковинные проекты застройки — от города из брёвен звука до Города стеклянных страниц, / Открывающего их широким цветком днём / И закрывающего на ночь (СП III: 63–65, V: 88–89).
Трудно сказать, чем вызвано пристрастие Хлебникова к архитектурным формам. Возможно, иного первотолчка, кроме обычного интереса ко всем техногенным и природным явлениям, с которыми он сталкивался за свою короткую жизнь, и не было. Спору нет, поэт обладал энциклопедическими познаниями, а его способность усваивать и поэтически обрабатывать их, временами, поразительна. Едва ли Владимир Марков преувеличивает, утверждая:
Поэтическое воображение у Хлебникова невероятное, почти нечеловеческое; читатель не поспевает за ним, выдыхается и отказывается следовать дальше. Поэтический диапазон Хлебникова, будь то идеи, тематика или средства исполнения, колоссален, он затмевает всех современников; даже Маяковский выглядит рядом с ним рутинёром, узким и однообразным.
65
Архитектура привлекла его внимание ещё в юности. В письме, написанном родителям во время его первого визита в Москву (вероятно, в 18-летнем возрасте), читаем:
Я бы заставил в семинариях преподавать архитектуру, потому что здешнее духовенство совершенно не умеет хранить памятники старины.
СП V: 282–283
Если бы он посетил Москву наших дней, то наверняка был бы раздосадован тем, как светские послереволюционные власти распорядились некоторыми архитектурными памятниками города. Однако современным обликом столицы поэт остался бы доволен: некоторые из городских сооружений кажутся воплощением хлебниковских идей.
66
Архитектура была ещё одной областью, в которой Хлебников пытался пророчествовать: он ощущал себя не только
словеннегой, но и
улицетворцем (
СП IV: 275). Хлебниковский футуризм простирался далеко за околицу профессиональных интересов большинства его коллег по цеху.
Свой проект города будущего Хлебников впервые изложил в статье «Мы и дома» (около 1915), опубликованной лишь после его смерти (СП IV: 275–286), где даже набросал около десятка эскизов жилых домов будущего.67 Излишне говорить, что среди предлагаемых построек заметное место занимают башни и многоэтажки — такие как дом-тополь. Хлебников не только осаждал башни, но и стремился их построить. Его председатели земного шара — рабочие-зодчие, его сверхповесть — зодчество из “рассказов”, а сами рассказы — зодчество из слов, его записи — сваи мышления, а математические формулы — улицы башен.68
Излишне говорить, что среди предлагаемых построек заметное место занимают башни и многоэтажки — такие как дом-тополь. Хлебников не только осаждал башни, но и стремился их построить. Его председатели земного шара — рабочие-зодчие, его сверхповесть — зодчество из “рассказов”, а сами рассказы — зодчество из слов, его записи — сваи мышления, а математические формулы — улицы башен.68 Время кажется Хлебникову-зодчему подручным сырьём, и эти строгие брёвна времени он призывает разделать на плотничьи доски (СП V: 90).
Время кажется Хлебникову-зодчему подручным сырьём, и эти строгие брёвна времени он призывает разделать на плотничьи доски (СП V: 90).
Именно сооружения из времени — посыл одного из последних стихотворений Хлебникова, где в уже знакомой нам форме самопроекции он подаёт архитектора Казанского собора в Санкт-Петербурге Андрея Воронихина. Этот крепостной из Сибири, ставший академиком, сумел, по мнению поэта, века громоздя на века, выкупиться из крепостного рабства постройкой из времени башни, она же видение времени в камне (СП V: 103–104). Таким зиждителем свободы творчества и видит себя Хлебников:
Так душу свободы
Даёт дым времени, дым нежных чисел времени.
Вершина башни – это мысли,
А основанье — воля ‹...›
(СП V: 105)
Как известно, первые послереволюционные годы — время грандиозных архитектурных затей. Не последним в ряду их разработчиков был Владимир Татлин, которому Хлебников весьма благоволил. Макет «Башни Татлина» (памятник Третьему Интернационалу) был выставлен в 1920 году, о чём Хлебников не мог не знать. Взаимопонимание было полным: неспроста шли разговоры, что Хлебников оказал значительное влияние на конструирование Башни.69
Татлин был отнюдь не единственным великаном авангарда, подпавшим влиянию Хлебникова. Владимир Маяковский, после смерти друга открыто признав его своим учителем, „заселял и возделывал” открытые путейцем языка „поэтические материки”.70 Особого удивления это не вызывает: Маяковский — один из первых кубофутуристов, имел уйму возможностей понять значение Хлебникова ещё изнутри движения. Иное дело Осип Мандельштам, талант из обоймы весьма далёких от будетлянства поэтов.
Особого удивления это не вызывает: Маяковский — один из первых кубофутуристов, имел уйму возможностей понять значение Хлебникова ещё изнутри движения. Иное дело Осип Мандельштам, талант из обоймы весьма далёких от будетлянства поэтов.
Когда Мандельштам был арестован в Саматихе (1938) и отправлен в ссылку на Урал, Хлебников был одним из немногих авторов, чьи книги он взял с собой. И, хотя Надежда Мандельштам указывает на существенные различия их понимания сути литературного творчества, параллели налицо (Мандельштам, например, тоже был увлечён архитектурой).71 Эти два поэта возвели разные здания, но дрова на обжиг кирпичей взяты из одной поленницы.
Эти два поэта возвели разные здания, но дрова на обжиг кирпичей взяты из одной поленницы.
Поэт более позднего поколения Николай Заболоцкий многое почерпнул из сокровищницы Хлебникова.72 Прозу Хлебникова считал образцом для подражания Юрий Олеша.73
Прозу Хлебникова считал образцом для подражания Юрий Олеша.73 Обаяние Хлебникова была настолько велико, что в конце 1940-х годов руководство Союза советских писателей сочло необходимым парировать его погромной статьёй Яковлева, где Хлебников назван „поэтом для эстетов”, что по тем временам звучало как “враг народа”.74
Обаяние Хлебникова была настолько велико, что в конце 1940-х годов руководство Союза советских писателей сочло необходимым парировать его погромной статьёй Яковлева, где Хлебников назван „поэтом для эстетов”, что по тем временам звучало как “враг народа”.74
Всеохватность влияния Хлебникова проистекает из самогó многообразия его творческого наследия. Эпические поэмы, лирические стихи, драматические произведения, диалоги, прозаические зарисовки, манифесты, теоретические труды, нумерологические трактаты, математические выкладки, орнитологические наблюдения, утопические проекты — и всё это под обложкой единой книги. Как проницательно заметил (в очередной раз) Осип Мандельштам,
Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень.
75
Некоторые критики справедливо полагают, что литературные пристрастия связывали Хлебникова не с XIX веком, восьмую часть которого он застал, а с предшествующим, XVIII веком. Таковы повествовательность, дидактика и одический строй большинства его стихов.76 Шкловский назвал Хлебникова „Ломоносовым современной русской литературы”.77
Шкловский назвал Хлебникова „Ломоносовым современной русской литературы”.77 Спорить с такой оценкой не приходится: Ломоносов тоже был человеком разносторонним, кроме литературных сочинений оставил множество научных трудов — даже по металлургии. Более того, Ломоносов разделял взгляды “любомудров” своего времени с их уверенностью в упорядоченности вселенной и в способности разума к познанию тайн природы, что весьма и весьма напоминает собственные представления Хлебникова о мироустройстве, воплощенное в его законах времени.
Спорить с такой оценкой не приходится: Ломоносов тоже был человеком разносторонним, кроме литературных сочинений оставил множество научных трудов — даже по металлургии. Более того, Ломоносов разделял взгляды “любомудров” своего времени с их уверенностью в упорядоченности вселенной и в способности разума к познанию тайн природы, что весьма и весьма напоминает собственные представления Хлебникова о мироустройстве, воплощенное в его законах времени.
Особое значение для него имели воззрения ряда мыслителей XVII и XVIII веков. Это время отмечено проектами создания универсальных языков, начиная от философского языка епископа Джона Уилкинса и кончая идеями, выдвинутыми философом и математиком Лейбницем, который
с нетерпением ждал дня, когда споры будут разрешать предложением заняться вычислениями.
78
Думается, эти слова Хлебников давал в переводе не без удовольствия:
настанет время, когда люди вместо оскорбительных споров будут вычислять (воскликнут: calculemus).
СС III: 446–447
Однако тому, кто ищет первоисточник литературных пристрастий (и особенностей поведения, добавим) Хлебникова, следует обратиться к гораздо более древним временам и мудрецам. Вспомним хотя бы пифагорейцев, которые полагали все явления природы законной областью исследования. Сам Хлебников недвусмысленно признавал свою связь с Пифагором,
79
и его страстная увлечённость числом носит явно пифагорейский оттенок — впрочем, как и некоторые идеи по части реинкарнации.
Именно в перевоплощении, управляемом “законами” рождения, Хлебников усматривал возможность победы над смертью. В «Нашей основе» читаем:
Мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на временное купание в волнах небытия.
СП V: 241
Хлебников остро чувствовал трагизм человеческой жизни: судя по многим его высказываниям, ничто так не занимало поэта, как смерть смерти. При этом хлебниковские смех и горе взмывают на качелях судьбы попеременно, и, надеясь посредством законов времени предвычислять несчастья — и этим избегать их, — он видит в обуздании “коней рока” единственный способ прекращения людских страданий.
С какой же меркой следует подходить к нумерологическим теориям, которые сам Хлебников ставил выше своей поэзии? Представление о том, что подобные события повторяются через временные интервалы, измеряемые кратными двойкам и тройкам числами, можно с лёгкостью опровергнуть, хотя известны и более странные теории. Благожелательный подход к вычислениям Хлебникова требует им довериться. Но этого мало. Следует, не увязая в мешанине расчётов, устремиться в созданный великим числяром мир. Да, предпосылки хлебниковских выкладок большинству кажутся сомнительными, но грандиозный окоём за их пределами весьма и весьма впечатляет. По Хлебникову, его умопостроения постигаемы лишь строгим рассудком; нам же представляется, что без веры тут не обойтись. И это не покушение на хлебниковское мера заменила веру: именно вера поэта в разум мировой, в гармонию как противоположность хаосу и есть краеугольный камень его мировоззрения. Хлебников столь горячо ратовал за меру именно потому, что истово в неё верил.
Вера и разум объединяются, что делает «Доски судьбы» и мифопоэтическими, и научными в равной степени. Именно „призрак теологии”, угадываемый за умночеством Хлебникова, и позволяла поэту считать их преемниками мировых вероучений. Возможно, числа Хлебникова и пришли на смену древним божествам, но импульс к поиску гармонии и порядка обязан одновременно и вере, и разуму. Числа и впрямь оттеснили богов, но не уничтожили:
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звёзды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы.
80 (СП III: 7)
(СП III: 7)
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
ИС:
Велемир Хлебников. Избранные стихотворения / ред., биограф. очерк и примеч. Н. Степанова.
М.: Советский писатель. 1936.
СС: Собрание сочинений в 4-х томах / ред. В. Марков.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1968–1972.
 1
1 См.:
Цезарь Вольпе. Стихотворения Велимира Хлебникова / рец. на «Стихотворения» Хлебникова (
Л. 1940) // Литературном обозрение, 17 (1940). С. 35.
 2
2 Маяковский, ПСС 12. С. 23.
 3 Тренин В., Харджиев Н
3 Тренин В., Харджиев Н. Ретушированный Хлебников // Литературный критик, 6 (1933). С. 146.
 4 Бенедикт Лившиц
4 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец
Л. 1933. С. 45.
воспроизведено на www.ka2.ru 5
5 Рукопись этого письма см. в архиве Давида Бурлюка в Институте мировой литературы имени Горького (ИМЛИ), фонд 92, опись 1, ед. хр. 25, л. 2 –2 об. Эта цитата из л. 2. Выдержки из письма опубликованы в
НП: 12, 14. Жевержеев описывается Марковым (
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 56) как „богатый меценат”. Письмо Бурлюка датировано 4 апреля 1913 г.
полный текст письма на www.ka2.ru 6
6 Маяковский, ПСС 12, с. 27.
 7 Асеев Н
7 Асеев Н. В.В. Хлебников // Творчество (Владивосток), 2 (1920). С. 29.
 8 Давид и Мария Бурлюк
8 Давид и Мария Бурлюк. Канва знакомства с Хлебниковым: 1909–1918 // Color and Rhyme, 55 (1964–1965). P. 36.
 9
9 Бурлюк, ИМЛИ, фонд 92, опись 1, ед. хр. 25, л. 2–2 об.
 10
10 Кручёных (ред.). Записная книжка, с. 11.
 11 Vahan Barooshian
11 Vahan Barooshian. Russian Cubo-Futurism 1910–1930 // A Study in Avant-Gardism.
Mouton: The Hague-Paris. 1974. P. 36; кстати, предположение Барушьяна о том, что Хлебников вступил в союз с футуристами ещё и „по финансовым причинам” (там же), тоже весьма сомнительно.
 12
12 В воспоминаниях Кручёных (ЦГАЛИ, фонд 1334, опись 1, ед. хр. 36, л. 80) рассказывается, как Хлебников
рвался в столицу, чтоб напечатать свои произведения, главным образом вычисления о будущих войнах.
В 1921 г. уже в Москве, он таинственно сообщил мне о своих открытиях, доверяясь:
— Англичане дорого бы дали, чтобы эти вычисления не были напечатаны!
Я смеялся и заверял Хлебникова, что англичане гроша не дадут, несмотря на то, что доски судьбы грозили им погибелью, неудачными войнами, потерей флота и пр‹очим›.
Хлебников обижался, но всё же, видимо убеждённый, дал мне свои вычисления для обнародования ‹...›
Кручёных не опубликовал нумерологическую работу, которую ему поручил Хлебников. Именно художник Пётр Митурич помог Хлебникову вовремя опубликовать его расчёты.
 13 Парнис Александр
13 Парнис Александр. «Конецарство, ведь оттуда я...».
Элиста: Теегин герл, №1 (1976). С. 136.
 14 В.Я. Анфимов
14 В.Я. Анфимов. К вопросу о психопатологии творчества: В. Хлебников в 1919 году // Труды 3-й Краснодарской клинической городской больницы, №1 (1935). С. 68.
воспроизведено на www.ka2.ru 15
15 Там же.
 16
16 Подробнее см.:
Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М. 1926. Впервые опубликовано: ЛЕФ, №1 (1923);
воспроизведено на www.ka2.ru Сергей Спасский Хлебников // Литературный современник, №12 (1935). С. 196–197.
воспроизведено на www.ka2.ru 17
17 См.:
Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М. 1926. Впервые опубликовано: ЛЕФ, №1 (1923).
 18
18 См., например, комментарии Степанова в
СП I: 371 и
ИС: 477;
Тренин В., Харджиев Н. Ретушированный Хлебников // Литературный критик, 6 (1933). С. 142.
 19 Дмитрий Петровский
19 Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М. 1926. Впервые опубликовано: ЛЕФ, №1 (1923); Маяковский, ПСС 12, с. 23; Бурлюк, ИМЛИ, фонд 92, опись 1, ед. хр. 25, л. 2 об. (также включено в
НП: 12).
 20
20 Маяковский, ПСС 12, с. 23.
 21
21 На первой странице своего предисловия к сборнику «Творения» Бурлюк пишет об авторе: „Хлебников не подобен поэтам, кои пишут на “пишущей машинке”; рукописи коих заключены в папки с золотым обрезом, автору известна каждая строчка”. Отметим, что не один Хлебников своими “бардовскими” методами творчества расходился с современностью. Кларенс Браун (
Brown, C. Mandelstam.
Cambridge University Press. 1973. P. 1–2) пишет: „Способы, посредством которых поздние стихи Мандельштама дошли до нас, напоминают эпоху, предшествовавшую Гутенбургу, не говоря уже о пишущей машинке и фотостатическом копировании. Многим читателям невдомёк, что мы живем в такое время, когда поэзии пришлось выживать в самом древнем из своих хранилищ — человеческой памяти”. Причиной этого был, разумеется, сталинский террор. Обратите внимание и на то, что Мандельштам „держал свои стихи в голове и так сильно верил в их объективное существование, что не боялся потерять законченные вещи” (там же, с. 2).
 22
22 Многие произведения Хлебникова известны более чем в одном изводе. См., например, у Роналда Вроона о „не менее пяти вариантах” «И если в «Харьковские птицы»...» (
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “I esli v ‘Khar'kovskie ptitsy’... ”: Manuscript Sources and Subtexts // Russian Review, 42 (1983). P. 250–253); ссылку Харджиева на четыре варианта «Тайной вечери глаз знает много Нева» в
НП: 416; замечание Степанова о „равнозначных” вариантах «Трёх сестёр» и «Иранской песни» в
ИС: 477. В архиве Хлебникова в ЦГАЛИ имеется множество образчиков подобной многовариантности.
 23
23 Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 57.
 24
24 Интересный отчёт о составлении этого совместного манифеста см.:
Gerald Janecek. Kručenykh and Chlebnikov Co-Authoring a Manifesto // Russian Literature, 8 (1980). P. 483–498.
 25
25 Маяковский, ПСС 12, с. 23.
 26
26 Аналогичное предложение находим и в другом письме к Кручёных (фактически Хлебников настаивает здесь на том, что другие имеют право изменять его текст); см.:
Б.Н. Капелюш. Архивы М.В. Матюшина и Е. Гуро // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома за 1974 год, изд. К.Д. Муратова.
Л. 1976. С. 17. Проблема заключается в определении параметров такого отношения: где заканчивается недобросовестное искажение и начинается творческое партнёрство?
 27 Корнелий Зелинский
27 Корнелий Зелинский. На великом рубеже // Знамя, 12 (1957). С. 150.
 28 А. Урбан
28 А. Урбан. Философская утопия: (поэтический мир В. Хлебникова) // Вопросы литературы, 3 (1979). С. 160.
 29
29 См. главу I стр. 22–23.
 30 Ronald Vroon
30 Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “I esli v ‘Khar'kovskie ptitsy’... ”: Manuscript Sources and Subtexts // Russian Review, 42 (1983). P. 270.
 31
31 В начале XX века в русской поэзии циклические композиции были весьма распространены. В этом ключе следует рассматривать и склонность Хлебникова к циклам.
 32
32 По общему мнению, концепции жанра у Хлебникова свойственна подвижность. Степанов указывал (
СП II: 299), например, что „вещи Хлебникова настолько разрушают привычное представление о жанрах, что часто нельзя отделить стихи от прозы, стихотворение от поэмы”. При этом Хлебников употреблял и общепринятые термины (
стихотворение, рассказ и т.д., правда, лишь изредка, чаще —
поэма), но его любимый термин, кажется, —
вещь. О склонности Хлебникова к таким редким жанрам, как диалог, см.:
Henryk Baran. The Problem of Composition in Velimir Chlebnikov’s Texts // Russian Literature, 9 (1981). P. 95–100.
 33
33 Хлебников ввёл в
сверхповесть новые формальные понятия. «Зангези» делится на
плоскости — термин, используемый в изобразительном искусстве и геометрии. «Дети Выдры» делятся на
паруса. Некоторые замечания по поводу последнего см.:
Henryk Baran. The Problem of Composition in Velimir Chlebnikov’s Texts // Russian Literature, 9 (1981). P. 101–102.
 34
34 Осирис был выбран Хлебниковым героем предполагаемого произведения, вероятно, из-за присущей этому египетскому божеству фрагментарности: после смерти его разрезали на куски, чтобы Исида не нашла тело.
 35
35 См., например, замечание Маркова (
Vladimir Markov The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 170–171) о возможности того, что «Прачка» задумана как
сверхповесть (он ссылается на черновой
костяк произведения). Этот (
СП III: 384–385) и другие (ед. хр. 16, л. 5) планы имеют заметное сходство с теми, которые Хлебников составил для
сверхповести «Зангези» (
СП III: 387). Любопытно, что «Настоящему» и «Прачке» планировалось вокальное сопровождение. В рукописи с их упоминанием читаем о
хоре богатых,
хоре бедных,
литургии восстания с ремарками
вместе и соло (ед. хр. 125, л. 28).
 36
36 См., например, стихотворение, начинающееся словами
Ветер — пение (
СП II: 258). Первые четыре строки его повторяются как начало стихотворения в
СП III: 26; а остальные пять строк — как окончание стихотворения в
СП II: 96. Дальнейшие комментарии по поводу
заготовок см.:
Vladimir Markov The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 87–88.
 37
37 Тексты, составляющие «Войну в мышеловке», сначала были самостоятельными произведениями, а затем автор свёл их воедино. Более того, как отмечает Роналд Вроон (
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 34), многие тексты «Войны в мышеловке» Хлебников незадолго до своей смерти разрознил. Текст «И если в «Харьковские птицы»...» существует и как самостоятельное стихотворение (в нескольких вариантах), и как часть
сверхповести «Азы из узы» (см.:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “I esli v ‘Khar'kovskie ptitsy’... ”: Manuscript Sources and Subtexts // Russian Review, 42 (1983). P. 250–253).
 38 Susan Compton
38 Susan Compton. The World Backwards: Russian Futurist Books 1912–1916.
London: British Museum Publications. 1978. P. 69.
 39
39 Там же.
 40
40 Марков (ред.). Манифесты и программы... С. 57.
 41 Давид и Мария Бурлюк
41 Давид и Мария Бурлюк. Канва знакомства с Хлебниковым: 1909–1918 // Color and Rhyme, 55 (1964–1965). P. 37.
 42 Виктор Шкловский
42 Виктор Шкловский. Воскрешение слова // Texte der Russischen Formalisten. Vol. 2.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1972. P. 14.
 43 Борис Яковлев
43 Борис Яковлев. Поэт для эстетов: (заметки о Велимире Хлебникове и формализме в поэзии) // Новый мир, №5 (1948). С. 215.
 44
44 Там же.
 45
45 См.:
Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 214.
 46
46 Там же, p. 57.
 47
47 Хлебников точно датирует это происшествие (26 января 1918 г.) и в другом месте этого небольшого прозаического очерка описывает боестолкновения белых и красных, свидетелем которых он стал в это время в Астрахани (см.:
Александр Парнис. В. Хлебников — сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 108).
 48 Baran H
48 Baran H. Chlebnikov’s “Vesennego Korana”: An Analysis // Russian Literature, 9 (1981). P. 3.
 49
49 Там же.
 50
50 Это сравнение Хлебникова, надо полагать, вызвано созвучием русских слов ‘стих’ (стиховая строка) и ‘стихия’ (элемент). Вероятно, для него это было ещё одним проявлением
мудрости языка, сопрягающего понятия, на первый взгляд весьма далёкие друг от друга, но неким образом связанные. Поначалу кажется, что Хлебников вдаётся здесь в ложную этимологию: эти русские слова происходят от греческих, имеющих при этом разные значения. Я благодарен доктору Питеру Макриджу из колледжа Сент-Кросс в Оксфорде за сообщение о том, что образцы заимствования действительно этимологически связаны.
 51
51 Рудольф Дуганов назвал „живым организмом” стихотворение «О достоевскиймо...», см.
Дуганов Р.В. Краткое “искусство поэзии” Хлебникова // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. т. XXXIII, №5. 1974 г. С. 424.
воспроизведено на www.ka2.ru 52
52 См. также «Ветка вербы» (
СП V: 146), где Хлебников перечисляет свои письменные принадлежности, состоящие из веточки вербы, иглы дикообраза и колючек
железноводского терновника. Без сомнения, это не метафорические, а навязанные ему трудностями того времени орудия письма.
 53 Barbara Lönnqvist
53 Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 112.
 54
54 Ед. хр. 74, л. 25, 40. Хлебников сопровождает этот
столбец с именами
прародителей и перволюдей годами их рождения и математическими формулами, которые показывают, как рождения следуют друг за другом в определённой закономерности.
 55 Vroon R
55 Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 9.
 56 Todorov, T
56 Todorov, T. Number, Letter, Word // The Poetics of Prose, trans. Richard Howard.
Oxford: Basil Blackwell. 1977. P. 195.
 57
57 В Библии особенно часто используется понятие „книга жизни”, начиная с Исхода 32:32 и заканчивая последней главой Откровения (22:19); а также понятия „люди” или „имена”, записанные в „книге жизни” (Даниил 12:1, Филиппийцам 4:3). Подобное присуще и Корану, где настойчиво говорится о том, что все разнообразные явления жизни „записаны в книге Аллаха” (22.69, 10.62, 27.77). Возможно, одно из самых ярких представлений „книги жизни” в Коране таково (6.59):
Но Аллах лучше всех знает злодеев. У Него есть ключи от всего сокровенного: никто не знает их, кроме Него. Он знает всё, что есть на суше и на море: Ему внятен каждый опадающий лист. В самых тёмных недрах земли нет ни комка почвы, ни чего-либо зелёного или засохшего, что не записано в Его прославленной Книге.
(Я цитирую перевод Н. Дж. Дауда в издании Penguin Classics 1984 года, стр. 430–431).
 58
58 В этом письме содержится и первый вариант прозаической поэмы Хлебникова «Зверинец» (см. также Н
П: 285–288).
 59
59 См.:
Baran H. Chlebnikov’s “Vesennego Korana”: An Analysis // Russian Literature, 9 (1981).
 60
60 См. ед. хр. 83.
 61
61 Ед. хр. 82, л. 17.
 62
62 Ед. хр. 73, л. 3; см. также:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 130.
 63
63 Помимо Вед, Корана и Евангелия упоминаются
в шёлковых досках /
Книги монголов. Почти наверняка это буддийские тексты калмыков. Обратите внимание в этой связи на вынесение Хлебниковым слова
доски в заглавие его собственной
книги — «Доски судьбы».
 64
64 Формально религиозные книги содержат в себе многие из качеств, которые Хлебников стремился придать своей
сверхповести. Это, вообще говоря, составленные из “самостоятельных фрагментов” тексты, причём возможна и многожанровость. В религиозных писаниях нередки “закодированные” места, которые читатель должен самостоятельно истолковать. Веря в силу слова, Хлебников, конечно, хорошо осознавал странную эффективность “тёмной” речи. Однажды он, например, заметил:
Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозём духа и позднее загадочным путями даёт свои всходы. Разве понимает земля письмена зёрен, которые бросает на неё пахарь? Нет. Но осенняя нива всё же вырастает ответом на эти зёрна.
СП V: 226
 65 Vladimir Markov
65 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 307.
 66 Константин Кедров
66 Константин Кедров.
Звёздная азбука Велимира Хлебникова: литературоведческая гипотеза // Литературная учеба, 3 (1982). С. 84. См. также:
Жадова Л.
Толпа прозрачно-чистых сот // Наука и жизнь, 8 (1976). C. 105.
 67
67 Они воспроизведены в ряде публикаций, в том числе у Жадовой, с. 107.
воспроизведено на www.ka2.ru 68
68 См.:
СП III: 23, 317, 340;
СС III: 508.
 69
69 См., например:
Milner, J. Vladimir Tatlin and the Russian Avant-Garde.
New Haven and London: Yale University Press. 1984. Узнав о смерти Хлебникова, Татлин написал в письме Митуричу, что Хлебников — „главное, что случилось за всё время с нами” (ед. хр. 338, л. 1).
 70
70 Маяковский настаивал: „Хлебников — не поэт для потребителей. ‹...› Хлебников — поэт для производителя. ‹...› пример поэтам ‹...›” (Маяковский, ПСС 12, с. 165). Последнее можно понять как призыв к переработке произведений Хлебникова в целях доступности рядовому читателю.
 71
71 См.:
Mandelstam N. Hope Abandoned / trans. Max Hayward.
Penguin. 1976. P. 615;
Mandelstam N. Hope Against Hope / trans. Max Hayward
Penguin. 1975. P. 429.
 72
72 См.:
R.R. Milner-Gulland. Zabolotsky: Philosopher-Poet // Soviet Studies, vol. 22, 4 (1971). P. 605.
 73
73 Комментарии Олеши содержатся в московском издании хлебниковского «Зверинца» 1930 г., стр. 3–4.
 74
74 См.:
Яковлев В. Поэт для эстетов: заметки о Велимире Хлебникове и формализме в поэзии // Новый мир, 5 (1948). С. 207–231. Эти нападки на Хлебникова были опубликованы в разгар послевоенного наступления партии на интеллектуальную жизнь (1948 г.), которое стало известно как Ждановщина, по имени партийного чиновника, с которым она была наиболее тесно связана.
 75 Mandelstam, O
75 Mandelstam, O. Sobraniye sochineniy, 3 vols. / ed. G.P. Struve and B.A. Filippov.
New York: Inter-Language Literary Associates. 1964–1971. V. 1. P. 2, 391.
 76
76 См. комментарии Степанова в
СП I: 45; см. также:
Vladimir Markov The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 110;
Ronald Vroon. Velimir Chlebnikov’s “Chadži-Tarchan” and the Lomonosovian Tradition // Russian Literature, 9 (1981).
 77
77 См. его предисловие к:
Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М. 1926.
 78
78 Я цитирую здесь
R.H. Robins. A Short History of Linguistics.
London: Longmans. 1967. P. 113.
113.
 79
79 См.:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 134.
 80
80 Это стихотворение отчётливо напоминает последнее знаменитое стихотворение Державина «Река времен в своем стремленьи...».
Воспроизведено по:
Raymond Cooke. Velimir Khlebnikov. A critical Study.
Cambrige University Press. 1987. P. 161–188; 221–226.
Перевод В. Молотилова
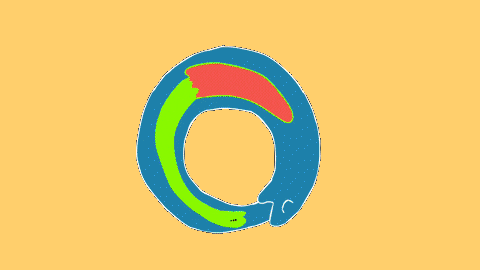
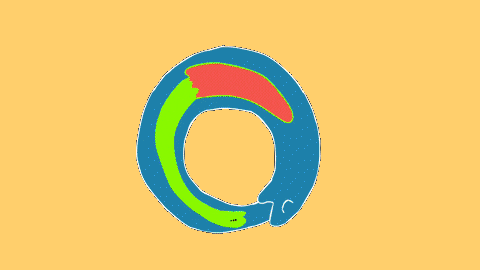





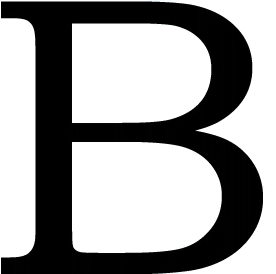 представлении Хлебникова об утраченной благодати первобытных времён едва ли не главное — уверенность в бытовании понятного всем и каждому языка: иноплеменная речь не нуждалась в переводе, слова разрушали вражду и делали будущее прозрачным и спокойным (СП V: 216). Нечто подобное лежит и в основе хлебниковской утопии: достижения науки и искусства мгновенно транслируются посредством теневых книг и радиочитален (СП IV: 287–295).
представлении Хлебникова об утраченной благодати первобытных времён едва ли не главное — уверенность в бытовании понятного всем и каждому языка: иноплеменная речь не нуждалась в переводе, слова разрушали вражду и делали будущее прозрачным и спокойным (СП V: 216). Нечто подобное лежит и в основе хлебниковской утопии: достижения науки и искусства мгновенно транслируются посредством теневых книг и радиочитален (СП IV: 287–295).![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()