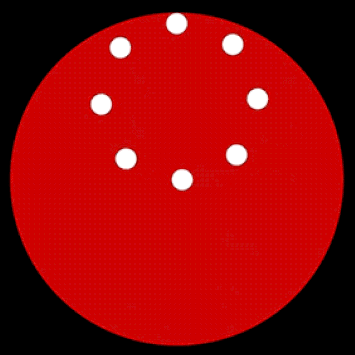Рэймонд Кук
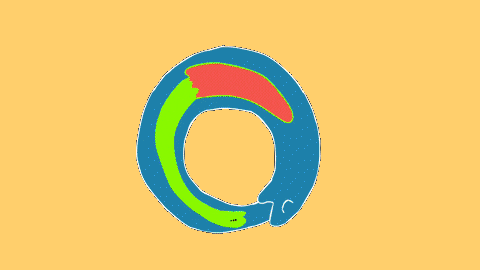
Велимир Хлебников. Переосмысление
Продолжение. Предыдущие главы: 

III

амовозвеличивание Хлебникова наводит на мысль, что мы имеем дело не только с возможной автобиографической подоплёкой (сообщают, например, что поэт страдал от вшей приблизительно в то время, когда написано стихотворение «Вши тупо молились мне...»
1
), но и с проявлениями “автомифологизма”. Таковой налицо в многочисленных
приказах и “законодательных актах”, где границы между явью и вымыслом размыты. Пример этого нами уже отмечен в воззвании
Председателей Земного Шара, где хлебниковское представление о мировом правительстве “поэтически” реализовано. Подобно большинству литературных манифестов того времени, авторство заявлено коллективным (Николай Харджиев утверждает, что Хлебников написал его лично сам
2
). Однако в другом месте поэтический персонаж становится
начальником земного шара (
СП V: 139–141); самозваный вождь человечества подписывается
король времени Велимир I (
СП V: 153).
3
Это самопровозглашение — не только проявлением эгоцентризма. Можно понять дело и так: Хлебников благосклонно вторил своим приятелям, один из которых осенью 1915 года объявил его королём русской поэзии, а другой — королём времени (СП V: 333). К тому же короля некоторые его собратья по перу столько раз провозглашали гением (о чём он с гордостью упоминает в автобиографической заметке, см.: НП: 353), что чувство собственной значимости развилось у него самым естественным образом. Но, если для гостей четы Брик “коронование” Хлебникова могло быть застольным пустозвонством и не более того, сам он своё избрание владыкой времени и распорядителем судеб человечества принял как должное. То, что кому-то казалось наигранным, для Хлебникова было глубоким внутренним убеждением.
Вопрос о “реальной” или “воображаемой” природе хлебниковской личности усложняется ещё и тем, что он использовал псевдонимы. Имя Велимир, данное ему в 1909 году в литературном салоне Иванова, явно больше, чем nom de plume. Помимо славянского элемента (в отличие от латинского Viktor), оно содержит важные семантические аспекты: велеть значит приказывать,, а приставка веле- перекликается со словом величие. Но Велимир — отнюдь не раз и навсегда взятое имя Хлебникова. Его псевдонимы многочисленны и разнообразны, налицо даже маркеры определённых типов писательской деятельности.4
Если возвышенность хлебниковского поэтического героя в глазах толпы более чем сомнительна, то же самое можно сказать и о Хлебниковым-писателе. Провозглашение кубофутуристами Хлебникова великим гением современности сопровождалось реакцией общественности с точностью до наоборот. Сообщают, что полемические доклады Бурлюка «Пушкин и Хлебников» „вызвали ожесточённые нападки со стороны “жёлтой” прессы” (НП: 466). К тому же Хлебников не умел завладеть аудиторией. Если Маяковский, Давид Бурлюк и Каменский известны смелым и резким тоном выступлений с разного рода подмостков, то в этом смысле дела у Хлебникова шли далеко не лучшим образом. Он не только редко принимал участие в публичных мероприятиях, но, даже когда был вынужден соглашаться на это, положительного впечатления отнюдь не производил. Единственное, насколько известно, публичное выступление Хлебникова в 1913 г. побудило рецензента отметить, что „его невозможно было расслышать” (НП: 467).5
Отчёты о выступлениях Хлебникова позже, в послереволюционный период, рисуют ту же грустную картину:
Он прочёл несколько стихов, прочёл очень тихо, так, что почти ничего не было слышно. Раздались свистки. Решили, что это какой-то обман
6
‹...› появление Хлебникова не вызвало особой ажитации. К тому же он тихо и конфузливо читал свои стихи — эстрадного успеха иметь не мог.
7
Чтение ему давалось трудно. Для выступлений он не был приспособлен.
Я помню его однажды на эстраде кафе, словно загнанного в угол электрическими лучами. Он что-то бормотал про себя. Публика сразу же отвернулась в сторону. Гремела посуда, перекатывались разговоры. Он стоял, заложив руки за спину. Совсем замолкший и задумавшийся. Наконец, его увели.
8
Провалом закончились и чтения, устроенные Хлебникову «Союзом поэтов»:
Сначала он читал сравнительно громко: кое-что можно было расслышать, кое-какие стихотворные фразы можно было понять. Но постепенно голос его становился всё глуше и глуше, пока не перешёл, наконец, в тихий лепет и невнятное бормотанье.
Через несколько минут, прошедших с начала его выступления, поэт, по-видимому, совсем забыл о слушателях. Он перебирал свои рукописи, путался в них. Вскоре — перед ним беспорядочный ворох рукописей. Затем это уже и не ворох рукописей: это хаос.
Окончательно запутавшись в рукописях, поэт извлекал одну из них наугад и начинал читать. Не дочитав до конца, возвращал её в родимый хаос.
Слушателями Хлебникова в этот вечер были почти без исключения стихотворцы. И несмотря на это, они один за другим тихо, но решительно стали покидать зал.
Зал наконец опустел. Два-три человека, оставшиеся па местах, по-видимому, были ярыми поклонниками Хлебникова.
9
Хлебников был, мягко говоря, неловок на публике, вот почему с эстрады его стихи нередко читал Маяковский. Контраст хлебниковских конфузов и победного самоутверждения Маяковского огромен. Коллеги Хлебникова до боли ясно сознавали это. Каменский, например, приписывает Маяковскому следующие слова:
— Иногда мне кажется, что Витя и сам не понимает, какой он блестящий поэт. И вообще он ни черта не понимает в жизни! Святой какой-то, и это меня ужасно злит. Почему, например, у него нет голоса? Разве в наши идиотские дни можно быть поэтом без голоса, когда живёшь только глоткой, когда надо орать, драться, таранить?
Хлебников, в самом деле, ничего этого не умел, но зато Маяковский таранил за десятерых.
10
Далее Каменский добавляет собственные замечания по поводу неспособности Хлебникова декламировать свои стихи: „Он прерывал чтение, говоря просто и так далее; и его тихое бормотание вызывало толки: не от мира сего...”.11 Заметим, однако, что эта “нездешность” публичного Хлебникова могла иметь и положительную сторону — именно по части отношения к нему толпы.
Заметим, однако, что эта “нездешность” публичного Хлебникова могла иметь и положительную сторону — именно по части отношения к нему толпы.
Хлебниковским поэтическим героям присуща “святость”, если не божественность. Напомним, что проповеди Зангези внимают как доброжелатели, так и ненавистники. Поэтические герои воззвания Председателей Земного Шара — святые. Одна из поэтических ипостасей Хлебникова — священник цветов; другая — волосатый священник (СП III: 149). Поэтическая личность “не от мира сего” способна превратить изгойство во всеми уважаемую святую аскезу. Пусть Хлебников и плохо справлялся с публичными выступлениями, в глазах многих современников он был чем-то вроде юродивого, провидца и экстатического “дервиша” русской поэзии.12
Именно это качество отметила жена Осипа Мандельштама Надежда, подкармливавшая Хлебникова зимой 1921 года. Она вспоминает, что, когда голодающий поэт пришёл к ним обедать, дворничиха, готовившая им еду, встретила его „не то что приветливо, а радостно: она обращалась с ним, как со странником и божьим человеком. Ему это нравилось — он улыбался”.13 Надежда Мандельштам добавляет ниже:
Надежда Мандельштам добавляет ниже:
О своём отношении к Хлебникову Мандельштам сам сказал в статьях, но я ещё подозреваю, что, подобно старушке дворничихе, он видел в нем божьего человека. Такого бережного внимания, как Хлебникову, Мандельштам не оказывал никому.
14
Судя по воспоминаниям Сергея Спасского, мнение о Хлебникове как представителе почтенного сообщества “не от мира сего” достаточной для него платой за пренебрежение и насмешки не было:
‹...› Хлебникову неприятно, что его считают чудаком. В своём собственном представлении он был иным — смелым, ловким, говорящим громко, ведущим толпу за собой, — словом, очень похожим на Маяковского ‹...›
15
Именно конфликт между самоощущением и восприятием извне очевиден в некоторых его текстах. Хлебников стремится восполнить наличные недостатки возвышением в поэтическом плане. Это помогает объяснить повторы его собственного имени в текстах и выраженный “автомифологизм” хлебниковской поэтической личности.
Свидетельств декламации Хлебникова, которая имела успех, немного. Но есть отчёт об одном выступлении, который на общем скудном фоне особенно выделяется. В трудное для Хлебникова время пребывания в Харькове (1920) он иногда выступал с чтениями в местном большевистском клубе. Одно из них вспоминает Александр Лейтес:
Никаких внешних данных поэта-оратора (а тем более эстрадного говоруна) у него не было. Скандировал он тихим, чаще всего вялым голосом. Случалось, что переходил на скороговорку, на шёпот, а то и просто обрывал чтение, произнося при этом свое обычное „и тому подобное” или „и так далее”. Всё это не привлекало, да и не могло привлечь к нему внимание посетителей клуба.
Мне надолго запомнилось только одно собрание, на которое поэт пришел взволнованный и читал в непривычной для себя манере — отрывисто, чеканно. С подъёмом он начал:
Я видел, что черные Веды, Коран и Евангелие и в шелковых досках книги монголов ‹...›
сложили костер ‹...›
чтобы ускорить приход книги единой. Нараспев называя Нил и Обь, Миссисипи и Дунай, Замбези и Волгу, Темзу и Ганг, он постепенно воодушевлялся и резко повысил голос (обращаясь не то к себе, не то к кому-то из аудитории):
Да, ты небрежно читаешь. Больше внимания! Слишком рассеян и смотришь лентяем, точно уроки закона божия. Эти горные цепи и большие моря, эту единую книгу скоро ты, скоро прочтёшь! На этот раз его слушали сосредоточенно. Аудитория была пёстрой. Студийцы, райкомовцы, сотрудники губисполкома, несколько инструкторов Поюгзапа, рабочая молодёжь с паровозостроительного... Даже шумливые подростки, недавние гимназисты младших классов, ставшие учениками “единой трудовой”, прибегавшие в клуб ради величайшего лакомства тех вечеров — бутербродов с повидлом, — даже они притихли.
16
Налицо коренное отличие от неизбежно прохладной, мягко говоря, встречи Хлебникова его слушателями. Но и поведение чтеца весьма необычно. Он взволнован, декламирует восторженно и чётко. Нервное смятение и бормотание сменилось напористым “маяковским” голосом.
Примечательно, что стихотворение, которое в тот раз читал Хлебников, — важная для него «Единая книга», имеющая самое прямое отношение к диалогу между поэтом и публикой. Кульминация «Единой книги» — строки (часть которых приведена Лейтесом):
Род человечества — книги читатель,
А на обложке — надпись творца,
Имя моё — письмена голубые.
Да, ты небрежно читаешь.
Больше внимания!
Слишком рассеян и смотришь лентяем,
Точно уроки закона божия.
Эти горные цепи и большие моря,
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтёшь!
(СП V: 25)
Это стихотворение — обвинительный приговор не вздорному писаке, а небрежному читателю. Лентяю предсказано, что тот волей-неволей прочтёт Единую книгу поэта, и говорится это с угрозой. Хлебников, которого публика так часто игнорировала, вымещает разочарование на толпе и утверждает свою особую значимость как поэта.
Стихотворение начинается, как и некоторые другие произведения Хлебникова, словами Я видел, то есть возникает из мысленного образа, видения. Именно это видение ему трудно донести до сознания окружающих. Однако ни самоуничижения, ни угрызений совести поэт не испытывает. Он не корит себя за неспособность преодолеть пропасть между собой и читателем; напротив, выговаривает тому за нежелание воспринять гармоничное видение, выпавшее на долю избранника.
Но даже и после “явления народу” «Единой книги», поэт и толпа пребудут на разных ступени иерархии. Безликое человечество — книги читатель; поэтическое Я Хлебникова — её создатель, его имя оттиснуто на обложке. Несмотря на многообещающее название, предназначенная толпе Единая книга — об авторе.
IV
На излёте жизни Хлебникова конфликт с читающей публикой становится для него уже чем-то вроде навязчивой идеи. В поэтическом герое этого периода непризнанное толпой превосходство выходит на передний план. Более того, на личном уровне видим натянутые отношения с Маяковским и Бриком. Причина — подозрения Хлебникова в краже его рукописей и плагиате. Внутренний раздрай вылился в полные горьких сетований на небрежение его трудами тексты.
Одно из коротких лирических стихотворений, проникнутых такого рода заботой (оно, по-видимому, написано в последние два месяца его жизни) — «Не чортиком масляничным...». Один из образов нам уже знаком:
Колокол Воли,
Руку свою подымаю
Сказать про опасность.
Далёкий и бледный
Мною указан вам путь.
(CП III: 311)
Новое у опробованного ранее образа поэта-освободителя — удары в набат. Поэтическое Я указует на опасность. Кроме того, из последующих строк следует, что набат не увенчался успехом. Говорится о падении с заоблачных высот (Да, я срывался и падал, / Тучи меня закрывали / И закрывают сейчас); раздаются обоснованные, надо полагать, упрёки современникам:
Не раз вы оставляли меня
И уносили моё платье,
Когда я переплывал проливы песни
И хохотали, что я гол.
Вы же себя раздевали
Через несколько лет,
Не заметив во мне
Событий вершины,
Пера руки времён
За думой писателя.
17 (СП III: 311–312)
(СП III: 311–312)
Как и в «Единой книге», пренебрежительное отношение к поэтическому герою связано с его писательской деятельностью, названной преодолением проливов песни. Более того, слова о никем не замеченных событий вершинах и беге пера руки времён вне хлебниковских текстов (за думой писателя) заставляет подозревать, что в игнорировании таковых читающей публикой виной чрезмерное увлечение автора законами времени (отсюда и набат об опасности — обращённый, возможно, к самому себе).
Однако финальные строки всё ставят на свои места:
Я одиноким врачом
В доме сумасшедших
Нёс свои песни — лекаря.
(СП III: 312)
Несмотря на отторжение и унижение, образ поэтического Я как благодетеля неколебим. “Литературная” миссия героя — попытка положить конец обступившему его безумию, исцелить больное человечество. Хлебников, который волею судьбы не раз попадал в психиатрические лечебницы, оказывается единственным полностью вменяемым человеком в бедламе современности.
Как и во многих текстах этого периода, здесь трудно с уверенностью назвать адресата. Не вызывает сомнений одно: стенания поэтического Я (с проглядывающими в нём архетипическими чертами) полны прозрачных намёков на понесённые обиды. Стало быть, возможность того, что стихотворение имеет в виду кого-то лично, сбрасывать со счётов нельзя.
Сочетание скорби вообще и предметной жалобы показательно и для другой поздней лирической вещи, «Всем», написанной приблизительно в то же время, что и «Не чортиком масляничным...». Название говорит о вселенском размахе замысла, однако обвинительный приговор вполне определённым лицам сомнению не подлежит: говорится о краже рукописей доверенными лицами. Цитирую полностью:
Есть письма — месть.
Мой плач готов,
И вьюга веет хлопьями,
И носятся бесшумно духи.
Я продырявлен копьями
Духовной голодухи,
Истыкан копьями голодных ртов.
Ваш голод просить есть,
И в котелке изящных чум
Ваш голод просить пищи — вот грудь надармака!
И после упадаю, как Кучум
От копий Ермака.
То голод копий проколоть
Приходит рукопись полоть.
Ах, жемчуга с любимыми мною лиц
Узнать на уличной торговле!
Зачем я выронил эту связку страниц?
Зачем я был чудак неловкий?
Не озорство озябших пастухов —
Пожара рукописей палач —
Везде зазубренный секач
И личики зарезанных стихов.
Всё что трёхлетняя година нам дала,
Счёт песен сотней округлить,
И всем знакомый круг лиц,
Везде, везде зарезанных царевичей тела,
Везде, везде проклятый Углич!
(СП III: 313)
Движение образов в этом стихотворении весьма прихотливо. Мотив поэта, отдающего себя на съедение тем, кто, по его мнению, подвержен духовной голодухе, сливается с оплакиванием уничтоженных рукописей. Самопожертвование (вот грудь надармака!) сменяется упрёками себе (Зачем я был чудак неловкий?). На этот раз двусмысленное чудак произносят не слушатели Зангези, а поэтическое Я поэта. Он узнаёт на уличной торговке свои перлы трёхлетней давности и терзается мыслью о том, что доверился нечистоплотным издателям.
Изуродованные стихи сравниваются с царевичем Димитрием, сыном Ивана Грозного, зарезанным накануне Смутного времени в Угличе (1591); его именем самозванцы предъявляли права на царский престол. Подразумевается, что та же участь постигла и рукописи Хлебникова. Их зарезали, то есть не пустили в печать, а потом обманом присвоили негодяи. Однако напористая природа поэтического Я берёт своё: Смутное время взывает к отмщению. Первая строка стихотворения — именно такой призыв.18
Несгибаемость поэтического Я при жестоком обращении окружающих свойственна и другому образчику поздней (1921–1922) лирики:
Русские десять лет меня побивали каменьями ‹...›
И всё-таки я подымаюсь, встаю ‹...›
(СП V: 109)
И, как только Хлебников берёт себя в руки, его лирический герой готов покарать обидчиков :
И из глаз моих на вас льётся прямо звёздный ужас
Жестокий поединок.
И я встаю как призрак из пены
Я для вас звезда.
Даже когда вы украли мои штаны или платок
и мне нечем сморкаться ‹не надо смеяться›
Я жесток, как звезда ‹столетий›
Двойку бури и кол подводного камня
Ставит она моряку за незнание,
За ошибку в задаче, за ленивое не могу!
(СП V: 109)
В очередной раз обобщенные стенания сменяются припоминанием действительного случая личного оскорбления — кражи оставленных на берегу штанов (нечто подобное описано в «Не чортиком масляничным...»). Кроме того, связанная с математическими изысканиями Хлебникова образность (двойка бури) сочетается с архетипическим представлением героя как звезды. Сверх того, звезда эта — путеводная, и если моряк возьмёт неверный курс (угол) на неё, ночное плавание кончится кораблекрушением. Это, разумеется, аллегория; Хлебников разгневан халатным отношением к его работе и угрожает обидчикам.
Образы стихотворения сродни набату колокола Воли в «Не чортиком масляничным...». Кроме того, здесь та же смесь самоутверждения и приниженности. Путеводная звезда-Я далёк, велик и неподвижен, но, если беспечные корабелы разобьются о камни, Я погибнет одновременно с ними: умру и буду не нужен (СП V: 110). Этот контраст сохраняются до последних строк стихотворения:
Не хохочите, что я
Озаряю мёртвую глупость
Слабей маяка на шаткой корме вашего судна.
Я слаб и тускл, но я неподвижен,
Он же опишет за вами
И с вами кривую крушения судна.
Он будет падать кривою жара больного и с вами на дно.
Он ваш, он с вами, — я ж божий.
Пусть моя тускла заря, ‹...›
Но я неподвижен! я вечен.
И около оси миров, где кружится мир,
Бойтесь быть злыми ко мне,
Шемякой судьёй моей мысли.
Пусть я не рёв, а ‹полуночный свист еле слышный
невыносимых уху комет›
19 (СП V: 110)
(СП V: 110)
Грозное предупреждение, которое поэтическое Я даёт тем, кто причиняет ему вред (Бойтесь быть злыми ко мне), сочетается с образами, выдающими уязвимость (Я слаб и тускл) — причём эта уязвимость усугубляется тем, что свет звезды слабей огня в фонаре на корме. Однако преимущество звезды в том, что она всегда на своём месте, а фонарь (маяк) уйдёт вместе с кораблём на дно. Вновь предъявляются права на божественность: звезда-Я — от Бога (я ж божий), а корабельный маяк — от людей (он с вами).
Сопоставление разных видов света дополнено в последней строке сравнением из области слуха. Небесное тело, в которое поэт превратил свою поэтическую личность, не ревёт, а издаёт свист еле слышный. Хлебниковская звезда-Я не только тускла, но и еле слышна.
Кто же тогда — если вообще кто-то — издаёт рёв, который заглушает хлебниковский свист еле слышный? Велик соблазн предположить, что речь идёт о коллеге, которого Хлебников явно нравилось описывать в форме загадки с отсылкой к могучему голосу (СП V: 112) и награждать эпитетом вождь толп (СП V: 97). Это, конечно, Маяковский, чей железный подбородок, по выражению Хлебникова, резал толпы, как ледокол (СП V: 112). Можем ли мы подтвердить это сравнением, которое Хлебников делает между тусклым небесным светилом и маяком на корме корабля? Думается за рамки правдоподобия то, что под маяком Хлебников подразумевает Маяковского, не выходит.20
Проблема расшифровки сложных образов (как и проблема расшифровки черновиков Хлебникова) делает стихотворение «Русские десять лет меня побивали каменьями...» трудным для понимания. Оно настолько насыщено семантическими ростками, что, как полагает В.П. Григорьев,
едва ли не каждая фраза могла быть развёрнута поэтом если не в самостоятельное произведение, то в его полноценную строфу или фрагмент.
21
Но Хлебников делает как раз обратное. Безжалостно вымарав лишние для стержневой мысли образы и сравнения, он создаёт короткое лирическое стихотворение, по праву считающееся одним из лучших его произведений. Цитирую полностью:
Ещё раз, ещё раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды.
Он разобьётся о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьётесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.
(СП III: 314)
Поэт ещё раз внушает читателю, что он путеводная звезда, а те, кто не считает обязательным строго следовать ей как ориентиру в ночи, разобьются о скалы. Сядут на мель, в лучшем случае. Это горький и напористый выпад оклеветанного поэта в виде грозного напутствия: поаккуратней с моими стихами, невежды. «Ещё раз...» перекликается с мстительным «Всем»: и халатное отношение к вверенным рукописям, и насмешки над их автором наказуемы. При этом воздаяние по своим последствиям стократ ужаснее: тех, кто взял неверный угол сердца к поэту, ждёт издевательский хохот скал-убийц. Создается впечатление, что поэтический герой берёт в союзники природную стихию. Это мощное изображение поэтической личности, в очередной раз раскрывающее одиночество поэта, взвалившего на себя задачу воистину вселенского масштаба. Став звездой, он отдалился от людей, и только.
Об одиночестве поэтического Я можно судить и по названию другого стихотворения того же периода — «Одинокий лицедей» (вероятно, конец 1921). Мифологический подтекст очевиден: убийство подземного быка. Модель поэтического героя отчасти восходит к греческому герою Тесею.22 Освобождения человека от чудовища перекликается с подобными актами благотворительности других хлебниковских поэтических героев, например, с атакой на соборное людоедство государства Председателей Земного Шара (СП III: 20). Бык, похожий на Минотавра, в «Одиноком лицедее» изображён следующим образом:
Освобождения человека от чудовища перекликается с подобными актами благотворительности других хлебниковских поэтических героев, например, с атакой на соборное людоедство государства Председателей Земного Шара (СП III: 20). Бык, похожий на Минотавра, в «Одиноком лицедее» изображён следующим образом:
А между тем курчавое чело
Подземного быка в пещерах тёмных
Кроваво чавкало и кушало людей ‹...›
23 (СП III: 307)
(СП III: 307)
Но бык не устоял в схватке с поэтическим героем — тот убивает чудовище и водружает победный трофей:
И бычью голову я снял с могучих мяс и кости
И у стены поставил.
Как воин истины я ею потрясал над миром:
Смотрите, вот она!
(СП III: 307)
Но, хотя воин истины блестяще выполнил свою задачу, лаврами победителя увенчать его никто не торопится:
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим:
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
(СП III: 307)
Опасения тусклой звезды здесь выражены куда как откровенно. Герой называет себя слепцом (слепой я шёл) — в переносном, надо полагать, смысле: не сообразил предварительно проверить сообразительность современников. Какой смысл изнемогать (как сонный труп влачился) в борьбе за истину, если толпе нечем её воспринять? Он совершает подвиги, но никто, кроме него самого, не способен их оценить.
Однако стихотворение не заканчивается воплем отчаяния: решение найдено. Если у толпы нет очей, их должно взрастить. И одинокий лицедей полон решимости поступить именно так. Аллегория понятна: перед поэтом-провидцем стоит задача заставить окружающих поверить в его правоту, прозреть.
Хлебников грезит этим и в прозаическом отрывке, написанном приблизительно тогда же, что и «Одинокий лицедей». Речь идёт о бочке сельдей больших городов, сменяющейся видением альтернативного города (первобытный лес другой правды, СП IV: 300–301):
„Хорошо! — подумал я, — теперь я одинокий игрок, а остальные — весь большой ночной город, пылающий огнями, — зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы — лицедеями”. — Эти бесконечные толпы города я подчиню своей воле.
(СП IV: 301)
Герой воображает себя единственным зрителем, который будет наблюдать, как толпы горожан покорно исполняют предписанные им роли. Это уже знакомое нам самовозвеличивание, но, будь он одиноким лицедеем или единственным зрителем — пропасть между поэтическим героем и толпой так же глубока.
О неизбывной отъединённости героя повествует и лирический пассаж о бабочке в сверхповести «Зангези»:
Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника,
На строгих стёклах рока.
Так скучны и серы
Обои из человеческой жизни!
Я уж стёр своё синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла — первую свежесть.
Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жёстки,
Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.
СП III: 324
Бабочка томится в замкнутом пространстве человеческой жизни. Пытаясь вырваться, она из последних сил бьётся в окно судьбы и оставляет на нём свою подпись. Этим она калечит себя. Весьма многозначительна картина. “Литературные” образы вновь значимы; акт письма оказывается самопожертвованием. Всё это напоминает подвиг другого крылатого существа, светлячка из «Была тьма…». Более того, оба героя Хлебникова воспринимают жизнь, которую вынуждены вести, как скучную, а самопожертвование — как попытку дотянуться до жизни другой. Для бабочки в «Зангези» это преодоление окна рока и возвращение домой, на родину чисел (явная отсылка к хлебниковским законам времени и судьбы).
В контексте сверхповести самопожертвование бабочки предваряет самоубийство Зангези, причина которого — “литературные” неприятности:
Поводом было уничтожение
Рукописей злостными
Негодяями с большим подбородком
И шлепающей и чавкающей парой губ.
(СП III: 368)
Оглашаемая причина самоубийства Зангези весьма напоминает горькие сетования из «Всем» на то, что рукописи поэта украдены, а поэтические перлы (жемчуга) кто-то имеет наглость выдавать за свои. Намёки становятся чудовищно прозрачными: не узнать в негодяе с большим подбородком Маяковского нельзя: железный большой подбородок налицо и в другом перифрастическом его портрете (СП V: 116). Получается, что Зангези-Хлебников решается на самоубийство именно потому, что Маяковский уничтожил его рукописи.
Однако в конечном итоге такому сопернику «Зангези» не победить. Подобно числам, манящим бабочку, и тусклой звезде, соперничающей с маяком, Зангези вечен. Герой может выдохнуться, даже умереть, но непременно возродится:
Зангези (входя): Зангези жив,
Это была неумная шутка.
(СП III: 368)
Стремление к возрождению и даже восстанию из мёртвых — важная черта хлебниковского поэтического мира. Как и во многих других его областях, поиск бессмертия обладает выраженными архетипическими признаками, ибо зачастую ведётся с опорой на первоэлементы — воду и огонь.24
Такого рода преображение даёт хлебниковской поэтической личности силы вновь и вновь заявлять о себе после ударов судьбы. Из небольшого стихотворения (СП V: 72), например, узнаём, что девушки дразнили его стариком и дедушкой, но поэту удалось собрать себя воедино почти ритуальным омовением:
Руками длинных ночей
В лечилицах здоровья
В этом ручье Нарзана
Облил тело своё,
Возмужал и окреп
И собрал себя воедино.
Жилы появились на руке,
Стала шире грудь,
Борода моя шелковистая
Шею закрывала.25
Подобное возрождение — на этот раз огнём — видим и здесь:
Я вышел юношей один
В глухую ночь,
Покрытый до земли
Тугими волосами.
Кругом стояла ночь
И было одиноко,
Хотелося друзей,
Хотелося себя.
Я волосы зажёг,
Бросался лоскутами колец,
Зажёг поля, деревья —
И стало веселей.
Горело Хлебникова поле.
И огненное я пылало в темноте.
Теперь я ухожу,
Зажёгши волосами,
И вместо Я
Стояло — Мы!
Иди, варяг суровый!
Неси закон и честь.
26 (СП III: 306)
(СП III: 306)
С точки зрения отношений лирического героя с толпами возрождение, каким оно изображено выше, — значительный шаг вперёд. В зачине стихотворения одиночество поэтического Я (вышел я юношей один ‹...› было одиноко) настойчиво педалируется. Отъединённость героя усугубляется его отчуждением не только от друзей, но и от самого себя. Ответом оказывается ритуальное самосожжение. Герой поджигает свои волосы, огонь вырывает окружающую местность из непроницаемой (глухая ночь) тьмы, и пожар приносит с собой некоторое облегчение (и стало веселей). Пламя здесь — освобождающая сила. Слова горело Хлебникова поле — намёк на Куликово поле, место победы русских над иноземными поработителями.
Огненное я героя пылает в темноте, но рассеивается не только ночной мрак. Битва на Хлебникова поле, свидетелем которой становится читатель, связана, по-видимому, с достопамятной осадой башни толп. Пожар превращает индивидуальное Я в коллективное Мы.
Однако, даже растворяясь в людском море, Я оказывается способно не только сохранить самовитость, но даже упрочить её. Самодержавное Мы, почти наверняка соотносимое с варягом Рюриком, общепризнанным первым властелином Руси, финальные строки изображают как сурового, но справедливого законодателя (неси закон и честь). Благодаря такому, пусть и гадательному достижению единства с толпами и довольно сомнительному выходу из одиночества, поэтический герой возрождается и переутверждает себя как личность.
Концепция универсального существа была повторена Хлебниковым и в более поздней, неопубликованной рукописи. Говорится о постройке человечества в одно целое, что соответствует нахождению общего знаменателя для ‹его› дробей, ладомира тел.27 Точно так же в позднем стихотворении упоминается мирское целое и дерево Господина Народа, которое можно разделить на множество Я (СП V: 113).
Точно так же в позднем стихотворении упоминается мирское целое и дерево Господина Народа, которое можно разделить на множество Я (СП V: 113).
Этим же подходом отмечено важное стихотворение позднего периода «Я и Россия» (вероятно, 1921):
Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.
А я снял рубаху
И каждый зеркальный небоскрёб моего волоса,
Каждая скважина
Города тела
Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня-государства,
Тысячеконных кудрей толпились у окон,
Ольги и Игори,
Не по заказу,
Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу.
Пала темница рубашки!
А я просто снял рубашку:
Дал солнце народам Меня!
Голый стоял около моря. —
Так я дарил народам свободу,
Толпам загара.
(СП III: 304)
Здесь архетипическим образом освобождения оказывается нагота — то самое, за что Хлебников в другом стихотворении мстит своим обидчикам. Здесь, однако, речь идёт не о краже одежды другими, а о добровольном обнажении — акте, который в очередной раз показывает
Я и просветителем, и вестником свободы. Освободительная миссия русской революции иносказательно равна снятию одежды
Я в солнечный день
около моря. Революция дала свободу
тысячам тысяч угнетённых;
Я, сняв
темницу рубашки, совершает точно такой же акт освобождения. Ибо тело его обнажается не само по себе, а воистину как государство, населённое целыми народами. Тысячи
Ольг и Игорей толпятся у
скважин, т.е. пор кожи, радостно впитывая солнце, которое
дал им поэт. Свершилось: личность поэта и
толпы составляют неразрывное единство.
28
В этом смысле неудивительно, что именно этот образ повторяется в одном из утопических видений Хлебникова:
Именно мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из костей.
Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волос человека — небоскрёб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.
Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной даёт больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле.
(СП IV: 297)
Поэтический герой — опять-таки звезда, но не тусклая вследствие отдалённости или грозящая возмездием, а “звезда-государства”, населённое тысячами тысяч отдельных граждан. Нравственный долг поэтического героя как благодетеля незыблем, но это не просто долг. Счастье героя и его подопечных взаимосвязано и взаимозависимо. Настойчивые попытки воистину космического контроля сменяются скромной внутренней гармонией. Простое снятие рубашки может принести больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле. Посредством личного возрождения поэтическая личность освобождает не только себя, но и свой народ. В конечном счёте, именно собственное тело поэта образует башню толп.
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
ИС:
Велемир Хлебников. Избранные стихотворения / ред., биограф. очерк и примеч. Н. Степанова.
М.: Советский писатель. 1936.
СС: Собрание сочинений в 4-х томах / ред. В. Марков.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1968–1972.
 1
1 Дуганов (Стихотворения, поэмы, драмы, проза.
М. 1986. С. 127) датирует его 1921-м годом. Имеются сведения о том, что именно тогда Хлебников „завшивел” (Russian Literature Triquarterly, 13 (1975). P. 465–467). Из мемуаров художницы Юлии Араповой «Баня Хлебникова» следует, что в зиму 1920–1921 поэт имел „отёчный вид и вшей”. Брезгуя собирать их после его посещений, но не желая лишать гостеприимства „бездомного, одинокого и всеми покинутого” Хлебникова, они с подругой „погрузили Велимира в состоянии Адама” в ванну и вымыли его: „Появился совершенно другой человек”.
 2
2 По словам Степанова (
СП III: 373), Петников участвовал в окончательной отделке текста. Харджиев, однако, настаивает, что, хотя подписи Петникова и Каменского налицо (в то время как в черновике
СП V: 164 имена только Петникова и Хлебникова), единственным автором воззвания был Хлебников (
Н. Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове (к 90-летию со дня рождения) // День поэзии: 1975.
М. 1975). Хлебников не чурался “заединщины” даже там, где был единственным автором. Харджиев, например, отмечает (там же), что под «Трубой марсиан» (
СП V: 151) стоит, среди прочего, подпись поэта Божидара (Богдана Гордеева), который умер примерно за два года до публикации манифеста.
 3
3 Подпись
Велимир Первый стоит ещё под одним указом, опубликованным в первом выпуске «Вестника Велимира Хлебникова» в Москве в 1922 году (
СП V: 167). Во второй выпуск «Вестника» включено стихотворение «Отказ» за той же подписью.
 4
4 Хлебников впервые упоминает его будущее имя Велимир в письме к родным (
СП V: 289) в конце декабря 1909. (кроме того, сообщает, что его называют Любек и провозглашает себя Ричардом Львиное Сердце.) Сведения как о его многочисленных псевдонимах, так и относительно этимологии общеславянского ‘Велимир’ см.:
Александр Парнис. Южнославянская тема Велимира Хлебникова: новые материалы к творческой биографии поэта // Зарубежные славяне и русская культура / ред. М.П. Алексеев.
Л. 1978. С. 228.
 5
5 См. также Примечание 46 к гл. I.
 6 И. Березарк
6 И. Березарк. Встречи с В. Хлебниковым // Звезда 12 (1965). С. 175.
воспроизведено на www.ka2.ru 7 Татьяна Вечорка
7 Татьяна Вечорка. Воспоминания о Хлебникове // Записная книжка Велимира Хлебникова / сост. Алексей Кручёных.
М. 1925. С. 27.
воспроизведено на www.ka2.ru 8 Сергей Спасский
8 Сергей Спасский. Хлебников. С. 194.
воспроизведено на www.ka2.ru 9 И.И. Аброскина
9 И.И. Аброскина. Литературные кафе 20-х годов (из воспоминаний И.В. Грузинова «Маяковский и литературная Москва») // Встречи с прошлым. Сборник материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР, выпуск 3.
М. 1978. С. 185–186.
воспроизведено на www.ka2.ru 10 Василий Каменский
10 Василий Каменский. Жизнь с Маяковским.
М. 1940. С. 60.
 11
11 Там же. С. 60–61. Александр Лейтес является одним из очевидцев, которые отмечают привычку поэта прерывать чтение словами
и так далее; см. его Встречи с Хлебниковым // Литературная газета, 4 декабря 1965 года.
воспроизведено на www.ka2.ru 12
12 См., например, предисловие Степанова к изданию 1960 года «Стихотворения и поэмы», стр. 6; также:
Костерин А. Русские дервиши. Москва, № 9 (1966). С. 221;
воспроизведено на www.ka2.ruArapova Yu. Khlebnikov’s Bath // Russian Literature Triquarterly, 13 (1975). P. 466.
 13 Nadezhda Mandelstam
13 Nadezhda Mandelstam. Hope Abandoned / trans. Max Hayward.
Penguin. 1976. P. 110.
воспроизведено на www.ka2.ru 14
14 Там же. P. 112.
 15 Сергей Спасский
15 Сергей Спасский. Маяковский и его спутники.
Л. 1940. С. 76.
 16 Александр Лейтес
16 Александр Лейтес. Встречи с Хлебниковым // Литературная газета, 4 декабря 1965 года.
 17
17 Это стихотворение было впервые опубликовано в сборнике Хлебникова «Стихи» в 1923 году (стр. 43) с двумя опущенными фрагментами вследствие неразборчивой рукописи. В версии
СП Степанов воспроизводит пропуски, не давая объяснений относительно того, почему он их вводит в текст. Поэтический герой в этом стихотворении ассоциируется как со
звездой, так и с
колоколом Воли, отсюда и перенесённый эпитет
далёкий и бледный. Одна строка стихотворения делает ассоциацию явной:
За то, что напомнил про звёзды.
 18
18 Стихотворение Хлебникова «Всем» содержит отчётливые отголоски драмы Пушкина «Борис Годунов», в которой повествуется о смерти царевича Димитрия. Для описания убитого мальчика Хлебников заимствует фразу „Гляжу: лежит зарезанный царевич”. Это был период российской истории, который вызывал особое восхищение у Хлебникова. См. также его поэму «Марина Мнишек», опубликованное Парнисом (
А. Парнис. Велимир Хлебников // Звезда, 11 (1975). С. 199–205). Соотнесение Хлебниковым гибели татарского хана Кучума с пиками XVI века покорителя Сибири Ермака неверно. На самом деле Кучум избежал
копий Ермака и вернулся, чтобы устроить засаду. Ермак утонул во время бегства в лодке через Иртыш.
 19
19 Это стихотворение — приблизительная версия, которая этого, была переработана, и рукопись поэтому трудно читать. Воспроизведённый Степановым в
СП текст оставляет желать лучшего. Есть пропущенные строки, а прочтение некоторых кажутся ненадежными. Привожу только те части опубликованного текста, которые, на мой взгляд, соответствуют оригиналу.
 20
20 Хлебников зашифровывал имена и в других произведениях. См., например, его комментарий к «Испаганскому верблюду» (
СП III: 379) относительно скрытого имени Абиха– (
Александр Парнис. В. Хлебников в революционном Гиляне (новые материалы) // Народы Азии и Африки, 5 (1967). С. 162–163). Маяковский, по-видимому, был известен в кругу кубо-футуристов как „маяк”. См. письмо Каменского Давиду Бурлюку (Color and Rhyme 48 (1961–2).
 21 Григорьев В.П
21 Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: Хлебников.
М. 1983.
воспроизведено на www.ka2.ru 22
22 Дополнительные свидетельства увлечённости Хлебникова мифом о Тесее и Минотавре см. в его “автобиографической повести” «Ка
2»:
Мои пылкие годы. ‹...›
В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь програть в ХХ столетии один рассказ греков (
СП V: 128). См. также текст (в написании которого участвовал Хлебников) афишы лекции «Чугунные крылья», прочитанной Петровским и Татлиным в Царицыне в мае 1916 года. Заключительным пунктом программы значится тема: «Будущее футуризма как миф о Тесее и Минотавре». Подробности лекции см. в:
Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М. 1926;
воспроизведено на www.ka2.ruрепродукцию плаката см. на фото 89 в: Vladimir Jevgrafovics Tatlin / ed. Larisza Zsadova.
Budapest: Corvina Kiado. 1985.
 23
23 Рукопись стихотворения в канцелярской книге, известной как Гроссбух, показывает, что Хлебников рассматривал своего Минотавра как олицетворение войны. В этой версии
кроваво — вставка, заменяющая слово
войною, которое было зачеркнуто (ед. хр. 64, л. 57).
 24
24 Земля занимает одно из главных мест в хлебниковском изображении возрождения. Например, в «Перед войной», когда тело после смерти предаётся земле, человек превращается во всё, что растёт на ней или питается ею, и обретает
вторую душу (
СП IV: 140–141).
 25
25 Это напоминает возрождение Хлебникова после ванны у Араповой („появился совершенно другой человек” см. примечание 1). Стихотворения о вшах и оздоровлении
в ручье Нарзана помещены Степановым на одной странице (
СП V: 72), что указывает на близость их датировок. Важность водных образов у Хлебникова была отмечена Кручёных: „Проследить его отношение к воде — это значит исследовать историю его творчества”. См. Неизданный Хлебников, 19 (1930). С. 15.
 26
26 В этом стихотворении используется ещё один важный хлебниковский образ —
волосы. См., например,
СП V: 25 и
ИС: 239–240, где волосы ассоциируются не с огнём, а с течением рек. Относительно образа пылающего Хлебникова (конец 1921) есть сообщение (
А. Кручёных. Из жизни Велимира Хлебникова // «Зверинец» Хлебникова.
М, 1930. С. I7), что во время поездки в санитарном поезде на него напали соседи по вагону, эпилептики, которые облили его бороду керосином и попытались поджечь. Однако представляется более вероятным, что это нападение произошло уже после того, как стихотворение было написано.
 27
27 Ед. хр. 75, л. 4 об.
 28
28 На автобиографическом уровне стихотворение, вероятно, отражает пребывание Хлебникова в Иране. См., например, письмо к его сестре Вере от 14 апреля 1921 года, в котором рассказывается, как по прибытии в Энзели он купался в море до тех пор,
пока звон зубов не напомнил, что пора одеваться и надеть оболочку человека — ту темницу, где человек заперт от солнца и ветра и моря (
СП V: 320). Обсуждение метафоры в этом стихотворении см.:
Willem Weststeijn. Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism.
Amsterdam: Rodopi. 1983. P. 186–194.
Воспроизведено по:
Raymond Cooke. Velimir Khlebnikov. A critical Study.
Cambrige University Press. 1987. P. 47–66; 201–204.
Перевод В. Молотилова
Продолжение 
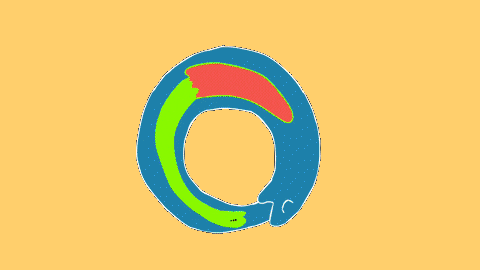
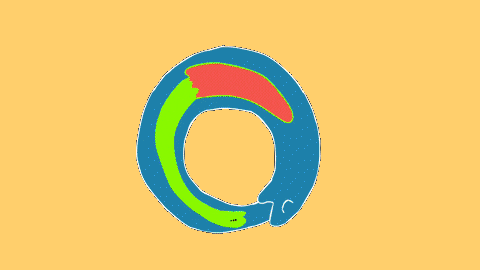


 амовозвеличивание Хлебникова наводит на мысль, что мы имеем дело не только с возможной автобиографической подоплёкой (сообщают, например, что поэт страдал от вшей приблизительно в то время, когда написано стихотворение «Вши тупо молились мне...»1
амовозвеличивание Хлебникова наводит на мысль, что мы имеем дело не только с возможной автобиографической подоплёкой (сообщают, например, что поэт страдал от вшей приблизительно в то время, когда написано стихотворение «Вши тупо молились мне...»1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()