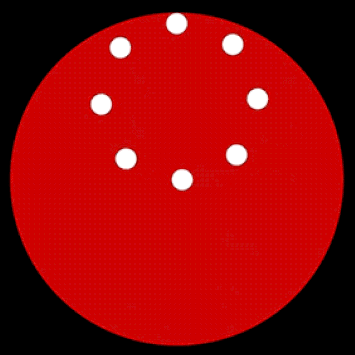Рэймонд Кук
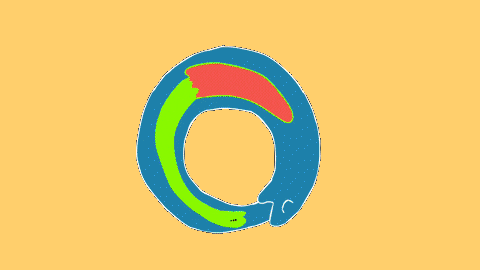
Велимир Хлебников. Переосмысление
Продолжение. Предыдущие главы: 
III
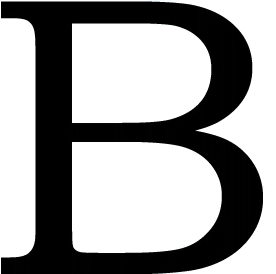
сё более очевидно, что отправной точкой освоения творческого наследия Хлебникова должна быть уверенность в том, что его тексты исполнены не хаоса и чепухи, а порядка и смысла. Это не значит, что произведения Хлебникова читаются легко. Ни один исследователь не станет отрицать зачастую весьма трудоёмкого вникания в хлебниковские тексты. Однако сложность и непостижимость — понятия разные.
Спору нет, именно склонность Хлебникова к словотворчеству и экспериментам оказывается главным препятствием для понимания его произведений. Тому, что вопиющая новизна эта приумножает нелестные эпитеты вроде „тарабарщина” и создаёт кое у кого „впечатление психического расстройства или причудливого поэтического шарлатанства”,1 удивляться не приходится. Однако новаторство в области слова — лишь одно из разноплановых устремлений поэта. Причём словотворчество у Хлебникова возведёно в систему, а неологизмы и “заумный язык” прямо-таки вопиют об одержимости смыслом. Высказывание Тынянова из предваряющей первый том (1928) хлебниковского Собрания произведений статьи не устарело и поныне:
удивляться не приходится. Однако новаторство в области слова — лишь одно из разноплановых устремлений поэта. Причём словотворчество у Хлебникова возведёно в систему, а неологизмы и “заумный язык” прямо-таки вопиют об одержимости смыслом. Высказывание Тынянова из предваряющей первый том (1928) хлебниковского Собрания произведений статьи не устарело и поныне:
Те, кто говорят о “бессмыслице” Хлебникова, должны пересмотреть этот вопрос. Это не бессмыслица, а новая семантическая система.
СП I: 26
Если в лингвистических экспериментах Хлебникова и есть препятствие для понимания, то заключается оно не в разрушении смысла, а в преднамеренной многозначности. Его неологизмы, как заметил Виллем Вестстейн, „почти всегда семантически оправданы”.2 Хлебников создал сотни новых слов из легитимных формантов, комбинируя их разнообразными способами. Такие слова, как смехач (от ‘смех’), крылышкуя (от ‘крыло’), времирь, смертирь, жарирь (от ‘снегирь’), могатый (от сочетания ‘мочь – уметь’ и ‘богатый’), не затемняют смысл, а усиливают его. Более того, Хлебников подчас объясняет, чего именно добивается: например, правительство, которое стремится угодить, может, по его мнению, быть названо нравительством (СП V: 232–233).
Хлебников создал сотни новых слов из легитимных формантов, комбинируя их разнообразными способами. Такие слова, как смехач (от ‘смех’), крылышкуя (от ‘крыло’), времирь, смертирь, жарирь (от ‘снегирь’), могатый (от сочетания ‘мочь – уметь’ и ‘богатый’), не затемняют смысл, а усиливают его. Более того, Хлебников подчас объясняет, чего именно добивается: например, правительство, которое стремится угодить, может, по его мнению, быть названо нравительством (СП V: 232–233).
Проблемы понимания хлебниковского текста связаны не столько с непроницаемостью языковых напластований, сколько с трудностями понятийного аппарата. Хлебниковские сравнения могут оказаться сопоставлениями разрозненных элементов, своеобразной словесной синестезией. Рассмотрим, например, неологизм, где “птичий” суффикс (-ирь) сочетается с абстрактным понятием времени:
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая лёгких времирей.
НП: 118
Итоговое впечатление, как выразился Рональд Вроон, „time-finch”,
3
а в общем случае — крылатое время. Неологизм этот метафоричен.
Подобного рода сопоставление имеет место в слове времыш, встречающемся в фрагменте ранней прозы Хлебникова «Искушение грешника»: и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши (СП IV: 19). Времыш, очевидно, образован от ‘время’ и ‘камыш’; снова абстрактное и конкретное сливаются и создают то, что мы могли бы (далеко не лучшим образом) назвать “камышом времени” („и было озеро, где вместо камня было время, и вместо камыша шумели камыши времени”). Сближая ‘время’ и ‘камыш’, Хлебников пользуется ‘камнем’ как посредником. Более того, звуковой элемент в слове ‘камень’ перекликается и со ‘временем’, и с ‘камышом’, объединяя все три разрозненных слова в понятийный блок. Хлебников не только создаёт с помощью неологизмов новые понятия, — путём сопоставления он обогащает значение обыденных слов. Смысла в произведениях Хлебникова предостаточно даже для неподготовленного читателя.
Кроме концептуальной, есть и другая проблема понимания хлебниковских текстов — контекстуальная. Чтобы понять, что такое времыш, его нужно рассматривать в контексте ‘камыша’, т.е. принять во внимание весь прозаический отрывок с упоминанием этого растения. Здесь мы видим изображение не столько пейзажа, сколько “пространства времени”, в котором есть и врематая избушка, и как бы ведущая в четвёртое измерение тропа, по которой бегают сутки, с отпечатками дня, вечера и утра (СП IV: 19). При этом в поэтическом мире Хлебникова контекст не ограничивается одним произведением. Времыш и противопоставление времени и камня (с упором на звуковой элемент: каменья временем) встречаются и в стихотворении «Времыши-камыши» (СП II: 275).4
Хотя анализ некоторых текстов Хлебникова достаточно успешен и без привлечения других его произведений, наиболее точное понимание может быть достигнуто обращением именно к ним. Без перехода от конкретного текста к целостной структуре поэтического мира Хлебникова некоторые смысловые уровни его творчества остаются трудно постижимыми и даже непроницаемыми. Понятие “пространство времени” и сопоставление времени и камня проходят через все творчество Хлебникова (см., например, СП III: 62, V 165); ранние проявления этой связки в «Искушении грешника» и «Времышах-камышах» следует рассматривать именно в этом контексте.
Очень часто даже интертекстуальный анализ может оказаться недостаточным, и темнóты у Хлебникова невозможно высветить без перехода на внетекстовый уровень. Этот “открытый” подход к работам Хлебникова был поддержан и успешно используется Хенриком Бараном, который доказал, в числе прочего, полезность обращения к справочникам по ботанике для объяснения хлебниковских ссылок и аллюзий на растения.5 Хлебников, как помнит читатель, проявлял живой интерес к миру природы; одну из своих художественных задач он ставит коротко, но ясно: воспеть растения (СП V: 298). Баран также указал на мифы сибирского племени орочей как на важное подспорье в понимании «Зангези», тем самым пролив свет на ряд считавшихся тёмными речений Хлебникова.6
Хлебников, как помнит читатель, проявлял живой интерес к миру природы; одну из своих художественных задач он ставит коротко, но ясно: воспеть растения (СП V: 298). Баран также указал на мифы сибирского племени орочей как на важное подспорье в понимании «Зангези», тем самым пролив свет на ряд считавшихся тёмными речений Хлебникова.6
Подобный подход может быть полезен и в анализе творчества других писателей, но в хлебниковском поэтическом мире это вопрос масштаба: отсылки и аллюзии, которые могут быть лучше объяснены интертекстуально или внетекстуально, весьма и весьма часты. Как утверждает Хенрик Баран,
Хлебников использует образы и темы, взятые из самых разных сфер человеческого опыта, в качестве “кирпичиков” ‹...› из разнообразных культурных текстов, с которыми, как правило, незнакомы широкому читателю. ‹...› поэт использует незнакомые имена собственные, фрагменты архаичных или первобытных мифов, отсылки к малоизвестным ритуалам и т.д. для передачи сложных ходов мысли.
7
Налицо и формальные или композиционные элементы, которые усложняют хлебниковский дискурс: неочевидная мотивировка местонахождения повествователя, пространное многоточие, неустойчивая временнáя привязка (вплоть до смешения прошлого с будущим). Эффект “монтажа” некоторых работ Хлебникова с “нелогичной” компоновкой фрагментов сродни “сдвинутой” перспективе кубистов.8 Трудности “вскрытия” языковых пластов по сравнению с такого препятствиями кажутся незначительными. Однако формальные элементы произведений Хлебникова нельзя рассматривать изолированно. У Хлебникова нет формы ради формы: таковая всегда тесно связана с содержанием произведения.
Трудности “вскрытия” языковых пластов по сравнению с такого препятствиями кажутся незначительными. Однако формальные элементы произведений Хлебникова нельзя рассматривать изолированно. У Хлебникова нет формы ради формы: таковая всегда тесно связана с содержанием произведения.
Признавая, что за сложностью Хлебникова скрываются порядок и смысл, многие учёные в настоящее время придерживаются мнения, что бóльшая часть его темнот преднамеренна. Анализ таковых сродни дешифровке, ибо приходится прослеживать аллюзии и раскрывать странные на первый взляд термины с помощью как внутритекстовых, так и внешних ключей. Хенрик Баран, например, не раз писал о сочинении Хлебниковым “поэтических загадок”, о его “установке на тайнопись”.9 Стимулирующее исследование поэмы «Поэт» привело Барбару Лённквист к тому же выводу. Она говорит о „скрытых смыслах” и указывает на тягу Хлебникова к загадке, поскольку „сокровенное слово есть то, чем больше всего дорожит Хлебников”.10
Стимулирующее исследование поэмы «Поэт» привело Барбару Лённквист к тому же выводу. Она говорит о „скрытых смыслах” и указывает на тягу Хлебникова к загадке, поскольку „сокровенное слово есть то, чем больше всего дорожит Хлебников”.10
Хлебников подтверждает справедливость этого вывода в своих теоретических работах:
Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной, “второй смысл”, когда оно стекло для той смутной, закрываемой им тайны, спрятанной за ним ‹...›
Обыденный смысл лишь одежда для тайного.
11
Или:
Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны, и через слюду обыденного смысла просвечивает их второй смысл.
СП V: 269
Хлебников писал и о двойной жизни слова, ссылаясь на два соперничающих начала звука:
То оно просто растёт как растение, плодит друзу звучных камней, соседних ему ‹...› или же слово идёт на службу разуму ‹...› Эта борьба миров, борьба двух властей, всегда происходящая в слове, даёт двойную жизнь языка ‹...›
СП V: 222
Учитывая заявленную самим Хлебниковым склонность к скрытым значениям и двойственности языка, неудивительно, что его тексты зачастую оказываются “головоломками”.12 Барбара Лённквист видит возможное объяснение сложности в „значительной степени автокоммуникативной природе поэзии Хлебникова”:
Барбара Лённквист видит возможное объяснение сложности в „значительной степени автокоммуникативной природе поэзии Хлебникова”:
Поэт пишет для себя и, следовательно, выносит за скобки известный ему контекст. Соответственно, слова склонны делаться своего рода знаками особого, личного контекста, который не находит отражения в тексте: слово и даже буква могут замещать целый семантический комплекс.
13
Личностный контекст далеко не редкость в литературе, особенно в лирическом стихе, но как таковой никоим образом не свойственен Хлебникову. Однако то, что следует признать его равноценной заменой, прослеживается у поэта далеко за рамками лирического изложения, включая аллюзии на плоды размышлений, жизненный опыт и навыки, внетекстовые сведения о которых могут иметь определяющее значение. Орнитология, ботаника, математика, мифология, изобразительное искусство и многие другие увлечения Хлебникова входят в его произведения самого разного толка, привнося множество смыслов, не оговариваемых “здесь и сейчас”. Роюсь в Брокгаузе, многотомных трудах о человечестве сообщил он как-то Матюшину (НП: 372). Чтобы разобраться в иных “припоминаниях”, читателю, возможно, придется сделать то же самое.
Проблемы автокоммуникации в поэзии сложны,14 но соглашаться с Барбарой Лённквист, что Хлебников „пишет для себя”, едва ли стоит. Если под этим подразумевать нежелание адресоваться к читающей публике, то есть немало свидетельств обратного. Сама идея загадки или зашифрованного текста без предполагаемого читателя-отгадчика нелепа. Кроме того, русское футуристское движение, частью которого был Хлебников, ориентировано вовне, более того — без воспринимающей стороны немыслимо. Хлебников держался наособицу, но и у него порой отчётливы приёмы чтеца-декламатора. Он был автором или соавтором различных манифестов и деклараций, в том числе «Всем! Всем! Всем!» (СП V: 164), которые явно подразумевают внешних адресатов.
но соглашаться с Барбарой Лённквист, что Хлебников „пишет для себя”, едва ли стоит. Если под этим подразумевать нежелание адресоваться к читающей публике, то есть немало свидетельств обратного. Сама идея загадки или зашифрованного текста без предполагаемого читателя-отгадчика нелепа. Кроме того, русское футуристское движение, частью которого был Хлебников, ориентировано вовне, более того — без воспринимающей стороны немыслимо. Хлебников держался наособицу, но и у него порой отчётливы приёмы чтеца-декламатора. Он был автором или соавтором различных манифестов и деклараций, в том числе «Всем! Всем! Всем!» (СП V: 164), которые явно подразумевают внешних адресатов.
А вот здесь Лённквист, видимо, ближе своих коллег к сути дела:
Текст приобретает характер тайнописи, организованной согласно принципу “понимание лишь для посвящённых”.
15
Отсюда вывод: Хлебников определённо имеет в виду адресата, но для понимания его произведения тот должен расшифровать лежащий перед ним текст, и, тем самым, влиться в ряды “посвящённых”. При этом Барбара Лённквист делает важную оговорку:
Впрочем, “ребусность” многих стихотворений Хлебникова ‹...› вытекает из сознательного, эстетически мотивированного желания сложности: искусство должно быть искусным.
16
Попутно следует напомнить, что создание “трудного” текста был одной из целей, заявленных в манифесте «Слово как таковое» („чтобы писалось туго и читалось с трудом”).
17
Аналогичным образом Алексей Кручёных заявил в «Новых путях слова», что если „прилизанные символисты” трепетали от мысли быть непонятыми публикой, то поэты-гилейцы „радуются” этому.
18
“Хитрый” код Хлебникова иногда очевиден донельзя. Возьмем, к примеру, стихотворение «Испаганский верблюд», в котором Хлебников зашифровал имя друга, а потом раскрыл этот секрет в авторском комментарии (СП III: 379).19
Разумеется, необходимость декодирования текста касается гораздо большего круга литературных произведений, нежели хлебниковские: такова авангардная или модернистская словесность в целом. Налицо и более глубинный ход мысли. Например, концепция посвящённого в тайнопись подразумевает знание мифов и магических приёмов, играющих значительную роль в поэтическом мире Хлебникова. Для такого рода текстов закодированное слово может оказаться основополагающим. В нём заключена сила, овладеть которой дано не каждому. Усложнение текста как приём магического или религиозного письма был хорошо известен Хлебникову (СП V: 225).
Всё так, но кодировщиком по убеждению Хлебникова не назовёшь. Бóльшая часть его усилий направлена не на затруднение доступа к сути сообщения, а на её раскрытие. “Бытовой смысл”, например, — лишь оболочка сокровенного смысла. Именно желание дознаться его — двигатель большинства лингвистических теорий Хлебникова, начиная с внутреннего склонения и кончая уверенностью в семантической весомости букв. Счесть такого рода умопостроения направленными на сокрытие кодов языковых явлений невозможно.
Математические изыскания, которые стали основным направлением деятельности Хлебникова под занавес жизни, тоже своего рода упражнение в интерпретации и расшифровке. Его рукописи, как обнародованные, так и нет, пестрят вычислениями и формулами. Так он пытался расшифровать одну из величайших тайн — работу времени и судьбы. Его стремление истолковать различные явления и, таким образом, проникнуть в их скрытый смысл свело воедино отнюдь не смежные дисциплины языка и числа:
В жизни каждого явления есть свой полдень, полный сил, своя утренняя заря и своя вечерняя заря; одни явленья длятся мгновенья, другие — столетья. И вот основной закон в том, что восход явления происходит под знаком “два”, а закат явления, его вечер, строится в стране числа “три”.
Нужно ещё раз подчеркнуть, что язык как часть природы знал об этом. Это можно прочесть в таких словах как дорога — путь для большого, сильного движения и тропа — путь для слабого, затруднённого движения, где “трудно” идти, а движение бесплодно тратится. ‹...›
Таким образом, труд относится к владениям числа “три”, а дело строит свой мир под знаком “два”.
Эта же разница лежит в основе слов день и тень. Бытие в течение дэ-времени и небытие в течение тэ-времени.
20
То же и в стихах:
Трата и труд и трение,
Теките из озера три!
Дело и дар — из озера два!
CС III: 498
Так учёный-разгадыватель и писатель-кодировщик сообща содействуют читателю в понимании сокровенного смысла, который кроется не только за “бытовым” значением слова, но и за повседневными событиями окружающей действительности.
IV
В статье, предваряющей первый том хлебниковского собрания произведений, Юрий Тынянов писал: „Хлебников — единственный наш поэт-эпик ХХ века” (
СП I: 24). Многие учёные и критики, в том числе Роман Якобсон, подтверждают эпический статус Хлебникова.
21
Количество поэм Хлебникова (Марков насчитывает более 30) само по себе показатель эпического размаха.
22
Тем не менее, эпическая природа творчества Хлебникова непроста и, по мнению советского критика Дуганова, у Хлебникова
собственно эпические произведения не только не преобладают, но количественно даже уступают лирическим и драматическим.
23
Такого рода явления с трудом поддаются количественной оценке, но Дуганов обоснованно утверждает, что драматургия, проза и поэзия Хлебникова отличаются не столько преобладанием лирического или эпического, сколько их смешением и последующей соотносимостью в рамках его творчества в целом.24 Тынянов указывал на гибкость хлебниковского письма, настаивая, что его небольшие лирические произведения тоже „войдут в эпос” (СП 1: 24). Действительно, лирические отрывки Хлебников вводил в эпический контекст, пример тому — его сверхповести. Это цикл самостоятельных произведений, сведённых воедино под общим заглавием. В рамках этого жанра лирика приобретает качество эпоса.
Тынянов указывал на гибкость хлебниковского письма, настаивая, что его небольшие лирические произведения тоже „войдут в эпос” (СП 1: 24). Действительно, лирические отрывки Хлебников вводил в эпический контекст, пример тому — его сверхповести. Это цикл самостоятельных произведений, сведённых воедино под общим заглавием. В рамках этого жанра лирика приобретает качество эпоса.
Как показал Дуганов, такая относительность жанров имеет далеко идущие последствия в раскрытии поэтического Я. Обычно связываемое с лирическим стихом, Я в произведении крупного формата „наполняется более сложным содержанием, получая как бы дополнительное измерение”. Я поэта способно даже к слиянию с тем, что Дуганов назвал „внеличностным Я человечества”.25 В итоге налицо смешение эпического и лирического.
В итоге налицо смешение эпического и лирического.
Эта подвижность поэтического Я (проявляемое в том числе и сменой стиля повествования) и переслоение эпоса лирикой — важная особенность творчества Хлебникова. Сверхповестями дело не ограничивается: поэтическое Я Хлебникова заявляет права на эпический статус даже в коротком лирическом стихотворении. Таково, например, «Я и Россия», где поэт обнаруживает в себе целое государство (СП III: 304).26 Подобное наблюдаем в «Я вышел юношей один» (СП III: 306).
Подобное наблюдаем в «Я вышел юношей один» (СП III: 306).
Налицо и напоминающее Маяковского стремление к развёртыванию поэтического Я в эпическом ключе посредством перевоплощения в различных “культурных героев” и персонажей.27 Хлебников был не прочь надеть маску популярного героя мифов Древней Греции — Прометея или Тесея, например. В облике подобных Зангези альтер-эго его поэтическое Я способно достичь вполне эпической достоверности. Более того, как бы подчёркивая склонность к обретению эпического статуса, Хлебников порой выступал от третьего лица под своим именем (см., например: СП II: 168, III: 306, V: 141). Учитывая такого рода пристрастие, неудивительно, что в изображении хлебниковского поэтического образа автобиографический контекст иногда крайне важен.
Хлебников был не прочь надеть маску популярного героя мифов Древней Греции — Прометея или Тесея, например. В облике подобных Зангези альтер-эго его поэтическое Я способно достичь вполне эпической достоверности. Более того, как бы подчёркивая склонность к обретению эпического статуса, Хлебников порой выступал от третьего лица под своим именем (см., например: СП II: 168, III: 306, V: 141). Учитывая такого рода пристрастие, неудивительно, что в изображении хлебниковского поэтического образа автобиографический контекст иногда крайне важен.
Особенности личностного контекста у Хлебникова уже отмечено выше; исследования в этой области могут выявить надёжные ключи к его поэтическим шифрам.28 Автобиографизм особенно заметен в текстах, связанных с пребыванием поэта в Иране. Пожалуй, в этом отношении наиболее показательна поэма «Труба Гуль-муллы» (СП I: 233–245), где поэтическое Я доминирует более наглядно, чем в каком-либо другом произведении Хлебникова. Его письма родным (СП V: 319–322) подтверждают наличие в поэме мощной биографической струи (плавание через Каспий на военно-транспортном судне «Курск», чтение Кропоткина и т.п.). Даже прозвище „русский дервиш” — чистая правда. Знаменательно, одно из ключевых представлений поэтической личности в поэме — ипостась пророка.
Автобиографизм особенно заметен в текстах, связанных с пребыванием поэта в Иране. Пожалуй, в этом отношении наиболее показательна поэма «Труба Гуль-муллы» (СП I: 233–245), где поэтическое Я доминирует более наглядно, чем в каком-либо другом произведении Хлебникова. Его письма родным (СП V: 319–322) подтверждают наличие в поэме мощной биографической струи (плавание через Каспий на военно-транспортном судне «Курск», чтение Кропоткина и т.п.). Даже прозвище „русский дервиш” — чистая правда. Знаменательно, одно из ключевых представлений поэтической личности в поэме — ипостась пророка.
Целые главы поэмы посвящены событиям отнюдь не выдуманным даже в мелочах. Владимир Марков справедливо назвал «Трубу Гуль-муллы» Хлебникова „поэтическим дневником его посещения Персии”.29 Но, хотя фактическая сторона описываемых событий подтверждается сторонними источниками, эти события прошли сквозь призму поэтического видения Хлебникова и, таким образом, претерпели “спектральную” метаморфозу. Несмотря на автобиографическую канву, поэма несравненно больше, чем дневник. Это некие подмостки для событийного и лирического представления личности поэта, в котором объективные и эпические стороны её слиты воедино. Одно из первых упоминаний героя поэмы даётся, например, в третьем лице: чадо Хлебникова (СП I: 233). Более того, наряду с представлением этого персонажа как пророка, автор-герой в какой-то момент превращается в гораздо более определённую личность — эпическую фигуру Степана Разина, прославленного вождя крестьянского восстания XVII века. Таким образом, изображение хлебниковской поэтической личности может явить необычайную сложность.
Но, хотя фактическая сторона описываемых событий подтверждается сторонними источниками, эти события прошли сквозь призму поэтического видения Хлебникова и, таким образом, претерпели “спектральную” метаморфозу. Несмотря на автобиографическую канву, поэма несравненно больше, чем дневник. Это некие подмостки для событийного и лирического представления личности поэта, в котором объективные и эпические стороны её слиты воедино. Одно из первых упоминаний героя поэмы даётся, например, в третьем лице: чадо Хлебникова (СП I: 233). Более того, наряду с представлением этого персонажа как пророка, автор-герой в какой-то момент превращается в гораздо более определённую личность — эпическую фигуру Степана Разина, прославленного вождя крестьянского восстания XVII века. Таким образом, изображение хлебниковской поэтической личности может явить необычайную сложность.
Подобное сочетание лирического, эпического и автобиографического видим в образе Зангези (который, кстати говоря, представлен как истинный автор «Досок судьбы» Хлебникова, см.: СП III: 322). Пророк Зангези — едва ли не самый известный поэтический персонаж Хлебникова, и это не случайно: сверхповесть с его участием — предмет важнейших забот Хлебникова. Это платформа и для его лингвистических теорий, с демонстрацией силы слов и выявления их скрытого значения, и для воззрений на время, включая предсказания будущего и попытки дознаться скрытого смысла повседневных событий. «Зангези» высвечивает и другую важнейшую заботу поэта: доведение его речений до сознания читателя. Хлебников прекрасно понимал, что его дискурс существует не в пустоте. «Зангези» — это ещё и признание Хлебникова трудности общения с толпой.
Любопытно, что эта троякого рода озабоченность близка той, что подметил Виллем Вестштейн:
забота о
человечестве и его
будущем и забота о новом
языке являются ядром творчества Хлебникова и тесно связаны друг с другом.
30
Однако в этом вопросе полагаться на мнение критика излишне: сам Хлебников пришёл точно к такому же выводу. Поэтический герой „автобиографической повести” (СП V: 346) «Ка2» говорит: ‹...› три осады занимали мой мозг. Башня толп, башня времени, башня слова (СП V: 132). И эту же триаду забот видим в «Скуфье скифа»: Я вспомнил слова седого жреца: „У вас три осады: осада времени, слова и множеств” (СП IV: 82).
Так что это за башни, осада которых занимала мозг Хлебникова?
Башня толп
I
От поэта с репутацией непостижимого, чей закодированный текст многим кажется своего рода визитной карточкой, нельзя ждать длительной озабоченности толпой. Однако хлебниковский текст не настолько тёмен, чтобы скрыть твёрдое осознание автором её значения именно в том, что касается писателя и его задач.
Такой настрой, кстати говоря, вполне укладывается в рамки русской литературной традиции. В XIX веке велись ожесточённые споры об отношениях между поэтом и толпой и относительных достоинствах “чистой” и “гражданской” лирики. Николай Некрасов, ярый сторонник ангажированного стиха, резюмировал конфликт общеизвестными ныне словами: „Поэтом можешь не быть, а гражданином быть обязан”.31 Сомнительно, чтобы Хлебников ставил перед собой такую задачу, но, если Некрасов “посвятил свою лиру” русскому народу и внимал его песням,32
Сомнительно, чтобы Хлебников ставил перед собой такую задачу, но, если Некрасов “посвятил свою лиру” русскому народу и внимал его песням,32 нечто подобное видим и в творчестве Хлебникова.
нечто подобное видим и в творчестве Хлебникова.
Хлебников отнюдь не был завзятым подражателем народному творчеству, но некоторое влияние оно на поэта, безусловно, оказало. В фольклоре, например, нашёл он не только кладезь тем, но и сам его язык счёл достойным словотворчества.33 Одно из ранних сохранившихся стихотворных опытов Хлебникова (НП: 244) представляет собой имитацию фольклорной формы; Владимир Марков называет позднюю поэму «Прачка» проявлением приверженности простонародным раёшнику и частушке.34
Одно из ранних сохранившихся стихотворных опытов Хлебникова (НП: 244) представляет собой имитацию фольклорной формы; Владимир Марков называет позднюю поэму «Прачка» проявлением приверженности простонародным раёшнику и частушке.34 Возможно, именно фольклорные пристрастия Хлебникова способствовал его разрыву с «Академией стиха» и писателями круга журнала «Аполлон». Николай Харджиев полагает, что новаторские, ориентированные на неканонический фольклор устремления раннего Хлебникова „встретили враждебное отношение” (НП: 419). Сам он зафиксировал издевательское высказывание кого-то из «Академии» об использовании подобных форм (НП: 200).
Возможно, именно фольклорные пристрастия Хлебникова способствовал его разрыву с «Академией стиха» и писателями круга журнала «Аполлон». Николай Харджиев полагает, что новаторские, ориентированные на неканонический фольклор устремления раннего Хлебникова „встретили враждебное отношение” (НП: 419). Сам он зафиксировал издевательское высказывание кого-то из «Академии» об использовании подобных форм (НП: 200).
Сатирические произведения Хлебникова содержат резкие выпады против столичных литераторов, но не вполне проясняют причину конфликта. Некоторое значение в этом смысле имеет брошюра «Учитель и ученик», написанная им после разрыва с «Академией стиха». Вторая половина этой брошюры пестрит нападками на ряд известных писателей (из них в круг «Аполлона» входили не все), которым вменяются тяжкие, по мнению автора, литературные грехи. Стиль брошюры, однако, очернительским не назовёшь: Хлебников противопоставляет сомнительным идеям ряда признанных писателей нравственно здоровое творчество низов общества. Единственный “литературный деятель”, которого Хлебников неизменно выставляет в благоприятном свете, — народ.
Хлебников свёл свои выводы в таблицу, где народное творчество сопоставлено с заботами “властителей умов”:
| Доказывают: | „В нашей жизни есть красота” | „В нашей жизни есть ужас” |
| Арцыбашев | | + |
| Мережковский | | + |
| Андреев | | + |
| Куприн | | + |
| Ремизов (насекомое) | | + |
| Сологуб | | + |
| Народная песнь | + | |
Следовательно, писатели единогласны, что русская жизнь есть ужас. Но почему не согласна с ними народная песнь?
Или те, кто пишет книги, и те, кто поёт русские песни, два разных народа?35 (СП V: 179–180)
(СП V: 179–180)
Оказывается, устному народному творчеству присущи положительные эстетические качества (красота в противоположность ужасу), которых лишены опусы ведущих современных писателей. Когда Хлебников покинул “башню из слоновой кости” «Академии стиха», он, похоже, решил проследовать к башне толп. Однако в его брошюре народное творчество рассматривается не только в эстетическом плане. Пояснительные таблицы указывают на высокие нравственные и мировоззренческие стороны народного искусства. По Хлебникову, оно проповедует жизнь, а не смерть (СП V: 180–181). Очевидно, это реакция на нездоровый уклон в литературе тех лет. Арцыбашев, один из тех, кого клеймит Хлебников, пользовался в этом отношении печальной известностью; здесь же Хлебников называет писателя-символиста Сологуба гробокопателем (СП V: 180). В эту же плоскость можно перевести пресловутое «Заклятье смехом»: наперекор посылающим проклятья прошлому, настоящему и будущему (СП V: 180–181) поэт проповедует радость жизни. Устное народное творчество для него — выражение любви к родине, тогда как писатели перешли в стан врага (СП V: 181). Высокая оценка здоровой словесности народа — следствие неприятия Хлебниковым прозападной ориентации литературной элиты.36 В противовес ей он поднял на щит национальную культуру, одним из высших достижений которой считал народную песнь.
В противовес ей он поднял на щит национальную культуру, одним из высших достижений которой считал народную песнь.
Та же эстетика пополам с идеологией лежит в основе плана Хлебникова расширить пределы русской словесности.37 Поэт указывает на зияющие в ней пробелы:
Поэт указывает на зияющие в ней пробелы:
В промежутках между Рюриком и Владимиром или Иоанном Грозным и Петром Великим русский народ для неё как бы не существовал.
(НП: 341)
Он поставил своей целью возвращение русской литературы народу. Опираясь на понятие о прекрасном и миропонимание народного творчества, Хлебников брал на себя литературную миссию во благо низов общества. Его эстетический подход к толпам был двунаправленным.
Хлебников предпринял немалые усилия по осуществлению заявленной программы, давшей творческий импульс многим его произведениям, начиная от прозаического отрывка о “славянском” императоре Рима (НП: 303–304) и заканчивая кратким очерком о жизни в Черногории.38 По Хлебникову, рубежи русской словесности должны простираться не только на запад — в Польшу и на Балканы, — но и на восток:
По Хлебникову, рубежи русской словесности должны простираться не только на запад — в Польшу и на Балканы, — но и на восток:
Она не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголо-финны предшествовали русским в обладании землёй, Индия для неё какая-то заповедная роща.
(НП: 341)
Страны Востока в произведениях Хлебникова (см., например, «Есир», СП IV: 87–104) налицо.
Набрасывая эстетическую программу в письме к Кручёных, он вновь свою ориентацию на самые широкие слои народа:
Заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — собирание русского языка не окончено — и выбрать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны. Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа ‹...›
(СП V: 298)
Как видим, деятельность Хлебникова-лингвиста всецело отвечает его эстетической программе.
Примечательно, что пропаганда идеи расширения пределов русской словесности давала Хлебникову право выступать перед широкой читательской аудиторией как публицисту. Отнюдь не „для себя” опубликовал он в 1913 году в газете «Славянин» призыв к „духовному, политическому и экономическому сближению славян”.39 Некоторые стихи того времени сродни публицистике — это призывы той же идеологической направленности (СП II: 15, 23).
Некоторые стихи того времени сродни публицистике — это призывы той же идеологической направленности (СП II: 15, 23).
Однако значение народа для своего творчества Хлебников осознал гораздо раньше. Об этом ясно свидетельствует «Посвящение русскому крестьянству», которое, как считается, написано ещё в 1904 году:
Если же есть те, кому я должен приписать большую решающую долю участия в моём труде, то это те люди с незначительными, немного утомлёнными, но всегда хорошими честными лицами, сгорбившиеся от трудов и лишений ‹...›.
Их-то, русских крестьян в жёлтом тулупе, со спутанной шапкой волос на голове, я считаю главными своими соучастниками, исключительно им я обязан своим трудом, так как они за меня пахали землю, сеяли, пекли хлеб, они приносили его мне, а я же сидел и ничего этого не делал и только ел их, ими же испечённый хлеб, и ел досыта, и смотрел, как они приходили ко мне и робко отдавали свой хлеб и не делали попытки отнять его у меня и самим наесться досыта. Им я посвящаю этот труд, как слабое доказательство тяготеющего надо мной долга и его огромности, невыполнимости.40
Само произведение с таким посвящением, по-видимому, не сохранилось, но панегирик русскому крестьянству выказывает немалую силу чувства. Попахивает народничеством. Здесь не только видна ранняя мотивация творчества Хлебникова, но и чувствуется нравственная ответственность по отношению к простым людям. Налицо и мощный этический подтекст: у крестьян хорошие честные лица, они бескорыстны и самоотверженны.
Однако замечаем и кое-что сверх того: автор восхищается крестьянами, но понимает свою чужеродность тем, кому обещает посвятить свой труд. Между поэтом и народом существует пропасть, которую необходимо преодолеть. Очевидно, последовательный отказ Хлебникова от ориентированной на Запад культуры своего первоначального литературного окружения и поддержку дела славянской народной культуры следует рассматривать как шаг в этом направлении.
Этот шаг очевиден на фоне футуристского движения в целом, где отказ от устоявшихся литературных ценностей был нормой поведения. Ваан Барушьян резюмировал негативное отношение начинающих футуристов к признанным писателям как „реакцию на то, что они считали безжизненным и абстрактным языком символистов”, что позволило им „переориентироваться на язык улицы и повседневной жизни, демократизировать поэзию”.41 Это, безусловно, важный элемент стиха Маяковского, налицо он в творчестве Каменского и Давида Бурлюка.42
Это, безусловно, важный элемент стиха Маяковского, налицо он в творчестве Каменского и Давида Бурлюка.42
Под таким же углом зрения следует рассматривать и эстетику Хлебникова. В столичной литературной элите он видел носителей чуждой иноязычной культуры, в то время как русская земля взывала: уста дайте мне! дайте мне уста!
И останемся ли мы глухи к голосу земли ‹...› Или же останемся пересмешниками западных голосов?
(НП: 323)
В этой статье конца 1908 года (за шесть лет до корчей „улицы безъязыкой” Маяковского),
43 милые уста
милые уста России
зачарованы злой волей соседних островов (
НП: 322).
По мнению Хлебникова, литературный бомонд внедряет враждебное России искусство, тогда как подлинно русская словесность исходит из природы, подлинной основы души народа.
‹...› искусство сейчас терпит жестокую власть вражды к России; страшный ледяной ветер ненависти губит растущее.
‹...› свобода искусства слова всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность жизни. Эти пределы в том, что природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа.
(НП: 334)
В то время как символисты воздавали должное возвышенной фигуре вечной женственности, муза Хлебникова была заметно приземлённей:
‹...› Моя муза больше промышляла извозом
Из запада скитальцев на восток,
И её никто не изобличил в почтенном занятьи вора.
Впрочем, она иногда не боялась навозом
Тёплым запачкать одеяния бедный цветок
Или низ платья, мимо скотного прохода двора.
(НП: 198)
В этом стихотворении, где высмеивается ивановская “башня”, символистская Прекрасная Дама уступает место женщине-кучеру, мало заботящейся о том, испачкано её платье навозом или нет. Кроме того, профессиональными занятиями музы Хлебникова сугубо подчёркивается его антизападничество: кучерка промышляет перевозкой заблудших скитальцев-символистов в родимые края, на восток.
В контексте “народничества” Хлебникова вполне естественно, что он приветствовал вооружённое восстание 1917 года. Социальные и политические преобразования, главная цель революции, не противоречили эстетической платформе кубофутуристского движения. Произведения народнической направленности прочно вошли в повестку дня русской литературы, и Хлебникову не приходилось жертвовать эстетическими принципами, чтобы ей соответствовать. Его собственное творчество и народная песнь были в одном стане. Смешивая свой голос с голосом Прачки и голосами с улицы, он славил народный бунт:
Это время кулачных боёв
Груди народной и свинцовой пули.
Слышите дикий, бешеный рёв:
Люди проснулись.
(СП III: 276)
Публицистическая деятельность Хлебникова теперь была связана с делом революции. Это, в частности, касается его работы в различных большевистских пропагандистских организациях, для которых он создавал ориентированные на широкую публику произведения: выступал с революционными призывами, сочинял надписи к плакатам, был даже автором взывающих о помощи голодающим стихов.44
Революция, безусловно, придала интернационалистский оттенок “народническим” взглядам Хлебникова, но слово народ весьма нередко и в его постреволюционных работах.45 Например, в одном из воззваний народ провозглашается самодержавным (СП II: 253). В другом месте хлебниковские голоса с улицы суть народ, подобно палачу без удержа жаждущий мщения (СП III: 275). Прачка в одноименной поэме — дочь народа (СП III: 242) — возмездием упивается:
Например, в одном из воззваний народ провозглашается самодержавным (СП II: 253). В другом месте хлебниковские голоса с улицы суть народ, подобно палачу без удержа жаждущий мщения (СП III: 275). Прачка в одноименной поэме — дочь народа (СП III: 242) — возмездием упивается:
Он, красавец, длинный нож,
В сердце барина хорош!
Ножом вас подчую,
Простая девка:
Я прачка, чернорабочая!
Ай хорош, ай хорош!
Нож.
(СП III: 233)
Революция, разумеется, выдвинула на передний план другой образ народа — труженика-пролетария, во имя которого большевики захватили власть, но Хлебникову революционные массы представлялись преимущественно бедняками и безработными, попрошайками и проститутками, т.е. столичным люмпен-пролетариатом. Тем не менее, он предпринял несколько попыток овладения “пролетарской” темой (см., например: СП III: 89–92).
Отношения между поэтом и толпой приобрели несколько иную направленность, и сочинения Хлебникова показывают, что его не оставили равнодушным споры, возникшие после революции. В частности, безымянный прозаический отрывок, написанный, по мнению Степанова, в 1919–1920 гг., гласит:
Говорят, что творцами песен труда могут быть лишь люди от станка. Так ли это? Не есть ли природа песни в ‹уходе от› себя, от своей бытовой оси? ‹...›
Вдохновение всегда ‹изменяло› происхождению певца. Средневековые рыцари воспевают диких пастухов, лорд Байрон — морских разбойников, сын царя Будда прославляет нищету. Напротив, судившийся за кражу Шекспир говорит языком королей, так же как и сын скромного мещанина Гёте, и их творчество посвящено придворной жизни. ‹...› Творчество, понимаемое как наибольшее отклонение струны мысли от жизненной оси творящего и бегство от себя, заставляет думать, что и песни станка будут созданы не тем, кто стоит у станка, но тем, кто стоит вне стен завода.
(СП V: 226–227)
Это почти наверняка написано по горячим следам перепалки между футуристами и пролеткультовцами о верховенстве в революционном искусстве. Футуризм обрёл после революции второе дыхание и научился улавливать смысловые оттенки быстро меняющихся обстоятельств. В итоге послереволюционные футуристы полагали себя выразителями „наиболее передового искусства того времени и, следовательно, единственно достойного пролетариата и созвучного ему”.46 Пролеткульт же стоял на своём: только пролетарские писатели отвечают требованиям современности.
Пролеткульт же стоял на своём: только пролетарские писатели отвечают требованиям современности.
Хлебников бóльшую часть послеоктябрьского периода находился вдали от Москвы и Петрограда, на периферии футуризма как движения. Однако в общественном сознании он оставался одним из его “отцов-основателей”. Неизвестно, присутствовал Хлебников на пролеткультовской конференции в Армавире (сентябрь 1920) или нет, но, поскольку пролетарием поэт ни в коем случае считаться не мог, соответствие его творчества духу времени вполне могло быть поставлено под сомнение. Искусство, понимаемое как бегство от себя — его ответ.
Это достойный отпор. Трудно представить Хлебникова записным “бардом” пролетариата, хотя некоторые революционные стихи в определённом смысле подтверждают его способность к такого рода бегству. Хлебников по личному выбору стал летописцем народного восстания 1917 года. Можно возразить, что это случилось, скорее, от более тесного контакта с толпой в этот период.47 Но Хлебников и здесь настаивает на разобщённости: можно видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, оставаясь при этом вне стен завода. Личность поэта и толпу он по-прежнему строго разграничивает.
Но Хлебников и здесь настаивает на разобщённости: можно видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, оставаясь при этом вне стен завода. Личность поэта и толпу он по-прежнему строго разграничивает.
Внеположность Хлебникова пролетариату сравнима с его рано понятой чуждостью крестьянству. Классовая принадлежность иная, но рознь по-прежнему налицо. Такую позицию, разумеется, формулой гармоничных отношений не назовёшь.
II
Хлебников сострадал низам общества, поэтому неудивительно, что толпы нашли отражение в его поэтическом творчестве и воззваниях. Парадигма отношений между поэтом и толпой, раскрываемая здесь, весьма любопытна своей изменчивостью. Рассмотрим её по возможности подробно.
Вот один из самых ранних опубликованных текстов — короткий прозаический отрывок, начинающийся словами «Была тьма...». Повествуется о чёрной тьме, в которой невзрачные, липкие, неотличимые от земли существа влачат свои скучные, тихие жизни. Но
‹...› в той же тьме был один светлячок, и он подумал: что лучше: долго ползать во мраке и жизни неслышной или же раз загореться белым огнём, пролететь белой искрой, белой песней пропеть о жизни другой, не чёрного мрака, а игры потоков белого света.
(НП: 280)
Существа не помышляют ни о чём ином, кроме прозябания. Однако светлячок, их плоть от плоти, не только способен вообразить жизнь другую, но, подобно поэту, жаждет пропеть о ней — и тем на миг рассеять тьму, в которой безмолвно ползает заодно с другими. Светлячок, выполняя задуманное, летит белой искрой в чёрной тьме, и, с опалёнными крылышками и ножками, падает на землю и умирает. Это самосожжение будит в обитателях тьмы тоску по свету, и память о светлячке становится предметом их благоговения.
Возможно, склонность Хлебникова к естествознанию и повлияла на выбор темы, но перед нами явно не рассказ о насекомых, а иносказание об отношениях поэта и толпы. “Песнь” светлячка — его самопожертвование, которым он рассеивает тьму и внушает существам понятие о лучшей доле. Светлячок выше окружающих только тем, что благодетельствует им. Мотив героического самопожертвования во имя облегчения страданий толп налицо и в другом раннем произведении Хлебникова, «Песне мраков», где двое юношей решили умереть вместе с другими за благо многих (НП: 281).
Представление о поэтическом герое как носителе света или первопроходце к нему ощутимо во многих хлебниковских текстах. Есть и другие ранние произведения, где поэтические персонажи наделены светозарностью (СП II: 266, 270). Воинственная «Боевая» зовёт славян идти на запад за солнечным ходом (СП II: 23). Точно так же позднейшее стихотворение «Воля всем» призывает людей спешить к солнцу и песням.48 В неопубликованном воззвании «Индо-русский союз»49
В неопубликованном воззвании «Индо-русский союз»49 поэт мечтает вырвать Индию из великобританских когтей и заканчивает его видением будущего:
поэт мечтает вырвать Индию из великобританских когтей и заканчивает его видением будущего:
Мы зажигаем светильник. Народы Азии посылают лучших сыновей поддержать зажжённое пламя. Мы созываем конгресс угнетённых народов ‹...›
50
Несущий свет несёт и свободу. Подобно светлячку из «Была тьма…», хлебниковские мы тоже готовы на самопожертвование ради успеха общего дела.
Любопытно, что помимо изображения своих героев несущими свет и свободу, Хлебников вменяет поэту в обязанность нести толпам радость. В январе 1922 года он пишет послесловие к книге стихов художника Фёдора Богородского, которое начинается словами:
Творчество — это искра между избытком счастьем певца и несчастьем толпы.
Творчество — разность между чьим-нибудь счастьем и общим несчастьем.
(СП V: 260)
Это снова напоминает светлячка из «Была тьма…», который (15 лет назад) пролетел белой искрой. Искра суть акт творчества, который — пусть на мгновение — устраняет пропасть между поэтом и толпой.
Иногда освободительная миссия хлебниковского поэтического героя связывается с попытками самого поэта найти законы времени и судьбы. Например, в «Детях Выдры» толпы невинных взывают к будетлянину, вооруженному математическими уравнениями Хлебникова, с мольбой мир верни, / Где нет винта и шестерни (СП II: 165). Точно так же Зангези (носящий на руке часы человечества) надеется с помощью хлебниковских теорий языка и времени снять с людей оковы слов и освободить их от цепей предков (СП III: 333). Герой чудесавля «Взлом Вселенной» атакует умный череп вселенной, чтобы завладеть рычагами судьбы и принести спасение народу (СП III: 99). Благодеяния, которые хлебниковский поэтический герой может оказать толпе, приобретают космические масштабы, и возвышенность его вполне соответствует поставленной цели.
Яркий пример тому — цикл стихов «Война в мышеловке», где поэтическое Я Хлебникова несёт земной шар на мизинце правой руки (СП II: 256–257). Хлебниковский поэтический герой зачастую склонен к самообожествлению, но и это не предел: в стихотворении «Воля всем» говорится о даровании свободы богам: Если же боги закованы — / Волю дадим и богам (СП III: 150).
Хлебников видит себя в образе, сочетающем как божественные устремления поэтического героя, так и бескорыстие: это Прометей, укравший огонь у богов, чтобы дать его людям. В «Детях Выдры» (произведении, связанном, кроме всего прочего, с Хлебниковым как именем собственным) значимость для поэта этого древнего мифа особенно видна:
Я, растроганный, сошёл
И зажёг огнём долины,
Зашатав небес престол.
Пусть знает старый властелин,
Что с ними я — детьми долин.
(СП II: 168)
Здесь богоборчество дополняется приверженностью народному делу; герой заодно с
детьми долин. Альтруизм своего
Прометея Хлебников подтверждает и в другом произведении, называя его
защитязь человека (
СС III: 393).
51
Однако, несмотря на доброжелательное в целом отношение хлебниковского поэтического героя к толпе, возвышенность его иной раз подчёркивается пренебрежительными высказываниями о народе. В одном из поздних стихотворений, например, поэтическое
Я удостоено эпитета
великий, тогда как те, о ком это возвышенная личность заботится, —
бедные и нищие умом (
СП V: 111). Такая несообразность ещё более выражена в «Войне в мышеловке»:
И, чтобы больше и дальше хохотать,
Весь род людей сломал, как коробку спичек,
И начал стихи читать.
(СП II: 244)
Это не весьма соответствует представлению о поэтическом герое как благодетеле.
Довольно пренебрежительный подход к человечеству виден и в изображении такового под властью разнообразных чудовищ, населяющих поэтический мир Хлебникова. Это, например, гигантская птица в «Журавле», перед которой люди — беспомощный пустяк. Рассказчик свысока сетует на то, что человечество лишь мякоть, в которой созрели иные семена (СП I: 77). Налицо даже стремление изобразить ближнего безобидным домашним животным. В повести «Ка» некто пишет книгу о человеководстве, а кругом бродили стада тонкорунных людей (СП IV: 48).
В неопубликованном манифесте «Азосоюз», претендующем на роль учредительного документа союза азиатских народов, позицию Хлебникова иначе как диктаторской не назовёшь:
Молчание – основной принцип в отношениях людей. Человек может сказать человеку слово, когда у него есть что сказать.
52
Хлебников отнюдь не ограничивается стремлением искоренить легковесные высказывания, он устанавливает строгие правила относительно одежды:
Человек должен быть одет легко и просто. Человек не может быть внутренне свободным, если его стесняют внешние условия.
53
На случай, если у толп появятся сомнения в праве Хлебникова издавать подобные указы, он предоставляет доказательства своего первородства:
Я, Хлебников, 1885,
За (365+1)3 до меня
Шанкарья Ачарья творец Вед
В 788 году.
За 365·9 до меня
В 1400 Аменхотеп IV.
Вот почему я велик.
Я, бегающий по дереву чисел,
Делаясь то морем, то божеством,
То стеблем травы в устах мыши.
Аменхотеп IV — Евклид — Ачарья — Хлебников.
54
Очаровательный образчик хлебниковской нумерологической поэзии. Родословная, которую автор себе приписывает, проистекает из открытого им на кончике пера закона, который якобы управляет рождением выдающихся людей. Здесь он видит себя воплощением одновременно индийского философа Шанкары, египетского фараона Аменхотепа IV и античного математика Евклида.
Развёрнутое пояснение подробностей взаимодействия поэта и толпы находим в воззвании Председателей Земного Шара 1917 года (СП III: 17–23). Это вдохновлённая — без сомнения, успехом Февральской революции — прокламация захвата Земного Шара мировым правительством Хлебникова. По его мнению, границы, разделяющие мир на государства прошлого, вызывают омерзение: Падайте в обморок при слове “границы”: / Они пахнут трупами. Объявляется всемирный государственный переворот в пользу людей, которых государства прошлого истребляют в бессмысленных войнах. При этом — несмотря на альтруистические намерения, вплоть до использования девиза Французской революции равенство, братство, свобода — хлебниковское Правительство Земного Шара обнаруживает отнюдь не лестный для подопечных упор на свою инаковость. Новые мировые лидеры покушаются на статус едва ли не сверхчеловеческий, улыбаясь как боги; они говорят о своём захватном праве и называют себя пастухами людей, чьи стада можно скликать воем в седые морские рога. С отчётливым прометеевским подтекстом человечество названо сырыми глинами, которые следует обжигать в кувшины времени. В честь новых владык будут переименованы Лондон, Париж и Чикаго, и жирные толпы человечества последуют за ними.
Следует признать, что высокомерное отношение к народу смягчается заключительным обращением следующего содержания:
Товарищи рабочие! Не сетуйте на нас: мы, как рабочие-зодчие, идём особой дорогой к общей цели. Мы — особый вид оружия.
55 (СП III: 23)
(СП III: 23)
Это обращение подтверждает внеположность поэтических героев Хлебникова толпе вследствие их верховенства. Его рабочие-зодчие идут к общей с товарищами рабочими цели наособицу. С другой стороны, оправдываясь, они понижают свой статус: просьба к рабочим не сетовать на них свидетельствует о некоторой неуверенности в себе. Несмотря на высшую силу (CП III: 21), этим правителям всё ещё не обойтись без поддержки хотя бы части своих подданных.
В противовес высокопарным словесам Председателей Земного Шара Хлебников вынужден признать, что толпы могут их отторгнуть. Встав на глыбу / Себя и своих имён, хлебниковские Председатели вдруг видят моря ваших злобных зрачков ‹...› около прибоя людского воя. Кое-кто признаёт их божественный статус и называет святыми; другие не скрывают своего раздражения, называя самозваных правителей наглецами.56
Именно такого рода смычка хлебниковского поэтического героя и толпы получает дальнейшее развитие в «Зангези». Здесь реакция народа тоже далеко не однозначна. Иной раз те, кто уверовал в Зангези, выказывают раболепие: Мы — пол, шагай по нашим душам. Смелый ходун! Мы верующие, мы ждём. Наши очи, наши души — пол твоим шагам, неведомый (СП III: 324). Одновременно презрительное отношение к Зангези достигает чудовищных размеров. Его награждают эпитетами чудак, лесной дурак (СП III: 321–322) и даже баба (СП III: 324). Над его лингвистическими и математическими теориями издеваются, а когда он даёт толпе отведать хлебниковской звукописи, раздаётся призыв сжечь мыслителя вместе с его тарабарщиной (СП III: 345).
Противопоставлению лести и брани со стороны толпы вторит двойственный образ самого Зангези, сочетающего попытки самоутвердиться с проявлением самоуничижения. Он называет себя не просто великим, а божестварью (неологизм, означающий того, кто выше божеств, ибо способен их сотворять) (СП III: 343–344).57 Но Зангези порой видит себя бабочкой, устало бьющейся о строгие стёкла рока (СП III: 324). И, хотя заклинательная сила Зангези достаточна для того, чтобы вспугнуть богов (СП III: 339), он одинок (СП III: 343).
Но Зангези порой видит себя бабочкой, устало бьющейся о строгие стёкла рока (СП III: 324). И, хотя заклинательная сила Зангези достаточна для того, чтобы вспугнуть богов (СП III: 339), он одинок (СП III: 343).
Да, возвышенный статус поэтического героя грозит одиночеством и отверженностью. В стихотворении «Детуся!», например, поэтическое Я уже не предводитель толп, а изгой, сетующий на судьбу:
Много мне зла причиняли
За то что не этот,
Всегда нелюдим,
Везде не любим.
(СП III: 149)
И дело не только в том, что окружающие отвергают поэтического героя. Отказ может быть его личным решением. В коротком стихотворении, которое так и называется (СП III: 297), лирический герой отрекается от самой мысли стать правителем, хотя вполне уверен, что достоин и справится. «Отказ» отражает удручённость Хлебникова кровопролитием гражданской войны и раскрывает такое поэтическое Я, которое скорее будет слушать голоса цветов, нежели участвовать в неизбежном для властей предержащих человекоубийстве.
Проявление самоутверждения и самоуничижения налицо и в противоречивом герое «Трубы Гуль-муллы». С одной стороны, поэт входит в образ вождя повстанцев Разина, с другой — он священник цветов (СП I: 245), охотнее разделяющий стол и кров с собакой, чем с людьми (СП I: 241).
Ролевые “качели” поэтического героя оправданы именно как хлебниковские: по-видимому, они напрямую связаны с “открытием” законов времени, которые, по Хлебникову, определяют переломы судеб. Он и назвал их законом качелей.58 Это видно из приведённого выше стихотворения о “первородстве”, где поэтическое Я пробегает по дереву чисел, делаясь то божеством, то морем (т.е. народом, как то следует из других произведений поэта), то стеблем травы в устах мыши.59
Это видно из приведённого выше стихотворения о “первородстве”, где поэтическое Я пробегает по дереву чисел, делаясь то божеством, то морем (т.е. народом, как то следует из других произведений поэта), то стеблем травы в устах мыши.59 Тому же вторит «Война в мышеловке»: поэтическое Я из короля превращается в кролика, пугливого и дикого (СП II: 246); подобный контраст есть и в другом произведении, где поэтическое Я — нищий то, царь то (СП V: 116).60
Тому же вторит «Война в мышеловке»: поэтическое Я из короля превращается в кролика, пугливого и дикого (СП II: 246); подобный контраст есть и в другом произведении, где поэтическое Я — нищий то, царь то (СП V: 116).60
Таким образом, статус хлебниковской поэтической личности довольно зыбок: почитание может смениться неприязнью; от предводителя рукой подать до изгоя. Обойму такого рода противоречий можно с лёгкостью пополнить:61
Вши тупо молилися мне,
Каждое утро ползли по одежде,
Каждое утро я казнил их,
Слушая трески,
Но они появлялись вновь спокойным прибоем.
Мой белый божественный мозг
Я отдал, Россия, тебе:
Будь мною, будь Хлебниковым.
Сваи вбивал в ум народа и оси,
Сделал я свайную хату
„Мы будетляне”.
Всё это делал как нищий,
Как вор, всюду проклятый людьми.
(СП V: 72)
Богоподобие поэтического героя противопоставлено его приниженности. Он воистину объект поклонения и вершитель судеб — но властвует не над людьми, а над паразитирующими на нём вшами, будучи не в состоянии приструнить даже их. Однако мозг поэтического героя назван божественным, такое признание самоуничижением не назовёшь. Налицо даже акт “самомифологизации”: поэтическое Я повелевает России быть Хлебниковым. Поэтический герой уверяет, что воздвиг обитель будетлян на сваях, вбитых в ум народа, но под занавес признаёт своё изгойство: божественный поэтический герой, с точки зрения окружающих, не более чем побирушка и вор. Возвышенный или проклятый, король или нищий, — поэтическая личность Хлебникова в любом случае отделена от толп.
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
ИС:
Велемир Хлебников. Избранные стихотворения / ред., биограф. очерк и примеч. Н. Степанова.
М.: Советский писатель. 1936.
СС: Собрание сочинений в 4-х томах / ред. В. Марков.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1968–1972.
 1 Vroon R
1 Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 4.
 2 Willem Weststeijn
2 Willem Weststeijn. Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism.
Amsterdam: Rodopi. 1983. P. 37. Вестстейн полагает, что именно „создание новых смыслов делает поэтическое творчество Хлебникова таким трудным для понимания, но в то же время таким семантически богатым и многозначительным”.
 3 Vroon R
3 Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 121.
 4
4 Текст этого часто цитируемого стихотворения, приведённый Степановым в
СП, почти наверняка искажён. Вина здесь не только составителя, который всего лишь скопировал его из «Требника троих» 1913 года. Рукопись стихотворения в ранней тетради (ед. хр. 60, л. 102) показывает, что опубликованная версия представляет собой не более чем краткую экстраполяцию, причём довольно грубую. Подобная судьба постигла и другое стихотворение Хлебникова из «Требника» (ср.
НП: 106 и
СП II: 275). На искажения в этом и других сборниках указывали редакторы
НП (стр. 14). Отсюда вопрос о целесообразности текстологического анализа некоторых стихотворений Хлебникова.
 5
5 См., например, анализ стихотворений «Бех» и «О, черви земляные...»:
Baran H. Chlebnikov’s Poem “Bech” // Russian Literature, 6 (1974). P. 5–19; On Xlebnikov’s Love Lyrics: 1. Analysis of “O, červi zemljanye” // Russian Poetics, UCLA Slavic Studies, vol. 4 / ed. Thomas Eekman, Dean S. Worth.
University of California, Los Angeles: Slavica. 1983. P. 29–44.
 6
6 См.:
H. Baran. Xlebnikov and the Mythology of the Oroches // Slavic Poetics: Essays in Honour of Kiril Taranovsky / ed. R. Jakobson, С.H. Van Schooneveld and Dean S. Worth.
The Hague-Paris, Mouton. 1973. P. 33–39.
 7
7 См.:
H. Baran. On Xlebnikov’s Love Lyrics: 1. Analysis of “O, červi zemljanye” // Russian Poetics, UCLA Slavic Studies, vol. 4 / ed. Thomas Eekman, Dean S. Worth.
University of California, Los Angeles: Slavica. 1983. P. 30–31.
 8
8 См.:
Mojmir Grygar. Kubizm i poeziya russkogo i cheshkogo avangarda // Structure of Texts and Semiotics of Culture / ed. Jan van der Eng and Mojmir Grygar.
The Hague-Paris, Mouton. 1973. P. 79, 90–93.
 9 Baran H
9 Baran H. Chlebnikov’s Poem “Bech” // Russian Literature, 6 (1974). P. 6;
Baran H. Chlebnikov’s “Vesennego Korana”: An Analysis // Russian Literature, 9 (1981). P. 18 (здесь же, с. 12, есть ссылка на „зашифрованные смысловые слои в тексте”). В «О некоторых подходах к интерпретации текстов Велимира Хлебникова» (American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists, vol. 1, Linguistics and Poetics / ed. H. Birnbaum.
Columbus, Ohio 1978). P.111) Баран снова говорит о „поэтических загадках” Хлебникова.
 10 Barbara Lönnqvist
10 Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 55, 108. Лённквист тоже отмечает важность загадки для Хлебникова (P. 55).
воспроизведено на www.ka2.ru 11
11 Ед. хр. 72, л. 1; цитируется также в:
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 104.
 12 Barbara Lönnqvist
12 Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 12.
 13
13 Там же.
 14
14 См.:
Юрий Лотман. О двух моделях связи в системе культуры. Труды по знаковым системам, VI // Учёные записки Тартуского государственного университета, выпуск 308.
Тарту. 1973. С. 227–243 (цитируется Лённквист).
 15 Barbara Lönnqvist
15 Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 12.
 16
16 Там же. P. 12–13.
 17
17 Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 53.
 18
18 Там же. P. 68.
 19
19 Пояснение кодировки в этом стихотворении см.:
Александр Парнис. В. Хлебников в революционном Гиляне (новые материалы) // Народы Азии и Африки, 5 (1967). С. 162–163.
 20
20 Ед. хр. 73, л. 8.
 21
21 См.:
Roman Jakobson. On a Generation that Squandered its Poets / trans. Edward J. Brown // Major Soviet Writers / ed. Brown. P. 8. См. также комментарии Николая Степанова в предисловии к «Стихотворениям и поэмам» Хлебникова (
Л. 1960. С. 61), где он заявляет: „Главное место в творчестве Хлебникова занимает эпос”.
 22
22 Оценку Владимира Маркова см.:
Vladimir Markov The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 30. По мнению Рудольфа Дуганова, их около 50, но менее половины из них он считает „эпическими”. См.:
Дуганов Р. Проблемы эпического в эстетике и поэтике Хлебникова // Известия АН СССР, Серия литературного языка, т. 35, 5. 1976. С. 426.
воспроизведено на www.ka2.ru 23
23 Дуганов, там же.
 24
24 Там же. Несмотря на жанровую аморфность творчества Хлебникова, Дуганов утверждает: „Хлебниковское слово, изначально эпическое, всегда тяготело к эпическому жанровому оформлению. Но именно в силу его отвлечённо-смысловой природы и потенциально-энергийной неистощимости оно редко оформлялось в чистый жанр” (С. 439).
 25
25 Там же. С. 427–428.
 26
26 Там же. С. 429. См. комментарий к «Я и Россия»: „И здесь уже мы, очевидно, должны говорить об особом эпическом состоянии личности”.
 27
27 Обсуждение этого у Маяковского см.:
Lawrence Leo Stahlberger. The Symbolic System of Majakovskij.
The Hague-Paris, Mouton. 1964.
 28
28 См., в частности:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “Razin: Two Trinities”: A Reconstruction // Slavic Review, vol. 39, 1 (1980). P. 70–84.
 29 Vladimir Markov
29 Vladimir Markov The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 160.
воспроизведено на www.ka2.ru 30 Willem Weststeijn
30 Willem Weststeijn. Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism.
Amsterdam: Rodopi. 1983.
Willem Weststeijn. Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism.
Amsterdam: Rodopi. 1983. P. 18 (курсив мой. —
Р.К.).
 31 Николай Некрасов
31 Николай Некрасов. Полное собрание сочинений в 15 томах.
Л. 1981. Т. 2. С. 10. Считается, что Некрасов заимствовал эту фразу у поэта-декабриста Рылеева: „Я не поэт, а гражданин”.
 32
32 Там же. Т. 3. С. 151.
 33
33 См.:
Николай Харджиев. Маяковский и Хлебников //
Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.
М. 1970. С. 98.
воспроизведено на www.ka2.ru Роналд Вроон также считает, что образцом для Хлебников была „языковоя деятельность аморфной массы, известной как “народ””. У него есть и аргументированные оговорки относительно того, какого рода акцент следует ставить на воспринятых поэтом “народных импульсах”. Вроон утверждает, что в народной речи Хлебникову был важен именно момент словотворчества, к подражанию народной поэзии он не был склонен. См.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 11–13.
 34 Vladimir Markov
34 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 174–175.
 35
35 Брошюра «Учитель и ученик» была впервые опубликована в Херсоне в 1912 году. Версия, слегка сокращённая самим Хлебниковым, была напечатана в третьем номере «Союза молодёжи» за 1913 год (
СП V: 348). Текст в
СП (который я цитирую в этой работе) взят из второго издания.
 36
36 Однако Марков предполагает, что „яростный национализм и антизападничество” Хлебникова могли одобряться некоторыми символистами (
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 13).
 37
37 Хлебников излагает эту эстетическую программу в своей краткой статье «О расширении пределов русской словесности» (
НП: 341–342).
 38
38 Подробности и текст
черногорской повести Хлебникова «Закалённое сердце» см.:
Александр Парнис. Неизвестный рассказ В. Хлебникова // Russian Literature Triquarterly, 13 (1975). P. 468–475;
Александр Парнис. Южнославянская тема Велимира Хлебникова: новые материалы к творческой биографии поэта // Зарубежные славяне и русская культура / ред. М.П. Алексеев.
Л. 1978. С. 223–251.
 39 Александр Парнис
39 Александр Парнис. Южнославянская тема Велимира Хлебникова: новые материалы к творческой биографии поэта // Зарубежные славяне и русская культура / ред. М.П. Алексеев.
Л. 1978. С. 229. Именно в газете «Славянин» впервые опубликована
черногорская повесть Хлебникова «Закалённое сердце» и статья «О расширении пределов русской словесности».
 40
40 Цит. по:
Н. Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове (к 90-летию со дня рождения) // День поэзии: 1975.
М. 1975. С. 204.
воспроизведено на www.ka2.ru 41 Vahan Barooshian
41 Vahan Barooshian. Russian Cubo-Futurism 1910–1930 // A Study in Avant-Gardism.
Mouton: The Hague-Paris. 1974. P. 16; см. также:
Camilla Gray. The Russian Experiment in Art: 1863–1922.
London: Thames and Hudson. 1971. P. 115–116;
Krystyna Pomorska. Russian Formalist Theory and its Poetic Ambience.
The Hague-Paris, Mouton. 1968. P. 88–90.
 42
42 О “поэте улицы” Маяковском, в чьих стихах есть несколько обращений к толпе, см.:
Корней Чуковский. Ахматова и Маяковский / trans. John Pearson // Major Soviet Writers / Brown (ed.). P. 49–50. О Давиде Бурлюке и Каменском см.:
Vahan Barooshian. Russian Cubo-Futurism 1910–1930 // A Study in Avant-Gardism.
Mouton: The Hague-Paris. 1974. P. 78, 105–107.
 43
43 Маяковский сетует на бедственное положение „улицы безъязыкой” в поэме «Облако в штанах» (
ПСС 1: 181). Вроон (
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 15) подметил, что, хотя для Маяковского улицы были „безъязыкими”, они обращались к поэту за помощью. Для Хлебникова сам язык нуждается в голосе, а словотворчество обеспечивает необходимую для этого среду.
 44
44 Александр Парнис (В. Хлебников в Бакросте // Литературный Азербайджан (Баку), № 7 (1976). С. 117–119) подробно рассказывает о работе Хлебникова в РОСТе (Российское телеграфное агентство) в Баку (1920–1921), где Хлебников занимался сочинением подписей к плакатам. Стихотворение Хлебникова «Голод» было написано, когда он работал ночным сторожем в РОСТе в Пятигорске осенью 1921 года. Подробнее см.: Парнис (там же);
Д. Козлов. Новое о Велемире Хлебникове // Красная новь, №8 (1927). С. 177–188:
Н. Степанов. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.
М.: Советский писатель. 1975. C. 211–212. Примеры стихотворных воззваний Хлебникова см.:
СП III: 194, 200–201.
 45
45 Хлебников задолго до революции (1904) проявлял некоторый интерес к человечеству в целом — см. о
благе человеческого рода (
НП: 318); см. также поэму «Журавль» (
CП I: 76–82), где чудовищная птица противостоит явно всему человечеству. Другие направления, развиваемые Хлебниковым до революции, включают противопоставление Востока народам Запада (см., например, «Западный друг») и молодёжи
старшим возрастам (
CП I: 151–154).
 46 Bengt Jangfeldt
46 Bengt Jangfeldt. Russian Futurism 1917–1919 // Art, Society, Revolution: Russia 1917–1921 / ed. Nils Åke Nilsson.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 115.
 47
47 См., например, предисловие Н. Степанова к сборнику «Стихотворения и поэмы» 1960. С. 63.
 48
48 А. Парнис нашёл первоначальный вариант этого стихотворения в подшивке газеты «Красный воин» за 1918 год и воспроизвёл в журнале «Простор» (Алма-Ата), 7 (1966). С. 91. Другой вариант можно найти в
СП III: 150.
 49
49 Продиктовано Хлебниковым поэту Рюрику Ивневу в течение двух дней (12–13 сентября 1918, прогулка на катере по дельте Волги). См.:
Александр Парнис. В. Хлебников — сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 106–107. Рукопись (ед. хр. 112, л. 1 об.) передана Ивневым в ЦГАЛИ. Это одна из двух паназийских деклараций, которые Хлебников продиктовал Ивневу во время их совместной поездки. Другая рукопись («Азосоюз») тоже в ЦГАЛИ (ед. хр. 112, л. 6–9). Обе написаны от первого лица множественного числа.
 50
50 Ед. хр. 112, л. 2.
 51 Защитязь
51 Защитязь — неологизм на основе глагола ‘защищать’ и того, что Роналд Вроон назвал “псевдосуффиксом” (-
язь), означающим „дух или воплощение того, что обозначается основой” (
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 147–148). Хлебников, вероятно, создал этот неологизм по образцу слова ‘витязь’.
 52
52 Ед. р. 112, л. 6. См. Примечание 49.
Азосоюз может относиться к русскому слову ‘аз’, которое входит в название другого произведения Хлебникова (
СП V: 24). ‘Аз’ — церковнославянское местоимение первого лица единственного числа и первая буква кириллицы — для Хлебникова символ освобождённой личности
Я, см.:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “I esli v ‘Khar'kovskie ptitsy’... ”: Manuscript Sources and Subtexts // Russian Review, 42 (1983). P. 265–256. Манифест «Азосоюз»
ставит своей целью сближение народов Азии. ‹...›
в этом величественном чертеже Азии мы видим место Европы как спутника, вращающегося вокруг светила - Азии. Выдвигается принцип
политического лучизма как основы мировоззрения народов Азии.
 53
53 Ед. хр. 112, л. 6. Юный Хлебников (1904) заявил, что
видит в идее рабочей пчелы идеал свой лично, и это
благу человеческого рода соответствует (
НП: 318).
 54
54 Ед. хр. 89, л. 3 об. Чтобы облегчить чтение, я ввожу опущенные Хлебниковым знаки препинания, одновременно стандартизируя капитализацию в начале строк. Поэма исследована Хенриком Бараном, см.:
Henryk Baran. Temporal Myths in Xlebnikov: From “Deti vydry” to Zangezi // Myth in Literature. New York University Slavic Papers V / ed. A. Kodjak et al.
Columbus, Ohio: Slavica. 1983. P. 82. Некоторые строки были воспроизведены в:
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 34.
 55
55 Хлебниковское воззвание
Председателей Земного Шара написано в апреле 1917 года и впервые опубликованный вскоре после этого во втором выпуске «Временника». Степанов в
СП предлагает обе версии: черновик (
СП V: 162–164) и беловую копию (
СП III: 17–23), которая, по его мнению, представляет собой стихи. Харджиев этого не опровергает, однако говорит о воззвании как о прозаическом произведении (
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // Russian Literature, №9 (1975). P. 19). Я привожу его именно в таком виде.
 56 СП
56 СП III: 17–18. Слова о том, что
Председатели стоят
на глыбе самих себя и своих имён ‹...›
среди моря злобных взглядов, — явный отголосок манифеста из «Пощечины общественному вкусу», одним из пунктов которого было „стоять на глыбе слова “мы” среди моря свиста и негодования”; см.: Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 51.
 57
57 О неологизме
божестварь см.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 42.
 58
58 Поэтическое изложение
закона качелей см.
СП II: 94. О нём же:
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 29–32.
 59
59 В
море Хлебников вкладывает самый разный метафорический подтекст.
Народ-море — в
НП: 322.
 60
60 Превращение
короля в
кролика — в т.ч. языковое преобразование:
Ныне в плену я у старцев злобных,
Хотя я лишь кролик пугливый и дикий,
А не король государства времён,
Как зовут меня люди:
Шаг небольшой, только ‘ик’,
И упавшее О, кольцо золотое,
Что катится по полу.
(СП II: 246) Поэтический герой, то
нищий, то
царь, налицо и здесь:
Я жизнь пью из кубка Моцарта ‹...›
Сотня Сальери
Я один с душой Моцарта
(СП V: 116) Утверждение Хлебниковым своего поэтического гения и намёк на то, что вокруг себя он видел завистливую толпу простых смертных — очевидно.
 61
61 Приводится в том виде, в каком опубликовано Степановым в
СП. Рональд Вроон, однако, сообщил мне, что на основании рукописи можно заключить, что она состоит из двух фрагментов. Одно из самых последних советских изданий Хлебникова «Стихотворения, поэмы, драмы, проза» (сост. и комм. Р.В. Дуганова.
М. 1986. С. 127), даёт эти строки одним блоком, но с перерывом на строфу между пятой и шестой строками.
Воспроизведено по:
Raymond Cooke. Velimir Khlebnikov. A critical Study.
Cambrige University Press. 1987. P. 20–47; 196–201.
Перевод В. Молотилова
Продолжение 
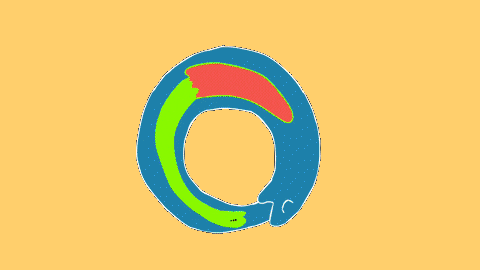
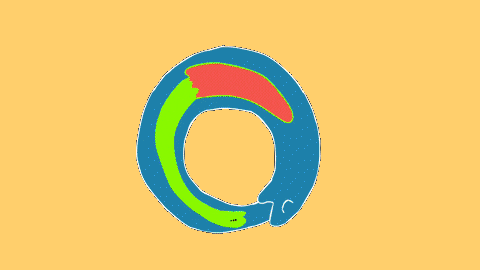

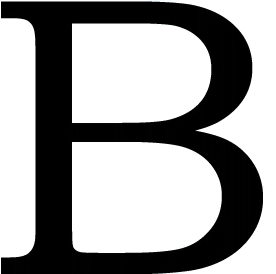 сё более очевидно, что отправной точкой освоения творческого наследия Хлебникова должна быть уверенность в том, что его тексты исполнены не хаоса и чепухи, а порядка и смысла. Это не значит, что произведения Хлебникова читаются легко. Ни один исследователь не станет отрицать зачастую весьма трудоёмкого вникания в хлебниковские тексты. Однако сложность и непостижимость — понятия разные.
сё более очевидно, что отправной точкой освоения творческого наследия Хлебникова должна быть уверенность в том, что его тексты исполнены не хаоса и чепухи, а порядка и смысла. Это не значит, что произведения Хлебникова читаются легко. Ни один исследователь не станет отрицать зачастую весьма трудоёмкого вникания в хлебниковские тексты. Однако сложность и непостижимость — понятия разные.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()