

Союз поэтов систематически и неуклонно посещал Велимир Хлебников.
Это было года за два или за три до смерти поэта.
Целую зиму Хлебников почти каждый день в сумерки появлялся в кафе «Домино».
Он проходил во второй зал кафе и садился за миниатюрный столик, стоявший у окна.
Сидел один.
Всегда один.
Ему подавали обед.
Он молча съедал его.
Денег не платил: получал бесплатный обед; президиум Союза поэтов регулярно выдавал неимущим поэтам талоны на обед.
Хлебников носил шубу. Шапку.
Ни шубы, ни шапки он в кафе «Домино» никогда не снимал.
Шуба на Хлебникове была с чужого плеча. Овчинная. Тяжёлая. Архаическая. Новой эта шуба была не позже конца, а может быть и середины, минувшего века.
Цвет лица Хлебникова в тон цвету его шубы: лицо бледно-серое, с зеленоватым оттенком.
Цвет волос: неопределённый.
Глаза: невидящие.
Казалось, он смотрит и не замечает ни одного из окружающих его предметов, смотрит и не замечает никого из окружающих его людей.
У Хлебникова беспримерная рассеянность, безумная рассеянность.
Нет, это не рассеянность. Это нечто большее: равнодушие ко всему и ко всем.
Но это не равнодушие эгоиста, а невольное и неизбежное безразличие поэта и философа, который покончил в жизни со всем и со всеми, который всецело поглощён своими мечтами и мыслями.
Это подлинный и полный уход человека из мира действительности в мир мысли и мечты.
Велимир Хлебников последнего периода своей жизни нисколько не был похож на его фотопортреты, по крайней мере на те из них, которые я видел.
На портретах, виденных мною, лицо Хлебникова имеет очень определенные, почти строгие формы и очертания. В действительности в тот период времени, в который я его наблюдал, Хлебников был совсем другим человеком.
При взгляде на поэта трудно было определить его возраст.
Казалось: ему очень много лет.
При виде Хлебникова чаще других его стихотворений приходило на намять одно, в котором есть следующие строки:
Невольно хотелось внести поправку в этот стихотворный текст:
Впрочем, смертельно-бледное лицо Хлебникова было настолько бесформенным и неопределенным по своим очертаниям, что условно можно было отнести к его лицу слова цитируемого стихотворения без всяких изменений:
Хлебников всегда молчал.
Многим из поэтов, видевших Хлебникова, было неизвестно, какой у него голос.
Отчётливей всего у меня в памяти: Хлебников в сумерках, Хлебников, как полумертвец, безмолвно сидящий за миниатюрным столиком в кафе «Домино».
Президиум Союза поэтов устроил однажды в кафе «Домино» выступление Велимира Хлебникова.
Помню: был ранний вечер, была написанная от руки афиша, была при входе в «Домино» продажа билетов.
Хлебников появился на эстраде в своей тяжёлой шубе. Без шапки.
Он сидел на эстраде за столиком. Перед ним на столике — груда рукописей.
Глядя в заранее приготовленную для чтения рукопись, Хлебников открыл вечер поэзии.
Сначала он читал сравнительно громко: кое-что можно было расслышать, кое-какие стихотворные фразы можно было понять. Но постепенно голос его становился всё глуше и глуше, пока не перешёл, наконец, в тихий лепет и невнятное бормотанье.
Через несколько минут, прошедших с начала его выступления, поэт, по-видимому, совсем забыл о слушателях. Он перебирал свои рукописи, путался в них. Вскоре — перед ним беспорядочный ворох рукописей. Затем это уже и не ворох рукописей: это хаос.
Окончательно запутавшись в рукописях, поэт извлекал одну из них наугад и начинал читать. Не дочитав до конца, возвращал её в родимый хаос.
Слушателями Хлебникова в этот вечер были почти без исключения стихотворцы. И несмотря на это, они один за другим тихо, но решительно стали покидать зал.
Зал наконец опустел. Два-три человека, оставшиеся па местах, по-видимому, были ярыми поклонниками Хлебникова. Кроме почитателей поэта, один человек оставался в зале по обязанности: это был дежурный член президиума Союза поэтов.
Через месяц или два президиум Союза поэтов снова устроил литературный вечер Велимира Хлебникова.
Второй вечер был таким же неудачным, как и первый.
С тех пор Хлебникова оставили в покое. О Хлебникове в президиуме Союза поэтов говорили только тогда, когда нужно было возобновить выдачу ему бесплатных обедов или когда нужно было взять у поэта стихотворение для издающегося коллективного литературного сборника или альманаха.
Зима подходила к концу.
Был ранний вечер.
Сквозь большие, почти сплошные окна первого зала «Домино» проникали закатные лучи.
Хлебников сидел в комнатке президиума Союза поэтов. Он был в шубе, но без шапки.
Горел яркий электрический свет.
Против Хлебникова сидел только один человек; этот человек был журналист.
Я пишу мемуары, а не роман.
Поэтому я не имею права описывать действующих лиц, не присутствуя при их действиях своей собственности персоной. Поэтому, само собою разумеется, в комнатке президиума Союза поэтов в качестве третьего действующего лица присутствовал я.
Впрочем, я бездействовал: я созерцал.
Я наблюдал необыкновенную сцену.
Журналист, более или менее близкий знакомый Хлебникова, интервьюировал поэта.
Журналист хотел узнать: в чём заключается философское credo Хлебникова? Точнее, журналист хотел узнать: к каким философским выводам пришёл Хлебников в самое последнее время?
Журналист задал первый вопрос.
Поэт ничего не ответил.
Казалось: Хлебников находится где-то очень далеко. Казалось: контакт между поэтом и журналистом невозможен.
Журналист, видоизменив вопрос, повторил его.
Ответа не последовало.
Журналист упрямо продолжал задавать вопросы поэту.
На третий вопрос журналиста Хлебников невнятно и лаконически ответил: „Да”. На четвёртый опять: „Да”. На пятый: „Нет”. На шестой: „Да”. На седьмой вопрос последовала в ответ небольшая, но точно сформулированная фраза.
Казалось: Хлебников двинулся из мира мысли и мечты, в котором он жил, в реальный мир. Поэт подошёл к грани, отделяющей мир мысли и мечты от мира действительности. Подошёл и остановился „на пороге как бы двойного бытия”.
Журналист поставил новый вопрос.
В ответ опять последовала целая фраза.
По лицу журналиста скользнула едва уловимая улыбка, он был доволен достигнутыми успехами.
Журналист задавал вопросы. Поэт чётко отвечал на них.
Через несколько минут Хлебников снова на все задаваемые ему вопросы отвечает только односложными “да” или “нет”. Затем поэт замолкает.
За всё время разговора с журналистом поэт ни на йоту не изменился. Не было заметно ничего похожего на возбуждение, не было заметно ничего похожего на румянец. Лицо поэта оставалось таким же, каким было всегда: бледно-серым, с зеленоватым оттенком.
Разговор журналиста с поэтом, если эту странную процедуру можно назвать разговором, мне невольно напомнил один из страшных рассказов Эдгара По «Факты в деле мистера Вальдемара»
Казалось: журналист отлично играет роль человека, проделывающего месмерический опыт над своим умирающим другом. У журналиста прекрасный партнёр: Велимир Хлебников неподражаемо играет роль умирающего мистера Вальдемара в пьесе, изготовленной по рассказу Эдгара По.
Президиум Союза поэтов прежде всего организовал кафе. Для этой цели было переоборудовано кафе «Домино», помещавшееся в доме №18 по Тверской улице.
Поэты, посещавшие «Домино», шутили:
После переоборудования кафе многие по-прежнему называли его «Домино», некоторые именовали его кафе поэтов, а некоторые — «СОПО» или фамильярно — «Сопатка».
Кстати, наименование «СОПО» красуется на первом коллективном сборнике стихов Союза поэтов, изданном в 1918 году.
В кафе «Домино» было два зала и маленькая комнатка, на двери которой при переоборудовании кафе прикрепили надпись: «Президиум ВСП». В обоих залах кафе было множество миниатюрных столиков со стеклянными покрытиями. Под стеклянными покрытиями столиков — оранжевая бумага. На эту бумагу, под стекло, поэты клали рукописи со своими стихами, а художники — свои рисунки: карикатуры и шаржи. Таким образом, в кафе поэтов никогда не прекращалась выставка стихов и графики.
Приспособить кафе «Домино» для выступлений поэтов было чрезвычайно легко: художник Анненков в первом зале кафе повесил на стену пустую птичью клетку, а рядом с ней — старые чёрные штаны Василия Каменского.
На стенах и плафонах обоих залов кафе Анненков написал масляной краской несколько строк стихов Василия Каменского.
Особенно выделялись крупные полуаршинные буквы на белоснежной штукатурке плафона первого зала «Домино», они яростно бросались в глаза входившему в кафе посетителю и во всю глотку кричали:
Посетители кафе поэтов, читая эту надпись, вместо мóлодость обязательно произносили молодóсть.
Одни из посетителей делали так по наивности, другие — злостно, и те, которые делали это злостно, усиленно подчёркивали неправильное ударение. Они произносили это слово настолько громко, чтобы поэты и публика отчётливо слышали их.
Усердие посетителей кафе, злостно коверкающих ударение в слове мóлодость, усугублялось, когда они видели среди поэтов Василия Каменского. По всей вероятности, для улюлюкающих фонетический казус служил лишь прикрытием (маскировкой) более глубокого смысла: перенося ударение, хотели нанести удар поэту. Но Василий Каменский только улыбался на улюлюканье и, как истинный песнебоец, в скором времени ответил улюлюкающим стихотворением, которое начиналось следующей строкой: „Мы в сорок лет совсем ещё мальчишки...”
Для эстрады кафе поэтов был изготовлен чрезвычайно яркий занавес. Яркость занавеса обусловливалась взаимодополнительными тонами: он состоял из зелёных и алых полос. На цветных полосах занавеса были прикреплены замысловатые геометрические фигурки. Общее впечатление от занавеса, имевшего весьма важное значение при выступлениях поэтов, было гротескно-футуро-лубочное. Это же впечатление посетитель получал и от всего прочего декоративного убранства кафе поэтов.
Стиль выступлений поэтов, в особенности в первое время существования СОПО, вполне гармонировал с тем стилем кафе, какой был создан его декоративным убранством. Заслуга — если сие можно назвать заслугой — в выработке стиля выступлений в кафе поэтов принадлежит почти целиком высоко квалифицированному мастеру этого дела Василию Каменскому.
Василий Каменский был главным выступающим лицом в кафе «Домино». В первое время существования кафе Василий Каменский выступал со своими стихами почти каждый вечер.
Приоткрывается цветной занавес.
На эстраде устанавливается вышка.
Вышка имеет вид усечённой пирамиды с небольшой площадкой наверху.
На площадку вышки ведут ступени.
По ступеням на вышку медленно-медленно взбирается Василий Каменский.
Садится он на верхнюю площадку вышки.
Сидит в задумчивости, сидит как бы в оцепенении.
Весь сей сон значит следующее: вышка — корабль, мчащийся по океанским волнам. Задумавшийся на площадке вышки Василий Каменский — это какой-то странный путешественник. По всей вероятности, этот путешественник — российский футурист в немыслимом гарольдовом плаще. Из дальних странствий, из-за океана, он возвращается на родину.
Попыхивая воображаемым кепстеном, Василий Каменский сидит на вышке столько времени молча, что его молчание начинает надоедать нетерпеливой публике.
Тогда он, мать российского футуризма, начинает медленно-медленно раскачиваться, затем медленно-медленно начинает с самых нижних, басовых регистров своего голоса вещать:
Постепенно переходя на верхние регистры своего голоса, поэт всё громче и громче декламирует, всемерно подчёркивая и растягивая слово футуризм:
Описанное выступление Василия Каменского было самым обстановочным из всех его выступлений. Им он почти ежевечерне занимал публику в течение двух или трех месяцев.
Публика, прослушав несколько раз стихи знаменитого футуриста, знала их наизусть и в дальнейшем нередко декламировала их хором, вместе с выступающим поэтом.
Василий Каменский был тогда весь во власти своих выступлений. Он был в полном разгаре увлечения этими выступлениями. Он горел в каком-то выступленческом бреду. И не только сам горел, он зажигал этим горячечным бредом выступлений и других поэтов, в особенности молодых.
Как сейчас помню.
Однажды вечером, собрав вокруг себя во втором зале «Домино» “род веча” из двух-трёх десятков молодых поэтов, Василий Каменский ораторствовал.
Ораторствовал он, примерно, в таком роде:
— Товарищи, учитесь выступать. Вы совсем не умеете выступать, товарищи. Вы только злите публику, мямля и бурча себе под нос стихи. Эстрада есть эстрада. Конечно, вы обладаете большими внутренними возможностями, но у вас нет практики выступлений. (Заметьте: возможности — одно из самых любимейших словечек Василия Каменского: оно очень часто фигурирует как в его стихах, так и в прозе.) Учитесь выступать, товарищи. Практика необходима. Всё, что я умею показывать на эстраде, далось мне не сразу. Я выступаю уже добрый десяток лет. Учитесь, учитесь, товарищи! Однажды в Тифлисе я выступал со стихами в цирке.
Да, в цирке. Я был верхом на лошади. То есть не верхом, а я стоял на седле, как настоящий циркач, и читал стихи. А лошадь при этом неслась по кругу цирка. И, представьте себе, к концу моего чтения лошадь мчалась галопом!
С каждой фразой Василий Каменский все больше и больше воодушевляется. Бледно-голубые глаза его, глаза зайца, горят. Он, по мере приближения к концу своей речи, постепенно становится в позу мчащегося на коне циркового наездника. Ноги его, наконец, стоят на воображаемом седле. Руки устремлены в пространство: это жест балансирующего наездника и жест разгорячённого оратора одновременно.
— Василий Васильевич, какие у вас тонкие, какие чудесные лирические стихи, — говорю я. — Вспомните, например, вот это стихотворение.
Я цитирую стихи из книги Василия Каменского «Звучаль веснянки».
— Стихи? Тонкие? Эти стихи — у меня? Не помню. Нет. У меня нет таких стихов. Вы ошибаетесь.
Голос Василия Каменского с самых верхних, возможных для него, теноровых регистров постепенно переходит на нижние басовые регистры. Глаза, глаза зайца, заволакивает туман. Вот — глаза потухли. Веки отяжелели. Веки готовы сомкнуться.
Я пристально всматриваюсь в лицо Василия Каменского и думаю: он прав, а я ошибаюсь самым решительным образом. Ведь если одно напоминание о тонких лирических стихах бросает его в сон, значит, он имеет полное право отказываться от них. Значит, он тысячу раз прав. Значит — „ядрёный лапоть” больше всего ему к лицу.
Союз поэтов систематически и неуклонно посещал Велимир Хлебников.
Это было года за два или за три до смерти поэта.
Целую зиму Хлебников почти каждый день в сумерки появлялся в СОПО.
Он проходил во второй зал СОПО и садился за миниатюрный столик, стоявший у окна.
Сидел один. Всегда один.
Ему подавали обед.
Он молча съедал его.
Денег не платил: получал бесплатный обед в числе десяти или пятнадцати неимущих поэтов, которым президиум ВСП регулярно выдавал обеды за счёт возглавляемой им организации.
Хлебников носил шубу.
Шапку.
Ни шубу, ни шапку он в СОПО почти никогда не снимал.
Шуба на Хлебникове была с чужого плеча. Овчинная. Тяжёлая. Крытая зеленовато-серой материей. Истёртая. Архаическая. Новой эта шуба была не позже конца, а может быть, и средины минувшего века.
Цвет лица Хлебникова в тон цвету его шубы: лицо бледно-серое, с зеленоватым оттенком.
Цвет волос — неопределённый.
Глаза — невидящие.
Казалось: он смотрит и не замечает ни одного из окружающих его предметов, смотрит и не замечает никого из окружающих его людей.
Несомненно: взгляд его направлен на очень отдалённые объекты наблюдения.
У Хлебникова беспримерная рассеянность, безумная рассеянность. Нет, это не рассеянность. Это нечто большее: равнодушие ко всему и ко всем.
Но это не равнодушие эгоиста, а невольное и неизбежное безразличие поэта и философа, который покончил в жизни со всем и со всеми, который всецело поглощён своими мечтами и мыслями.
Больше: это подлинный и полный уход человека из мира действительности в мир мысли и мечты.
Велимир Хлебников последнего периода своей жизни нисколько не был похож на его фотопортреты, по крайней мере, на те из них, которые я видел до настоящего времени.
На портретах, виденных мною, лицо Хлебникова имеет очень определённые, почти строгие формы и очертания. В действительности, в тот период времени, в который я его наблюдал, Хлебников был совсем другим человеком.
При взгляде на поэта трудно было определить его возраст. Казалось: ему очень много лет. Во всяком случае он выглядел так, что вы легко могли преувеличить его возраст по меньшей мере в два раза.
При виде Хлебникова чаще других его стихотворений приходило на память одно, в котором есть следующие строки:
Невольно хотелось внести одну поправку в этот стихотворный текст: вне времени жило лицо.
Впрочем, смертельно бледное лицо Хлебникова было настолько бесформенным и неопределённым по своим очертаниям, что условно можно было отнести к его лицу слова цитируемого стихотворения без всяких изменений:
Хлебников всегда молчал.
Многим из поэтов, видевших Хлебникова, было неизвестно, какой у него голос.
Отчётливей всего у меня в памяти: Хлебников в сумерках, Хлебников, как полумертвец, безмолвно сидящий за миниатюрным столиком в СОПО.
В первое время пребывания Хлебникова в СОПО кое-кто из поэтов с некоторым любопытством или любознательностью приглядывался к нему. Прошла неделя-другая, и все стали смотреть на поэта с явным безразличием. Никто не замечал его. Толпа поэтов, художников, музыкантов, актёров проходила мимо Хлебникова с полным равнодушием. Как будто это было пустое место.
Однажды президиум Союза поэтов устроил в кафе «Домино» выступление Велимира Хлебникова.
Помню: был ранний вечер, была написанная от руки афиша, была при входе в «Домино» продажа билетов.
Хлебников появился на эстраде в своей тяжёлой, защитного цвета шубе. Без шапки.
Он сидел на эстраде за столиком. Перед ним на столике — груда рукописей.
Глядя в заранее приготовленную для чтения рукопись, Хлебников открыл вечер поэзии.
Сначала он читал сравнительно громко: кое-что можно было расслышать, кое-какие стихотворные фразы можно было понять. Голос его становился все глуше и глуше, пока не перешёл, наконец, в тихий лепет и невнятное бормотанье.
Через несколько минут, прошедших с начала его выступления, поэт, по-видимому, совсем забыл о слушателях. Он перебирал свои рукописи, путался в них. Вскоре перед ним — беспорядочный ворох рукописей. Затем это уже и не ворох рукописей: это — хаос. Окончательно запутавшись в рукописях, поэт извлекал одну из них наугад и начинал читать. Не дочитав до конца, возвращал её в “родимый хаос”.
Слушателями Хлебникова в этот вечер были почти без исключения стихотворцы. И, несмотря на то что поэзия для подавляющего большинства слушателей была или должна была стать в дальнейшем “святым ремеслом”, они один за другим тихо, но решительно стали покидать зал.
Зал, наконец, опустел. Два-три человека, оставшиеся на своих местах, по-видимому, были ярыми поклонниками Хлебникова. Кроме почитателей поэта, один человек оставался в зале по обязанности: это дежурный член президиума Союза поэтов.
Через месяц или месяца два президиум Союза поэтов снова устроил вечер Велимира Хлебникова.
Второй вечер был таким же неудачным и безуспешным, как и первый.
С тех пор Хлебникова оставили в покое. О Хлебникове в президиуме Союза поэтов говорили только тогда, когда нужно было возобновить на декаду или на месяц выдачу ему бесплатных обедов или когда нужно было взять у поэта стихотворение для издания коллективного сборника стихов...
Кроме самих поэтов, читавших свои стихи, на эстраде «Домино» с декламацией часто выступали артисты.
Артисты декламировали наиболее видных из живых и умерших поэтов.
Артисты не только декламировали, они нередко имитировали поэтов или выступали с пародиями и дружескими шаржами.
Лучшим имитатором и шаржистом в «Домино» считался артист Камерного театра Александр Оленин. В первое время существования СОПО Оленин выступал с имитациями или шаржами почти ежевечерне.
Имитируя, Оленин без грима старался передать выражение лица того или иного поэта, мимику данного поэта, его характерные жесты и голос.
Маяковского Оленин изображал так: свой срывающийся полубас-полутенор артист переключал на металлический бас; руки в карманах брюк; взгляд из-под надвинутой на лоб кепки.
По Оленину, Маяковский является перед публикой в аудитории Политехнического музея на одном из больших вечеров поэзии. В программе добрый десяток футуристов, налицо один Маяковский.
Маяковский, приняв полагающуюся ему, по Оленину, позу, объясняется с публикой:
— Сегодня должен был здесь с вами разговаривать мой друг Борис Пастернак, но Пастернак разговаривать с вами здесь сегодня не будет. Борис Леонидович встретил сегодня Георгия Богдановича Якулова и вместе с ним отправился на дачу к Георгию Богдановичу.
Маяковский, видя, что публика развеселилась, слушая задушевные рассказы о приятном времяпрепровождении его друзей, с большим успехом продолжает повествовать о них с эстрады. При этом о каждом из отсутствующих он неизменно повторяет ту же схему фразы: „Сегодня должен был здесь...” Только каждый раз подставлялось имя выступающего, объявленное на афише, и имя того, кто был виновником умыкания.
Таким образом, Маяковский, по Оленину, ведёт программу в качестве докладчика и конферансье.
Продолжая программу, Маяковский, по Оленину, выступает, наконец, и как поэт: читает отрывок из поэмы «Война и мир». Начинает он поэму с самого начала, с пролога, и заканчивает чтение следующим образом:
Последняя строка подлинного пролога поэмы «Война и мир» следующая:
Слово день в последней строке приведённого отрывка подлинника заменялось словом лишь или опускалось. Объявление об антракте произносилось, не переводя дыхания. Таким путем отрывок получал трагикомический смысл.
Делались ли попытки со стороны руководителей Союза поэтов привлечь Маяковского к работе в указанном союзе?
Конечно. Такие попытки делались неоднократно, но они не приводили ни к каким положительным результатам.
В первое время существования Союза поэтов Маяковский не принимал никакого участия в жизни данной организации.
Причина безучастного отношения Маяковского к Союзу поэтов ясна: на первых порах своего существования Союз поэтов ограничивал свою деятельность исключительно выступлениями в кафе, а Маяковский к этому времени совершенно ликвидировал кафе футуристов, помещавшееся в Настасьинском переулке.
К описываемому времени Маяковский совершил окончательный и бесповоротный отход от богемной жизни каких бы то ни было поэтических или артистических кафе.
Союз поэтов уже несколько месяцев шумел своими выступлениями. Поэтический шум не только наполнял Москву, но переходил далеко за её пределы: во многих крупных городах Советской Республики появились отделения Союза поэтов. За все это время Маяковский ни разу не появлялся в СОПО.
В дальнейшем он изредка стал заходить в кафе поэтов. В качестве гостя. В качестве наблюдателя. В качестве изучающего своих соратников по перу. Он, будущий руководитель ЛЕФа, — ЛЕФа как литературной группы и «ЛЕФа» как журнала — естественно, должен был следить, куда направляется литературная жизнь Москвы, а Союз поэтов в той или иной мере был показателем направления московской литературной жизни.
Обыкновенно Маяковский приходил в СОПО один. Появлялся он в кафе поэтов часов в 8 или 9 вечера и уходил, пробыв там не больше двух или трёх часов.
Для «Домино» это время — ранний вечер. Программа в «Домино» фактически начиналась довольно поздно, хотя в афишах обозначался сравнительно ранний час её начала.
Только очень серьёзные выступления, носившие академический характер, осуществлялись в ранние вечерние часы. В такие часы делали литературные доклады проф. Коган, критик Абрамович или Львов-Рогаческий, читал переводы древнегреческих трагиков Вячеслав Иванов, излагал с эстрады свои мысли об искусстве Андрей Белый.
Поздним вечером, после 11 часов, а иногда только после полуночи, кафе поэтов начинало свою шумную ночную жизнь.
Тогда кафе поэтов наполняла особая публика: ночная.
Для этой публики нужна была особая программа. Никакая соль не казалась ей достаточно солёной, никакая эксцентричность достаточно эксцентричной. Публика ночного кафе морщилась, делая вид, что ей кажутся пресными отчаянные вывихи самой отчаянной экстравагантности. Часто случалось, что в кафе поэтов программа академического характера отсутствовала. В таком случае поэты и поэтессы, собравшись в кафе ранним вечером, оседали за столиками второго зала и вели дружеские беседы.
Среди собравшихся можно было увидеть не только представителей богемы, но и тех поэтов, которые вели семейный и весьма скромный образ жизни.
Эти скромные и тихие люди приходили в кафе «Домино», чтобы увидеть своих коллег и узнать, как они живут и работают: что пишут, что написали и что запланировали к написанию на ближайшее будущее.
Маяковский, появляясь в кафе поэтов, обычно проходил во второй зал. Садился за одним из миниатюрных столиков со стеклянным покрытием и слушал разговоры собратьев по перу. Тех нередко собиралось довольно большое количество: в те времена никого не удивило бы присутствие за столиками «Домино» доброй полусотни или сотни поэтов.
Обыкновенно Маяковский сидел в «Домино» среди поэтов за стаканом кофе, а иногда — за совершенно пустым столиком...
Помню, что в «Домино» в присутствии Маяковского нередко затевались литературные игры. Одной из излюбленных в то время литературных игр была игра в отгадывание стихотворных цитат.
Знатоки поэзии предлагали самые редкие, самые трудные для отгадывания цитаты из старых, новых и новейших поэтов. При этом трудность отгадывания усугублялась обычно современной распевной читкой: попробуйте отгадать — какой, например, пиит XVIII века написал вирши, если их преподнесут вам в распевной манере стихотворцев нашего времени!
Больше всего курьёзов было с цитатами из Пушкина. Самым дружным смехом оглашалась «Сопатка», когда обнаруживалось, что никто из присутствующих поэтов не узнавал Пушкина, продекламированного в манере современного распевного речитатива.
Маяковский, присутствуя на литературных играх в кафе «Домино», не цитировал и не отгадывал цитат. Он обыкновенно сидел молча.
Когда настроение поэтов подымалось на значительную высоту, он рассказывал что-нибудь забавное о своём прошлом: о своих московских выступлениях, о своих литературных поездках по городам Советской Республики, о своих литературных спутниках.
Однажды он рассказал, например, о своём совместном литературном путешествии с Игорем Северяниным.
Рассказ свой Маяковский закончил так: „И вот, когда мы доехали с ним до Харькова, то я тут только обнаружил, что Игорь Северянин глуп”.
В дальнейшем Маяковский неоднократно выступал с эстрады Всероссийского союза поэтов со своими произведениями. Помню: при выступлениях в Союзе поэтов он несколько раз читал отрывки из поэмы «150 000 000».
Как известно, поэма создавалась Маяковским в течение 1919–20 г. В этот период времени, по мере того, как поэма подвигалась вперёд, Маяковский знакомил с ней слушателей в СОПО. Почти всегда не меньше половины слушателей поэмы в СОПО составляли поэты.
Читая поэму «150 000 000», Маяковский, главным образом, подчёркивал её усложнённый ритм.
Стремясь облегчить восприятие слушателями того или иного ритмического хода поэмы, Маяковский, в такт произносимым словам, слегка пристукивал ногой, делал размеренные движения корпуса влево и вправо, сопровождая движение корпуса жестами рук. Больше всего мне запомнились у читающего Маяковского плавные движения рук. Читая поэму, он поводил руками, как дирижёр, перед которым играл оркестр, видимый только ему одному. Кстати. Если я заговорил о руках Маяковского, то здесь следует отметить, что он был левша. Во всём, что бы он ни делал, главенствовала левая рука. Было только одно исключение из общего правила, писал он правой рукой.
Маяковский декламировал поэму «150 000 000» с чрезвычайным воодушевлением. Такое воодушевление при чтении стихов было редким даже для него. Декламируя «150 000 000», он приходил в восторженное состояние: глаза ярко светились, тогда ещё молодое лицо его покрывалось лёгким румянцем.
С 1918 по 1920 год состав президиума Всероссийского союза поэтов несколько раз претерпевал весьма существенные изменения. Состав президиума ВСП за указанный промежуток времени неоднократно обновлялся почти полностью.
Бессменными оставались только те члены президиума ВСП, которые были незаменимыми как технические работники, люди, ведущие чрезвычайно трудное в те времена издательское дело, и люди, родившиеся делопроизводителями. Во всю свою жизнь я не видел таких трудолюбивых делопроизводителей, какие были в СОПО: они с большим вдохновением и безукоризненной аккуратностью исполняли свои обязанности, не получая за это ничего или получая гроши.
Беспорядки и неурядицы в ВСП росли с каждым днём, и к 1920 году, наконец, достигли таких размеров, что на одном из общих собраний решено было “призвать варягов”.
Впрочем, множественное число, употребленное мною, в данном случае ни к чему: решено было призвать одного крупного варяга: выбор пал на Валерия Яковлевича Брюсова.
Общим собранием Союза поэтов было послано к Валерию Брюсову пять делегатов, в числе которых находился и я.
Делегаты ВСП отправились к Валерию Яковлевичу на 1-ю Мещанскую улицу, дом № 30.
Пригласили.
Через день или два Брюсов явился в СОПО и начал председательствовать.
С Брюсовым произошла в это время метаморфоза, подобная метаморфозе, произошедшей с гётевским Фаустом. Среди молодых поэтов и поэтесс Брюсов ожил и помолодел. Брюсов сбросил с себя бремя лет, равнявшееся по меньшей мере половине его возраста. Брюсов превратился в юношу.
Он проводил бессонные ночи в СОПО. Он совершал, сопровождаемый ватагой молодых поэтов, ночные прогулки по улицам Москвы. Ватага молодых поэтов, состоявшая из 20 или 30 человек, вместе с Брюсовым окружала иногда памятник Пушкину: кто садился, кто ложился возле пьедестала великого поэта. До утренней зари поэты разговаривали об искусстве и читали стихи возле монумента Пушкина.
Нередко Валерий Брюсов давал активу Союза поэтов ту или иную тему стихотворения. Для выполнения задания назначался определённый, обычно весьма короткий, срок. Брюсов писал стихи на ту же тему, и к тому же сроку, и сам.
Однажды Брюсов дал для стихотворения тему — кафе СОПО.
К определённому сроку написал стихотворение на заданную тему только Брюсов.
В этом стихотворении Брюсов рисует себя как корифея, как пастыря поэтов и как пастыря всех тех, кого приводят в кафе музы.
Музы приводили тогда стихотворцев и их поклонников не только в СОПО. Выступлениям поэтов не было конца и во многих других пунктах литературной Москвы. Назовём только самые прославленные: «Стойло Пегаса», «Красный петух» (Кузнецкий мост, 13), Политехнический музей, «Литературный особняк». Выступлениям поэтов не было конца.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 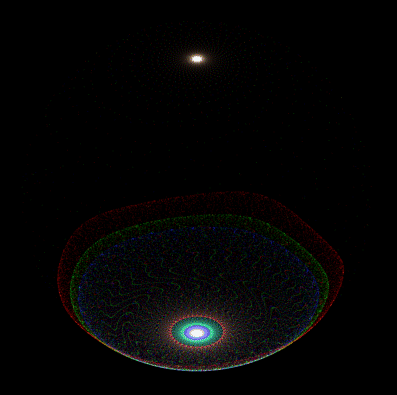 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||