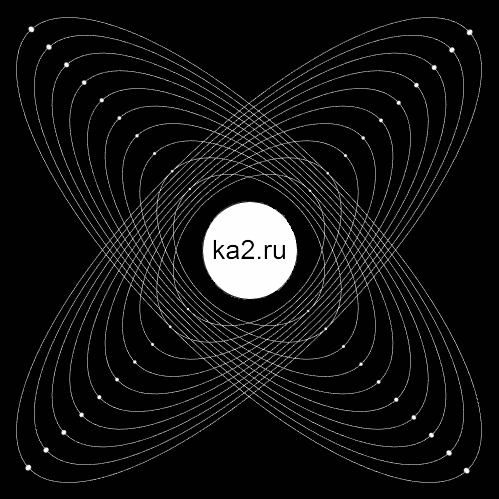Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Продолжение. Предыдущая глава: 
Часть вторая
Хлебников и поэзия
Ὁ δὲ τοῦ σχήματος τῆς λέξεως
άριθμòς ῥυθμός ἐστιν ...
Аристотель. Риторика
Введение
Поэзия Хлебникова как система
Общие положения
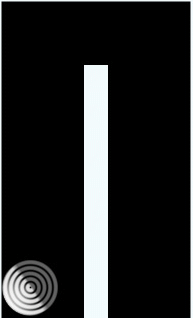
риступая к изучению творческого наследия В. Хлебникова, следует первым делом усвоить его воззрения на язык и на время — основополагающие “оси координат” любой, кстати говоря, поэтической системы. Кроме того, в их “плоскости” удобно классифицировать принципы изложения формообразующих тем, которые структурируют конкретную систему. Предварительные намётки такого рода позволили строго придерживаться тематики нашего проекта, допуская при этом условность, относительность и открытость подхода к нему. Сколь угодно частые отвлечения на ту или иную тему, второстепенную относительно основных направлений “язык/темпоральность”, никоим образом не исчерпывают
поэзии В. Хлебникова. Но сейчас, наконец, речь пойдёт о ней самой. Заметим, что в целом наш проект довлеет себе ровно настолько, насколько не выходит за свои рамки: он представляет собой, в общем-то, лишь введение в собственно поэзию В. Хлебникова. Хлебников
и поэзия: вот та основная, первичная взаимосвязь, рассмотрение которой мы отложили ради косвенной оценки её важности. Надеюсь, вводные главы были в этом смысле полезны, хотя о поэзии в строгом смысле там ровным счётом ничего не сказано. Творчество В. Хлебникова — во всей его совокупности — имеет немало общего с “современной поэзией” — назовём её так во избежание двусмысленного выражения “поэзия авангарда”,
1
ставшего ныне притчей во языцех. Уточним, однако, что прилагательное ‘современная’, несмотря на кажущуюся менее значительной смысловую нагрузку, не предполагает принятия чьей-либо стороны в возможном споре между “архаикой” и “современностью”. Поэзия едина, сколь угодно древняя и творимая в наши дни. Вот признаки, объективно определяющие современность поэзии В. Хлебникова.
Система
Прежде всего, поэтическое произведение принадлежит к системе,
2
включающей в себя — и тем самым оправдывающей — упомянутые выше “оси координат”. Эта система предполагает совершение автором двойной работы, поэтической и теоретической; раздельный анализ этих подразделений системы есть скорее педагогический и экзегетический метод, нежели стремление дознаться сути дела. Впрочем, раскрытие сущности системы, понимание функционирования её — цель чисто идеальная, поскольку в таком случае нам следовало бы показать одновременность и взаимовлияние поэтического творчества и теоретизирования в обоюдном развитии: рассуждение преобразует поэзию, а поэзия, в свою очередь, изменяет рассуждение. Взаимное превращение теоретической мысли в поэзию, а поэзии в научный трактат, разумеется, составляет важное дополнение к введению в поэзию В. Хлебникова. Однако эта сдвоенная формулировка никоим образом не означает, что теория представляет собой сухое рассуждение о поэзии (в таком случае мы получили бы теорию поэтического искусства, то есть “поэтику” в классическом смысле слова) или, наоборот, — поэзия оказывается служанкой теории: в этом случае поэзия впала бы в дидактику, истолковывая некий теоретический посыл (философский, например, как в «De natura rerum» Лукреция).
3
Определяющее свойство системы — движение взаимного обмена обоих её аспектов. Следует объективно рассмотреть
функционирование поэтической и лингвистической рефлексии у В. Хлебникова не просто как важное дополнение, а как глубинный смысл его поэтической системы. Статус взаимосвязи поэзии и теории — вот каким вопросом в этой связи необходимо задаться первым делом. Поэзия и теория — это „два разных семантических уровня”
4
идеального единства, где поэтическое деяние, “творение” упразднено движением интеллекта (созерцанием и рассуждением, лежащими в основе как поэтической, так и научной деятельности) к воображаемой точке, обозначенной В. Хлебниковым, поэтом и философом, поэтом-философом, математиком и хронометристом (или геометром), чьи амбиции заключались во всеохватном осознании воображаемого пространства-времени, где поэзия состоит в бессловесном воспроизводстве математических сущностей, порождающих единое “видение” числовых идей мира как мира поэзии:
Трата и труд и трение,
Теките из озера три!
Дело и дар — из озера два!
Трава мешает ходить ногам,
Отрава гасит душу и стынет кровь.
Тупому ножу трудно резать.
Тупик это путь с отрицательным множителем.
Любо идти по дороге весёлому
Трудно и тяжко тропою тащиться.
Туша, лишённая духа
Труп неподвижный лишённый движения,
Труна — домовина для мёртвых,
Где нельзя шевельнуться,
Все вы течёте из тройки,
А дело, добро — из озера два.
Дева и дух крылами шумите оттуда же.
Два — движет, трётся три
„Трави ужи” кричат на Волге
Задерживая кошку.5
Вот почему так важно разобраться в этом двойственном подходе, основополагающем в системе В. Хлебникова, которая предустанавливает стирание различий между художественным творчеством и научными изысканиями, где стихи и теоретические трактаты “сливаются” в дерзновенном единстве.
Это предприятие воистину современно в том смысле, что в порождаемом им произведении до неразличимости переплетены два дискурса: собственно художественный (поэтический) и дискурс о дискурсе (метаязык). Взаимодействие двух порядков языка (точнее было бы сказать: того, что нам кажется различными порядками) вызывает своего рода осмос: теоретический метаязык становится поэтическим, поэтический дискурс превращается в научный. Теория здесь жизненно важна, потому что искусство возникает в лингвистическом мысленном эксперименте; искусство имеет аподиктическую ценность, ибо наука раскрывает себя и как опыт художественного вымысла. Слегка упрощая, можно сказать, что теория (научный, критический метаязык) становится актуальной в то самое время, когда искусство обнаруживает себя как существенный способ мышления. Эта отличительная черта современности, безусловно, справедлива для всего художественного поля. Н. Харджиев настаивает на этом, говоря о живописи:
Самой характерной чертой в формировании новых художественных течений, начиная с постимпрессионизма, является необычайно повышенный интерес художников к теоретическим и профессионально-техническим проблемам, выразившийся в том, что почти все крупные представители этих группировок одновременно выступали и как теоретики, писавшие по вопросам искусства.
6
Специфика поэтического высказывания заключается в том, что художественный дискурс включает в себя собственный метадискурсивный комментарий,7 тогда как в других художественных “специальностях” этого по понятным причинам быть не может. Так, весьма показательны признания В. Хлебникова в кратком обзоре своего творчества «Свояси»:
тогда как в других художественных “специальностях” этого по понятным причинам быть не может. Так, весьма показательны признания В. Хлебникова в кратком обзоре своего творчества «Свояси»:
В «Госпоже Ленин» хотел найти “бесконечно-малые” художественного слова.
В «Детях Выдры» скрыта разнообразная работа над величинами — игра количеств за сумраком качеств.
«Девий бог», как не имеющий ни одной поправки, возникший случайно и внезапно как волна, выстрел творчества, может служить для изучения безумной мысли.
Так же внезапно написан «Чортик», походя на быстрый пожар пластов молчания. Желание “умно” — а не заумно, понять слово привело к гибели художественного отношения к слову. Привожу это как предостережение.8
Поэтическая композиция подразумевает присущий только ей приём пояснения. В данном случае не имеет значения, что этот приём обнаруживается апостериори; он уже действовал в произведении.
Признаками современности обладает всё творчество В. Хлебникова, и прежде всего в свойственном ему созидательном целеполагании: поэт (‘производитель’, если восстановить технический оттенок греческого ποιητής ) делается философом и теоретиком τέχνη искусства, весьма важной в обществе и — берём выше — в мироустройстве. В статье «О стихах» читаем:
Творчество, понимаемое как наибольшее отклонение струны мысли от жизненной оси творящего и бегство от себя, заставляет думать, что и песни станка будут созданы не тем, кто стоит у станка, но тем, кто стоит вне стен завода. Напротив, убегая от станка, отклоняя струну своего духа на наибольшую длину, певец, связанный со станком по роду труда, или уйдёт в мир научных образов, странных научных видений, в будущее земного шара, как Гастев, или в мир общечеловеческих ценностей, как Александровский, утончённой жизни сердца.9
Современный художник лишает философа, прежде единственного компетентного судью в основах искусства, права подвергать сомнению его, художника, правоту. Прекрасный пример отставки, даваемой поэтом философу непринуждённым и в то же время юмористическим образом, — высказывание Э.А. По, одного из предтеч современной поэзии, благодаря многочисленным и проницательным размышлениям о собственном творчестве:
„Что такое поэзия?” Несмотря на провальную попытку Ли Ханта ответить на этот вопрос, таковой — при большом желании и предварительном согласовании точного значения ряда ключевых слов, — вероятно, поддаётся решению и даже отчасти удовлетворит горстку аналитических умов, но, при нынешнем состоянии метафизики, никогда не убедит большинства; ибо вопрос этот чисто метафизический, а вся наука метафизика в настоящее время представляет собой неразбериху из-за отсутствия общепринятого и точного значения слов, которыми сама природа этой науки вынуждает изъясняться. Но что касается стихосложения, это ещё полбеды: если тему хотя бы на треть сочтут метафизической и, таким образом, возможной быть обсуждаемой по чьей-либо прихоти, остальные две трети наверняка принадлежат математике.
10
Отказ от “метафизики” и ограничение разговора о поэзии вопросами “техники” (приёмов) означает не огульное отрицание метафизики, а отказ поэта подчинить своё искусство метафизической системе, во многих случаях ему чуждой. По-видимому, начатая «Поэтикой» Аристотеля
11
традиция “присваивания” философом поэтов, отбираемых им по неизменно внепоэтическим критериям, живёт своей жизнью, несмотря на восстание современных поэтов против практики теоретического отчуждения: мы видим её процветающей в “обработке”, которую Хайдеггер применяет к поэзии Гёльдерлина, превращённого этой интеллектуальной манипуляцией в “заблаговременного” последователя хайдеггерианства.
12
Однако если поэт отвергает чуждую ему систему мышления, он часто развивает — и развивает свободно — действительно отвечающую его поэтическому искусству “метафизику” (Э.А. По,
13
Бодлер, Малларме, Вячеслав Иванов, А. Белый и сам В. Хлебников!). Отныне теория искусства уже дело не “экспертов” мысли, внешних по отношению к искусству, а “созидателей” самих произведений, причём произведение и действие понимаются непосредственно: как работа. Поэзия обретает достоинство, равное достоинству теории, обе они сливаются в общую систему мышления, которая охватывает их вкупе и не имеет конкретного названия, кроме довольно неточного “поэтическая система”. Название это, честно говоря, не лишено двусмысленности. Но такой термин, как “теоретико-поэтическая система”, возможно, более точный по своей форме, неверно отражал бы глубоко унитарный, синтетический аспект глобальной системы, охватывающий в равной степени практику (поэтическое “творчество”) и теорию (лингвистические, философские рассуждения и т.п.). В частном случае “системы Хлебникова” (здесь собственное имя обозначает форму систематического мышления, которую поэт Хлебников разделяет со всеми художниками своего времени и большинством художников XIX века), в данном конкретном случае было бы, без сомнения, достаточно, чтобы говорить о “панэпистемической системе” или “системе универсального знания”, которая вполне способна раскрыть гностический аспект хлебниковских исканий. Но это был бы термин слишком узкого охвата, недостаточный для характеристики всего художественного мира начала XX века. Поэтому мы будем далее придерживаться — в том смысле, который выше уточнили — термина “поэтическая система”. Поэзия, по сути, так же, как математика и философия, является актом миростроительства. Обобщая, можно сказать, что искусство, подобно философии и науке, созидает мир, устраивает, “населяет” его. Сравним деятельность таких художников, как Д. Бурлюк,
14
К. Малевич,
15
В. Кандинский,
16
композиторов Стравинского или Матюшина
17
— несколько имён среди множества других, — и мы увидим общность этой фундаментальной установки современного художника по отношению к миру: создавая его, он его измышляет. Внутри сферы художественного границы между различными навыками размыты: поэт — художник, музыкант; художник — поэт, архитектор и т.д. Художник — в полном смысле этого слова “политехник”. Искусство как совокупность процессов, направленных на изготовление “объекта” (правомерность таких терминов мы обсудим позже), представляет собой часть — весьма значительную, но только часть — архитектурной систематики глобальной деятельности познания мира.
Homo faber не забывает, что он по сути
homo sapiens.
Итак, “мудрая” позиция, которую Хлебников разделяет с другими поэтами своего поколения — будь то “символисты”, “акмеисты” или “футуристы”, — а также со всеми художниками, пролагавшими новые пути искусства, есть знак современности, выходящей далеко за пределы рубежа XIX–XX вв., ибо таковая унаследована через поэтов, называемых символистами (они тоже — и, несомненно, в большей степени, чем их преемники — великие “теоретики”),18 от зачинателей современной поэзии Бодлера, Верлена, Рембо и Малларме. Эти отцы-основатели выступают в различных ипостасях — скорее как знаки, “имена собственные” того направления, которое утвердилось с середины XIX века и нашло наиболее полное развитие в России, особенно в “русском символизме” и постсимволистских художественных течениях (различные “футуризмы” и “акмеизм”). Бодлер в своей литературной и художественной критике (особенно в «Эстетических курьёзах и романтическом искусстве») развивает то, что он нашёл, среди прочего, у Э.А. По: роль рационального и ноу-хау в поэтическом построении. С другой стороны, «Искусственный рай» раскрывает особенности “современной души”, певцом и “провидцем” которой Рембо называет себя в двух знаменитых письмах, поясняющих его поэтическое искусство (письмо к Ж. Изамбару и, особенно, письмо к П. Демени от 15 мая 1871 г.)19
от зачинателей современной поэзии Бодлера, Верлена, Рембо и Малларме. Эти отцы-основатели выступают в различных ипостасях — скорее как знаки, “имена собственные” того направления, которое утвердилось с середины XIX века и нашло наиболее полное развитие в России, особенно в “русском символизме” и постсимволистских художественных течениях (различные “футуризмы” и “акмеизм”). Бодлер в своей литературной и художественной критике (особенно в «Эстетических курьёзах и романтическом искусстве») развивает то, что он нашёл, среди прочего, у Э.А. По: роль рационального и ноу-хау в поэтическом построении. С другой стороны, «Искусственный рай» раскрывает особенности “современной души”, певцом и “провидцем” которой Рембо называет себя в двух знаменитых письмах, поясняющих его поэтическое искусство (письмо к Ж. Изамбару и, особенно, письмо к П. Демени от 15 мая 1871 г.)19 Хотя последнее и не фиксирует какие-либо поэтические приёмы Рембо, и тон, и те убеждения, которые здесь раскрыты, удивительно близки тону некоторых заявлений (тоже эпистолярных) Хлебникова о грядущей победе науки, движению по пути прогресса (великая научная иллюзия позитивистского XIX века), вере в будущее человечества, исследующего Вселенную и распространяющего свою власть над ней благодаря Науке и Технике... „Будущее будет материалистическим” — это Хлебниковская формула avant la lettre. С другой стороны, символистское понимание поэта как пророка свойственно “футуристам” всех мастей, особенно “гилейцам” (“кубофутуристам”) Маяковскому и Хлебникову (однако у них пророческая функция поэта подкреплена небывалыми поэтическими приёмами):
Хотя последнее и не фиксирует какие-либо поэтические приёмы Рембо, и тон, и те убеждения, которые здесь раскрыты, удивительно близки тону некоторых заявлений (тоже эпистолярных) Хлебникова о грядущей победе науки, движению по пути прогресса (великая научная иллюзия позитивистского XIX века), вере в будущее человечества, исследующего Вселенную и распространяющего свою власть над ней благодаря Науке и Технике... „Будущее будет материалистическим” — это Хлебниковская формула avant la lettre. С другой стороны, символистское понимание поэта как пророка свойственно “футуристам” всех мастей, особенно “гилейцам” (“кубофутуристам”) Маяковскому и Хлебникову (однако у них пророческая функция поэта подкреплена небывалыми поэтическими приёмами):
Двигаясь в направлении, поперечном времени, мы легко видим горы будущего.
Это движение, столь знакомое уму пророка, есть постройка высоты по отношению к ширине времени, т.е. создание добавочного размера. ‹...›
Так ли художник должен стоять на запятках у науки, быта, события, а где ему место для предвидения, для пророчества, предволи?20
Что касается Малларме, то нет нужды повторять, насколько его острое осознание неудачи, заложенной в самом начале поэтического жеста, предвосхищает “кризис стиха” у Хлебникова и лежит в самой сердцевине коренного противоречия его поэтической системы. В «Кризисе стиха» Малларме пишет:
Языки несовершенны в том смысле, что во многих из них отсутствует высшее: мышление — это письмо без подробностей, даже шёпотом, которое всё же таит молчаливое бессмертное слово; разнообразие идиом на земле никому не позволяет произносить слова, которые в противном случае были бы найдены одним ударом, который сам по себе является истиной.
21
Сразу вспоминается хлебниковская
осада языков22
и его искушение сломать (или преодолеть) барьер прямым, транслингвистическим постижением числительных сущностей. Более того, Хлебников не отрицает этого наследия “символистской” мысли; напротив, он полностью принимает и углубляет его, чтобы открыть “научную” (арифмологическую) истину, которая долгое время была сокрыта в нём, но так и не была расшифрована:
Ещё Маллармэ и Бодлер говорили о звуковых соответствиях слов и глазах слуховых видений и звуков, у которых есть словарь.
В статье «Учитель и ученик» семь лет я и дал кое какое понимание этих соответствий.23
Генеалогия, как мы видим, весьма престижна и убедительно свидетельствует о факте, который критика склонна замалчивать: общность предков,
24
признанная или нет, разделяемая группами или литературными движениями, враждебными друг другу и весьма разными в своих заявленных целях, раскрывает общность наблюдений, исследований, приёмов мышления. Не сговариваясь, все они видят критерий современности в том, что для них принципиально важно: в глубокой взаимосвязи различных видов деятельности мыслящего человека.
Итак, поэзия, математика, “хронометрия”, лингвистика оказываются для Хлебникова основными руководящими темами глобальной междисциплинарной системы, формулирующей, организующей и располагающей их в особой конфигурации, свойственной современности. Это не выбор тем, а скорее сама поэзия как “производственная деятельность”, которая формально выступает темой или дисциплиной познавательной деятельности человека.
Конструкция системы
Эта система — не наблюдаемая извне данность, а тщательно и последовательно разрабатываемая конструкция. Следовательно, она не завершена как “объект”, который могла бы анализировать критика, а может быть понята только в её постепенном развитии. Хлебниковская система скорее вписалась бы в совокупность принципов, определяющих развитие его поэзии, в систематическое единство силовых линий, позволяющих говорить об однородности, непрерывности, единстве в поэтическом произведении. Как следствие обязательной темпоральности этой системы возникает проблема её происхождения и формирования. Как, в самом деле, найти систему, которая полагает в качестве своей основы разрыв со всем и вся? Напомним в этой связи о решительном отказе поэта сводить “футуристское” предприятие к подражанию поэзии Уитмена и о чрезвычайно резком тоне спора между Хлебниковым и сторонником этого воззрения К. Чуковским. Вот образчик негодования Хлебникова относительно приписываемого Чуковским подобия поэзии русского “кубофутуризма” творчеству У. Уитмена, „певца демократии”:
(Полемические заметки 1913 года)
I
Вы, волны грязи и порока и буря мерзости душевной! Вы, Чуковск‹ие›
, Яблонов&lsaquoие›
! Знайте, у нас есть звёзды, есть и рука кормчего, и нашей ладье не страшны ваша осада и приступ.
Словесный пират Чуковский с топором Уитмана вскочил на испытавшую бурю ладью, чтоб завладеть местом кормчего и сокровищами бега.
Но разве не видите уже его трупа, плавающего в волнах?
Пристав Чуковский вчера предложил нам отдохнуть, соснуть в участке Уитмана и какой-то кратии. Но гордые кони Пржевальского, презрительно фыркнув, отказались. Узда скифа, кою вы можете видеть на Чертомлыцкой вазе, осталась висеть в воздухе.25
Действительно, сделай К. Чуковский Уитмена первым поэтом-футуристом, “кубофутуристы”, включая Хлебникова, оказались бы эпигонами великого американского поэта
26
— положение, безусловно, невыносимое для несгибаемых националистов, какими были “кубофутуристы”, зачинатели эры неслыханной новизны! Тем не менее, необходимо смягчить кажущуюся радикальность подхода Хлебникова и вписать его фундаментальный проект в более широкую перспективу европейского модернизма, а размышления поэта-ученого — в рамки того, что условно называется “русским футуризмом”.
27
Только на фоне русского поэтического модернизма первых десятилетий ХХ века и проявляется относительное своеобразие “хлебниковской системы”.
Системные противоречия
Развёртывание подобной системы во времени естественным образом требует сохранения противоречий в ней как отличительных признаков её генезиса, борьбы противоборствующих тенденций и неполного разрешения антиномий, присущих любому живому организму.
Во-первых, трагического разлада поэзии с теорией никто не отменял. Эти два полюса системы уже упоминались как движущая сила последней, но они одновременно очерчивают её границы и предвещают её неизбежный крах. Эти два способа исследования мира отнюдь не идут рука об руку: в жертву системе приносится поэтическая дисциплина, и таковая была бы уничтожена полностью, достигни она целостности.28 Какова бы ни была степень подрыва поэтической дисциплины, противоречие между непреложными законами воображения и научным подчинением действительности наносит поэзии ущерб. В лучшем случае, поэзию воспринимают как нечто бесполезное и ложное, памятуя проверенное веками высказыванием о том, что прекрасное не может быть истинным. В самой поэтической практике, кроме того, имеется дополнительное противоречие между безоглядным новаторством, отчасти губительным для неё, но всегда настойчивым и обстоятельным, и поэтической продукцией более традиционного вида.
Какова бы ни была степень подрыва поэтической дисциплины, противоречие между непреложными законами воображения и научным подчинением действительности наносит поэзии ущерб. В лучшем случае, поэзию воспринимают как нечто бесполезное и ложное, памятуя проверенное веками высказыванием о том, что прекрасное не может быть истинным. В самой поэтической практике, кроме того, имеется дополнительное противоречие между безоглядным новаторством, отчасти губительным для неё, но всегда настойчивым и обстоятельным, и поэтической продукцией более традиционного вида.
Наконец, при анализе поэтического творчества Хлебникова мы сталкиваемся с противоречием темпераментов: с одной стороны, безоговорочная вменяемость глобального проекта, утверждение исконных прав разума, управляющего мыслью и речью с ясностью архитектурного классицизма, с другой — иррациональность, неконтролируемое бунтарство, смутность “романтического” или “футуристского” дискурса в вульгарном смысле этого слова и алогизм мысли, служанки чувства. Именно это противоречие между разумом и “утопией” чувства создаёт в системе диссонанс, характерный для современной тональности. В сущности, это противоречие закономерно, поскольку поэт находится в плену своего “инструмента”, языка, природа которого двойственна, и двойственности поэтического воздействия, одновременно умопостигаемого и чувственного. „Противопоставление двух крайностей, чувственного и интеллектуального, — пишет Э. Кассирер,29 — не учитывает специфическую ценность языка, ибо тот во всех своих проявлениях и на каждой стадии своего развития оказывается формой выражения и чувственного, и интеллектуального”. Итак, ни в какой другой “системе”, кроме пения (если уместно говорить о систематизации пения), противоречие между двумя аспектами языка, умопостигаемым и чувственным, не может быть разрешено. Именно в этой срединной форме, на границе чувственного и умопостигаемого, происходит примирение языка с самим собой. Но это уже чревато проблемой происхождения языка и точной природы отношений между примитивной поэзией и пением. Этот вопрос, очевидно, выходит за рамки рассмотрения хлебниковской поэтической системы и касается философии языка.30
— не учитывает специфическую ценность языка, ибо тот во всех своих проявлениях и на каждой стадии своего развития оказывается формой выражения и чувственного, и интеллектуального”. Итак, ни в какой другой “системе”, кроме пения (если уместно говорить о систематизации пения), противоречие между двумя аспектами языка, умопостигаемым и чувственным, не может быть разрешено. Именно в этой срединной форме, на границе чувственного и умопостигаемого, происходит примирение языка с самим собой. Но это уже чревато проблемой происхождения языка и точной природы отношений между примитивной поэзией и пением. Этот вопрос, очевидно, выходит за рамки рассмотрения хлебниковской поэтической системы и касается философии языка.30
Однако главным противоречием хлебниковской системы является поединок поэзии с онтологией, причем каждая из этих двух дисциплин претендует на первенство во внутренней экономике системы. Поэзия Хлебникова неотделима от онтологии, ибо основана на ней: Хлебников, по сути, не только ставит под сомнение время, стремясь обнаружить его конечные законы, но и пытается иерархически расположить художественный язык и языки естественные на шкале дискурсов, посредством которой человек может придумать и создать свой собственный мир; как отмечено выше, первое место в этой иерархии занимает математика. Изначально нацеленная на смысл, поэзия Хлебникова терпит двоякий провал: с одной стороны, провал смысла, принявшего поэтическую форму, с другой — провал поэзии с претензиями на смысл. Антиномия кажется непреодолимой: ремесленный жест, который “создаёт поэтический объект”, несовместим с теоретической установкой, спекулятивным жестом, который как раз и ставит под сомнение саму возможность “поэтического объекта”. Решение состоит в отказе от поэзии или, что то же самое, к сведению её к игровой, вспомогательной, “подсобной” деятельности. Это утверждение, однако, следует незамедлительно дополнить двусмысленными высказываниями Хлебникова о статусе “художественного слова” после фундаментальных открытий законов времени, истории и языков:
11) Разрушать языки осадой их тайны. Слово остаётся не для житейского обихода, а для слова.31
Слово остается за словом, очищенным от груза языкового “истеблишмента”:
Языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал.32
Слову должна быть возвращена его изначальная функция — объединение людей в эстетическом общении, основанном на разуме.
33
Но даже в этом случае “работа”, деятельность по изобретению
самовитых слов (к этой основополагающей формуле хлебниковского “футуризма” мы вернемся позже) остаётся неопровержимым свидетельством невозможности достижения тех сущностей, к которым стремится “мудрец”.
Другая апория хлебниковской системы, находящаяся в той же зоне противостояния выработки и вымысла: если вся мысль Хлебникова сводится к поискам высшего единства, неограниченной и невыразимой всеобщности мира, то его творческое действие в языке создаёт свои “объекты” путём наложения контуров, ограничительных правил: поэзия, которая была бы производством “объектов” путём наложения форм, путём отсечения,34 таким образом, с самого начала противоположна спекулятивной научной цели, полностью сосредоточенной на изначальном единстве. Кручёных в своей теоретической статье «Новые пути слова»35
таким образом, с самого начала противоположна спекулятивной научной цели, полностью сосредоточенной на изначальном единстве. Кручёных в своей теоретической статье «Новые пути слова»35 называет это явление счастливым и весьма выразительным неологизмом „гранесловие” (заметим попутно, что здесь Кручёных отождествляет его с мыслью и суждением разума). Однако любая форма поэтического выражения — именно потому, что оно является выражением — всегда “говорит” больше или меньше, чем замыслил автор, и поэтому представляет собой ограничение (своим избытком или недостачей) того потенциального небытия, которое поэт пытается сделать доступным бытию, реализуя его через поименование. Мы вернёмся к этой проблеме, исследуя в поэтике “футуризма” не маргинальный, как часто думают, феномен трансментального языка (заумь).36
называет это явление счастливым и весьма выразительным неологизмом „гранесловие” (заметим попутно, что здесь Кручёных отождествляет его с мыслью и суждением разума). Однако любая форма поэтического выражения — именно потому, что оно является выражением — всегда “говорит” больше или меньше, чем замыслил автор, и поэтому представляет собой ограничение (своим избытком или недостачей) того потенциального небытия, которое поэт пытается сделать доступным бытию, реализуя его через поименование. Мы вернёмся к этой проблеме, исследуя в поэтике “футуризма” не маргинальный, как часто думают, феномен трансментального языка (заумь).36 Таким образом, поэзия, неспособная достичь того, к чему стремится, остается знаком непоправимого разделения бытия и языка, разделения, определяющего состояние поэта.
Таким образом, поэзия, неспособная достичь того, к чему стремится, остается знаком непоправимого разделения бытия и языка, разделения, определяющего состояние поэта.
Форма и природа системы
С этого момента поэтическая речь может казаться лишь фрагментарной, разрозненной, рассеянной; она функционирует как память, путём неупорядоченного отбора обрывков, воспоминаний о былой целостности. Эвакуируя время, пространство, историю и смысл, поэзия Хлебникова движется в пустоте памяти о будущем, в предвосхищении прошлого, поскольку время уже не ориентировано в раз и навсегда заданном направлении, а многовекторно, как и “место”, где разуму позволено двигаться во всех направлениях. Поэзия, таким образом, внеисторична, ахронична, само глагольное время уже не служит точкой отсчёта, ибо поэтическая деятельность уже не может быть отнесена
ни ко времени,
ни к месту, более
не исходя от субъекта, находящегося где-то в пространстве и времени. Таким образом, в поэзии Хлебникова мы находим разорванную, фрагментарную структуру, и это не итог неудачного стечения обстоятельств: мнимой небрежности автора или его безответственных издателей,
37
или якобы врождённой неспособности Хлебникова “отделать”, завершить что-либо. Скорее наоборот: его поэзия по необходимости не имеет ни реального начала,
38
ни завершения (или завершаемого). Цветан Тодоров совершенно прав, когда подчёркивает, что “фрагментарность” произведения есть лишь следствие предрассудка относительно сакральности единства предмета:
Фетишизм книги определённо дожил до наших дней: произведение превращается одновременно и в драгоценный неподвижный объект, и в символ полноты, а отсечение становится эквивалентом кастрации. Насколько свободнее была позиция Хлебникова, слагавшего стихи из отрывков прежних стихотворений или призывавшего редакторов и даже наборщиков править его текст! Только отождествление книги с предметом объясняет ужас перед изъятиями.
39 
Разумеется, позиция Хлебникова отмечена свободой; но это и признак воистину современного отношения автора к его произведению: оно мыслится не как “вещь”, а как “процесс”. Поэтому текст никогда, по существу, не закончен, и эта бесконечность вырывает его из состояния “повторяемости” вещи, неколебимо застывшей и неизменной. Поэтический дискурс, который признаёт себя незавершённым, полагает это не дурной бесконечностью, а сутью творчества: опыт произведения всегда нов, он в движении, творец структурирует — или программирует — его дление, измышляя таковое без “объекта”. Это усиливает осознание временности произведения в то самое время, когда изменение разряжается как принцип инаковости, поскольку оно запланировано, включено в процесс, который называется “работа”. Последняя, таким образом, оказывается структурно незавершенной: отсюда и свобода переписывания, переработки, расположения частей в новых сочетаниях, которые с каждым изменением придают части, используемой в качестве сырья, новую ценность. Таким образом, система, будучи открытой в темпоральном отношении, работает в замкнутом контуре, повторно используя один и тот же материал по всегда разным законам. Хлебников постоянно пишет одно и то же стихотворение о языке-произведении, о русской поэтической культуре (от «Слова о полку Игореве» до современности), его творчество — бесконечный диалог с огромным коллективным собеседником: поэтической традицией. Фрагментарность, даже разрозненность и беспорядочность его произведений — обязательная форма поэзии, которая мыслима лишь в перспективе взорванного синтетического (идеального) единства. Поэт чувствует себя слишком стеснённым национальной традицией, узаконенной формой; он хочет
расширить пределы русской словесности,
40
быть везде, во все времена (или вне места, вне времени). Его ненасытность пространством и временем, его стремление к вездесущности настолько неодолимы, что разрушают принятые правила стихосложения, размывают священные границы жанров и видов поэтической речи. Эта разбросанность форм имеет своим аналогом тщательно продуманную технику, весьма насыщенную приёмами композиционного соединения разнородных частей. Наиболее яркие примеры сложного монтажа — две монументальные композиции «Дети Выдры» и «Зангези».
41
Структура этих
сверхповестей обнаруживает своеобразное панхроническое (или ахроническое) миропостроение, точно так же, как эта самая конструкция предопределяет “незавершённость” большинства произведений поэта: мы имеем дело со структурными процессами особого рода. Ю. Лотман тщательно проанализировал проблему маркированного (или немаркированного) предела в своей статье: «О моделирующем значении понятий конца и начала в xудожественных текстах»:
‹...› Функция художественного произведения как конечной модели бесконечного по своей природе “речевого текста” реальных фактов делает момент
отграниченности, конечности непременным условием всякого художественного текста в его первоначальных формах — таковы понятия начала и конца текста (повествовательного, музыкального и т.п.), рамы в живописи, рампы в театре.
5.0.1. Показательно, что человек на пьедестале, живое лицо в портретной раме, зритель на сцене воспринимаются как инородные в условном моделирующем пространстве, создаваемом
границами художественного текста.
5.2. В силу этого, кажущаяся неоконченность или неначатость являются в художественном произведении особенно маркированным конструктивным приёмом.
42
Для Р. Якобсона это довольно обычный литературный, но „голый” — то есть лишённый какого-либо обоснования смыслом, необходимостью или внутренней связностью — приём. В «Новейшей русской поэзии» читаем:
У Хлебникова временнóе смещение оголено, то есть немотивировано. ‹...› Некоторые произведения Хлебникова написаны методом свободного нанизывания различных мотивов. Таков «Чортик», таковы и Дети Выдры. (Свободно нанизанные мотивы не вытекают один из другого по логической необходимости, а соединяются по принципу формального сходства или контраста; ср. «Декамерон», где новости дня сводятся воедино одним и тем же требованием относительно предмета.) Этот процесс освящён многовековой древностью, но у Хлебникова он оголён: оправдательная нить отсутствует.
43
Обращаясь к вопросу о “временнóм смещении”, Якобсон берётся за рассмотрение темпоральности (и, соответственно, пространственности) как сущностной формы поэтического языка, что и есть, заметим, тот самый вопрос, который ставится перед литературной критикой всем творчеством Хлебникова. Как раз таки на онтологическом уровне, высшем смысловом уровне поэтической системы Хлебникова, фрагментарность, характерная для стиля этого поэта, наиболее значима. Что ни говори, а разорванное произведение (то в начале, то в конце, то даже в середине, как это, например, в «Детях Выдры», где “склеенные” между собой куски не совпадают с линиями (плоскостями) разрыва, предлагает чувствительный образ реальности, разрушенной изнутри внедрением темпорального. Столкновение разновременных (гетерохронических) фрагментов порождает на языковой сцене подлинно гомогенную структуру в её отказе от темпоральности и логической последовательности, структуру, которую мы называем ахронической/панхронической. Налицо приём художника, который пытается с помощью языка и своей собственной недолговечности обмануть время, в идеале уйти от него — мифически, посредством вариативности построения.
Именно ощущение причастности к коллективной памяти, отрицающей, по сути, время, — и не просто к памяти, но к Провидению, предвидящему динамическое развитие настоящего времени, — именно это чувство придаёт воистину эпический размах малейшему произведению Хлебникова. Эпичность — вопрос не столько размера произведения (в смысле его протяжённости), сколько этого видения, явленного в самом коротком стихе, постоянного присутствия языковой и культурной памяти, совместно действующих в сознании поэта. Как справедливо замечает Р. Якобсон,
В. Хлебников дал нам новую эпическую поэзию, первые подлинно эпические произведения после десятилетий упадка. Даже его короткие стихотворения кажутся фрагментами эпоса, и Хлебников без труда вставлял их в свои
сверхповести. Он был эпичен, несмотря на антиэпический характер нашего времени, и это одна из причин отсутствия успеха у среднего потребителя.
44
Воистину так: Хлебников был эпичен, “несмотря на антиэпический характер своего времени”, потому что его поэзия, разорванная на фрагменты, неодолимо собирала себя воедино в попытке вновь овладеть целым в его расчленённости, т.е. в памяти, которая представляет для поэта целостность, данную как воспоминание о частичных, разрозненных, бессвязных культурных воспоминаниях. Такова природа этой системы, которая делает творчество Хлебникова похожим на рапсодию какого-то огромного утраченного эпоса.
Проблемы анализа
Такого рода поэзия ставит новые задачи для анализа и порождает новые критические категории — если, разумеется, критика не продолжает довольствоваться простым принятием или отрицанием и не набрасывает на свои высказывания некую аксиологическую сетку, осуждая произведение в юридическом смысле этого слова на основании наличия или отсутствия в нём считающихся “каноническими” признаков. Новизна формы и структуры, требующая адекватных средств исследования, исторически ускорила процесс формирования новой школы литературной критики, которой
прошлецы и
вчерахари поспешили наклеить двусмысленный ярлык “формальная”. В. Шкловский в своей автобиографической книге «Жили-были» рассказывает о зарождении будущей формалистической “мастерской” и о близости авангардных исследователей, входивших в ОПОЯЗ,
45
к “футуристам”. Э. Голлербах гораздо менее скромен (хотя не имел на это никаких оснований, поскольку никогда не принадлежал к кружку ОПОЯЗ), когда утверждает в своей книге «Поэзия Давида Бурлюка», что “формалисты” заимствовали все идеи, существенные для “футуристов”:
‹...› О звуковой инструментовке стиха Бурлюк говорил ещё в 1908 г., и напрасно Брик и Тынянов, заговорив об этом значительно позднее, не вспомнили имени Бурлюка. Представители формального метода только привели в систему, “пригладили” и “причесали” то, что в сыром виде было высказано Бурлюком и Хлебниковым. Формалисты гарнировали чужие мысли сухой и чинной научной номенклатурой.
46
Более взвешенное, хотя и суровое суждение о бесспорной взаимодополняемости “футуризма” и формализма находим у Виктора Эрлиха:
Деятельность футуристов, безусловно, обострила вопрос о необходимости создания адекватной научной поэтики. Именно это движение стало ‹...› одним из основных факторов, подготовивших возникновение русского формализма, который попытался такую поэтику выработать. Однако, с другой стороны, именно футуризм повинен во многих очевидных недостатках и заблуждениях новой критической школы. Методологическая однобокость, философская незрелость и психологическая косность раннего формализма напрямую проистекают из громогласных гипербол футуристических манифестов и их преувеличенного внимания к поэтической технике. Лозунг
самовитого слова явился первопричиной методологического изоляционизма, отделив поэзию от жизни, отвергнув значимость психологического и социального аспектов. Убеждение Кручёных, что „форма определяет содержание”, предопределило взгляд на литературную эволюцию как на саморазвивающийся и самодостаточный процесс.
Влияние футуризма на формальную школу отразилось не только в методологии, но и в манере изложения. Именно из тесной связи с футуристической богемой проистекают такие редкие и ценные отличительные черты стиля критиков-формалистов, как юношеский задор, энергичность, жизнелюбие. Однако, с другой стороны, избыток смелости и жизненных сил повлёк за собой утрату сдержанности и чувства ответственности. Самоуверенная дерзость футуристических воззваний перелилась в работы ранних формалистов, найдя выражение в крайностях, в стремлении к намеренному преувеличению с единственной целью — потрясти, шокировать академические круги.
Непосредственный вклад русского футуризма в теорию литературы куда менее значителен, чем те методологические сдвиги, которые косвенным путём вызвало это движение. Художественное кредо футуристов так и не развилось в целостную эстетическую систему. Причиной тому — поверхностность и легковесность их теоретических взглядов. Лозунги, выкрикнутые во весь голос, не могли заменить собой продуманную художественную доктрину. Кичливые декларации, зачастую призванные скорее шокировать публику, чем прояснить предмет спора, больше разжигали критические страсти, чем проливали свет на обсуждаемый вопрос.
Многие положения коллективных манифестов футуризма были в дальнейшем несколько более подробно раскрыты в критических статьях Маяковского и Хлебникова. Самой значительной теоретической работой Маяковского, вероятно, является его статья «Как делать стихи», в которой содержится ряд очень интересных замечаний по поводу роли ритма в создании стихотворения. Высказывания Хлебникова о природе поэтического языка и о тенденциях современной поэзии заслуживают куда большего внимания, чем им уделялось доселе. Его необыкновенно тонкое языковое чутьё, горячий интерес к вопросам семантики и этимологии временами выливаются в необычайно интересные наблюдения. Однако филологическая интуиция Хлебникова не в состоянии полностью восполнить отсутствие систематических научных знаний. Некоторые его обобщения носят откровенно дилетантский характер. Так, в его весьма любопытной статье «Наша основа» выдвинута теория, что все слова, начинающиеся с одной и той же согласной, обязательно имеют сходную семантику.
Футуризм не сумел породить поэтов-теоретиков масштаба Вяч. Иванова и А. Белого. Хлебников, Кручёных и им подобные выходцы из среды разночинцев не обладали той литературной и философской эрудицией, которая выгодно отличала теоретиков символизма. Этим мятежным париям буржуазного общества недоставало научного багажа и логического склада мышления, необходимых для точного научного анализа. Всё, на что они оказались способны в области литературной теории — с жаром возвестить о необходимости новой поэтики.
Обосновать эту новую поэтику — подкрепить теорией футуристическую революцию в русском стихосложении — было по силам лишь профессиональным литературоведам, с интересом и симпатией относившимся к новоявленной поэзии. И вот соответствующее критическое движение, наконец, возникло. Сошлись две параллельно развивавшиеся линии: если поэтам требовалось содействие специалистов в области литературной теории, эти последние искали в слиянии с литературным авангардом выход из тупика, в котором на тот момент оказалось академическое литературоведение.
47
Каким бы ни было это распределение задач, образуемое “футуризмом” и формализмом в целом, застрельщиком пристального изучения хлебниковской поэзии остаётся Р. Якобсон с его эссе «Новейшая русская поэзия». Опубликованное в Праге в 1921 году, оно развивает и дополняет сообщение Якобсона о поэтическом языке Хлебникова,
48
сделанное в Московском лингвистическом кружке в 1918–1919 гг. Да, Р. Якобсон первым приступил к систематическому изучению поэтических приёмов Хлебникова, но заинтересовались поэзией “футуристов” гораздо раньше. Помимо мнений таких поэтов, как Брюсов, Гумилёв, Блок, Белый, мы находим в самом начале деятельности “кубофутуристов-гилейцев”
49
очерки и публичные выступления К. Чуковского, систематизированные в его работе «Футуристы» (1922). Несмотря на проницательные замечания в адрес “футуристов” и, в частности, В. Хлебникова, Чуковский попал в ловушку оценочного суждения.
50
В противовес этой аксиологической критике Р. Якобсон решительно заявил:
‹...› лишь тогда станет возможна научная поэтика, когда она откажется от всякой оценки, ибо не абсурдно ли лингвисту, как таковому, расценивать наречия сообразно с их сравнительным достоинством. Развитие теории поэтического языка будет возможно лишь тогда, когда поэзия будет трактоваться как социальный факт, когда будет создана своего рода поэтическая диалектология.
51
Якобсон стремился показать, что новизна Хлебникова, чистейшего образца “футуристской” поэзии (по утверждению его товарищей-“футуристов”
52
) потребовала, прежде всего, пересмотра категорий традиционной критики, с одной стороны, и, с другой — эта поэзия не просто наметила пути современной русской поэзии, а увлекла её в новое русло. Ибо языковое событие, которым изначально была поэзия Хлебникова, в корне изменило ландшафт русской поэтической культуры.
Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие,
писал Мандельштам. В «Заметках о поэзии» он даёт глубочайшее — ибо сам поэт — прочтение творчества коллеги:
Чтение же Хлебникова может сравниться с ещё более величественным и поучительным зрелищем: так мог бы и должен был бы развиваться язык-праведник, не обременённый и не осквернённый историческими невзгодами и насилиями. Речь Хлебникова до того обмирщена, как если бы никогда не существовало ни монахов, ни Византии, ни интеллигентской письменности. Это абсолютно светская и мирская русская речь, впервые прозвучавшая за всё время существования русской книжной грамоты. Если принять такой взгляд, отпадает необходимость считать Хлебникова каким-то колдуном и шаманом.
Он наметил пути развития языка, переходные, промежуточные, и этот исторически не бывший путь российской речевой судьбы, осуществленный только в Хлебникове, закрепился в его зауми, которая есть не что иное, как переходные формы, не успевшие затянуться смысловой корой правильно и праведно развивающегося языка.
53
Не подлежит сомнению, что пример Хлебникова кое в чём увлёк Маяковского, Пастернака и, в гораздо большей степени, Петникова, Асеева и Заболоцкого. Даже если речь идёт не о влиянии, мы не можем отрицать того факта, что Хлебников оставил “поэтических потомков”: по справедливому замечанию Мандельштама, он накопил “запас” поэтических находок, по крайней мере, на целое столетие. Поэтому внимание критики должно быть сосредоточено больше на искусстве высказывания, чем на высказывании как таковом. При установленном, таким образом, преобладании формы над содержанием, поэзия Хлебникова выступила во всей своей полноте как языковое и поэтическое событие, тем самым одновременно обосновав возможность объективной науки, ставящей литературность произведения объектом исследования:
Поэзия есть язык в его эстетической функции. Таким образом, предметом науки о литературе является не литература, а литературность, то есть то, что делает данное произведение литературным произведением. Однако до сих пор историки литературы больше походили на полицейских, которые, намереваясь арестовать кого-либо, при любом удобном случае хватают всё, что находят в доме, а также людей, проходящих мимо дома по улице. При этом историки литературы использовали всё: личную жизнь, психологию, политику, философию. Вместо науки о литературе был создан конгломерат кустарных исследований, как будто мы забыли, что эти предметы принадлежат соответствующим наукам: истории философии, истории культуры, психологии и т.д., и что последние прекрасно могут использовать литературные памятники как дефектные, второсортные документы. Если литературоведение должно стать наукой, оно должно признать процесс своим уникальным “характером”. Тогда фундаментальный вопрос заключается в применении и обосновании этого процесса.
54
Поэзия Хлебникова потрясла едва ли не все явные и скрытые категории языка. Граница между первичным (вещью) и перенесённым (образом вещи) смыслом была стёрта, породив произвольную систему знаков, тяготеющую к чистой искусственности. Искажение синтаксиса языка и собственно поэтического синтаксиса, т.е. набора тропов или фигур традиционной риторики, было лишь практическим следствием того стремления к идеальному, которое Якобсон назвал „фонетической деформацией поэтического слова”:
На ряде примеров мы видели, как слово в поэзии Хлебникова утрачивает предметность, далее внутреннюю, наконец, даже внешнюю форму. В истории поэзии всех времён и народов мы неоднократно наблюдаем, что поэту, по выражению Тредиаковского, важен “токмо звон”. Поэтический язык стремится, как к пределу, к фонетическому, точней, — поскольку налицо соответствующая установка, — эвфоническому слову, к заумной речи.
55
Новизна поэтической техники Хлебникова, тесно связанная с новой концепцией поэтического творчества, диктовала — в наши дни это кажется очевидным — новую технику анализа. Немалым достоинством брошюры Р. Якобсона было то, что она положила начало новому методу подхода к продуктам поэтической деятельности, к “материалу”
56
некоторых образцов творчества Хлебникова. Однако этот путь рассмотрения в литературном произведении только словесных фактов („Притом надо заметить, что мы по преимуществу оперируем в художественном произведении не с мыслью, а с языковыми фактами”
57
), следует, на наш взгляд, скорректировать по причине чрезмерной предвзятости относительно любого вмешательства умного в поэтическое. О руководящей роли ментального можно сказать проще, но столь же метафорически: дискурс о
τέχνη (искусство), по сути, никогда не должен упускать из виду смысл, который возникает лишь тогда, когда мы озаботимся связью искусства с окружающие действительностью. Именно против этого, кстати, восставал адепт критического импрессионизма К. Чуковский, когда он поносил формальную критику, „критику без души”, и с тем же неодобрением высказывался о породивших её произведениях “кубофутуристов”:
Этот их отказ от души кажется мне огромным событием в истории русской культуры. С него начинается новая эра. Эти бедные люди и сами не поняли, какую огромную правду сказали они. Они сказали её не только от лица футуристов, но и от лица всего своего поколения. Всё их поколение, в сущности, говорило тогда: — К черту человеческую душу! Прогоним Психею прочь! Психея и вправду была выгнана прочь изо всех тогдашних книг и картин и больше не возвращалась туда. Искусство стало с той поры обездушенным. Прежний ненасытный интерес к отдельной душе человеческой, к её малейшим движениям, иссяк. Беллетристы либо изощряются в стиле, либо решают социальные проблемы. Психологический роман — умер. Психологии нет ни в повестях, ни в стихах. Поэты отлично владеют стихом, разрешают множество труднейших формальных задач, но душевной жизни у них уже нет никакой; и современная критика, и современная теория искусства своим учением о формальных методах санкционирует это пренебрежение к душе.
58
Исходя из совершенно иных философских предпосылок, “конструктивист” К. Зелинский тоже критикует формализм — конечно, не за его “бездушие”, а за его технический априоризм, с порога отрицающий, как излишнюю, осмысленность произведения:
‹...› Учение о специфической форме словесного искусства, т.е. феноменология специфического, составляет философскую основу формализма. Как всякая технология, формализм соблазняет своим собственным предметом, якобы, от древа познания добра и зла. Это — соблазн знания без него самого. Порочная иллюзия связи с действительной жизнью (исторической, биологической).
59
Изъятие смысла произведения — самый серьёзный упрёк, какой только можно предъявить “формальному” методу. Поэтика не есть поэзия, поэзия не сводится к поэтичности. Неосхоластический жаргон, воскрешающий вопрос о сущности произведения, плохо маскирует тот факт, что нет ни “сущности”, ни какой-либо иной “х-ности”. Поэзия — не стихотворение; в нём её нет подобно тому, как душа человека обитает не в доме, где тот живёт, а в его теле (по крайней мере, так принято считать). Поэзия есть форма стихотворения, то, благодаря чему стихотворение (эмпирическое, конкретное, “реальное”) возможно: чистая априорная форма воображения, лежащая в основе τέχνη, искусства. Неизбежной проблемы формы и темы мы коснемся в специальной главе «Поэтика футуризма». В качестве преамбулы скажем, что не принимаем философскую предпосылку формализма (ибо в этом вся его суть), согласно которой — выразимся резко, но недвусмысленно — произведение рассматривается как набор приёмов. Полагая, что ради дуалистического (и спиритуалистического) видения мира следует устранить дихотомию разум/тело, форма/материя, формалисты с упорством, достойным лучшего применения, исподволь протаскивали ту же самую дихотомию — разумеется, на другом уровне: в своём монистическом понимании (которое претендует быть “материалистическим” в не вульгарном смысле этого слова, то есть объективным, научным, исключающим всякий произвол оценки). Они рассуждали о неизбежной двойственности самого произведения, говоря о материале и конструктивных принципах, в соответствии с которым тот организуется, то есть задвигали вопрос о семантике вглубь этого материала. И всё это для того, чтобы не пришлось “откапывать” эту семантику вновь и вновь... Но семантика (то, что мы будем далее называть “смысловой темой”) искусства неисчерпаема и, как гидра, всегда возрождается, несмотря на “казни”, совершаемые “научной” критикой: подвергать сомнению произведение искусства — значит отрицать самый смысл произведения искусства. Отказываясь от смысла, формализм неизбежно стремится к “объективированию” произведения искусства, затем к рассмотрению качества исполнения, способа изготовления предмета мастером: “сделанности вещи”. Аристотель утверждает в «Поэтике»:
Если кто-то прежде не видел изображаемого предмета, то произведение может понравиться уже не как имитация, а благодаря применению (
ἀλλà διà τἡν ἀπεργασίαν ) цвета или чего-либо ещё в таком роде.
60
Перефразируя неприемлемое для нас по своей посылке суждение Аристотеля (но приемлемое по его следствию), можно сказать, что формализм, отказываясь заниматься смыслом произведения, вынужден рассматривать только его исполнение. Таким образом, формализм обречён на “апергастику”, которая часто бывает изобретательной, но не весьма плодотворной, поскольку игнорирует “философию композиции” — иными словами, интенциональность произведения искусства. По любопытной, но вполне понятной иронии судьбы, формализм предстаёт как своеобразный аватар неоаристотелизма в современной литературной критике и подстилающей её философии: поэтика была бы наукой о производстве (таковая действительно существует, во всей силе и полноте восстановленного значения греческого слова), которое производило бы
ποίηματα, то есть продукты (мы прямо-таки погрязли в тавтологии),
внешние по отношению к производителю,
τεχνίτης, творцу-рабочему.
Τέχνη, производственная сторона искусства, сопровождается
λόγος ἀλήθης,
61
т.е. созданием вещей, пригодных к эстетическому созерцанию (или, если мы продолжим восстановление подлинных значений греческих слов, — перцептивной деятельности) зрителей или слушателей, находящихся
за пределами этих вещей. Таким образом, произведение искусства оказывается товаром, который ничем не отличается от продукта, выставленного напоказ и предлагаемого покупателям для потребления. В области чистой фактичности, где мы находимся, отбросив семантическую
гипотезу (а для формалистов и гипотетику),
никакая внутренняя или внешняя “поэтичность” или “литературность” не сможет, подобно
deus ex machina, исправить ситуацию утраты, когда ничто уже не отличает произведение от изделия. Таким образом, путь к чистому продуктивизму открыт...
Нельзя отрицать решительного обновления литературной критики тем, что, в общем и целом, называется русским формализмом. Эта школа в лице наиболее выдающихся её представителей развивалась, видоизменялась, и, каким образом, составила эпоху в мировой литературной критике. Мы знаем и то, что отчасти благодаря этому новаторскому направлению62 другие, более современные школы — поэтический структурализм, например, — смогли увидеть свет. Но именно потому, что нам придётся по ходу исследования неоднократно упоминать о работах формальной школы, связанных, как уже сказано, едва ли не генетически с русским “кубофутуризмом”, в особенности с произведениями Маяковского и Хлебникова, мы будем часто брать на вооружение понятия и термины, выработанные или мощно обозначенные некоторыми теоретиками этого направления. По указанным причинам мы хотели бы с порога пояснить, что отделяет нас философски и методологически от формализма, несмотря на частые терминологические совпадения, которые могут создать иллюзию конвергенции метода и, помимо этого, “идеологии” (имея в виду под этим словом непостижимую семантическую нищету современности, систему репрезентаций, которая аксиологически структурирует мир, устанавливая шкалу ценностей, к которой относятся различные явления, “делающие” мир). Как раз-таки потому, что мы рассматриваем творчество Хлебникова как систему, приходится ставить во главу угла вопрос о “смысловой теме” его произведений.
другие, более современные школы — поэтический структурализм, например, — смогли увидеть свет. Но именно потому, что нам придётся по ходу исследования неоднократно упоминать о работах формальной школы, связанных, как уже сказано, едва ли не генетически с русским “кубофутуризмом”, в особенности с произведениями Маяковского и Хлебникова, мы будем часто брать на вооружение понятия и термины, выработанные или мощно обозначенные некоторыми теоретиками этого направления. По указанным причинам мы хотели бы с порога пояснить, что отделяет нас философски и методологически от формализма, несмотря на частые терминологические совпадения, которые могут создать иллюзию конвергенции метода и, помимо этого, “идеологии” (имея в виду под этим словом непостижимую семантическую нищету современности, систему репрезентаций, которая аксиологически структурирует мир, устанавливая шкалу ценностей, к которой относятся различные явления, “делающие” мир). Как раз-таки потому, что мы рассматриваем творчество Хлебникова как систему, приходится ставить во главу угла вопрос о “смысловой теме” его произведений.
Особенности системы Хлебникова
Зададимся вопросом: почему Хлебников с такой настойчивостью возвращался к древнейшему памятнику русской эпической литературы, «Слову о полку Игореве»? В поэме «Война в мышеловке» читаем:
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: кто же я?
Мы создадим слово Полку Игореви
Или же что-нибудь на него похожее.63
Разве его стремление не состоит в том, чтобы в одиночку открыть новое начало русского языка, русской поэзии, русской культуры? Мандельштам с присущей ему прямолинейностью выражения и точным выбором сравнений подчёркивает одновременно новаторский и традиционалистский характер этой поэзии, движущейся в пространстве единого языка (огромного, как память русского народа), пространстве “исконно русского”, что делает Хлебникова глубоко национальным поэтом в силу той творческой непосредственности, которая свойственна лишь привилегированным моментам “великих начинаний”:
Когда прозвучала живая и образная речь Слова о полку Игореве, насквозь светская, мирская и русская в каждом повороте, — началась русская литература. А пока Велемир Хлебников, современный русский писатель, погружает нас в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную уму и сердцу умного читателя, жива та же самая русская литература, литература Слова о полку Игореве.
64
Под “пространством самобытного русского языка” мы подразумеваем синтетическое письмо, квинтэссенцию славянского языка, своего рода κοινή, или, по счастливому выражению Мандельштама, «Вульгату», которую Хлебников в «Свояси» называет своим первым отношением к слову:
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова, вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз.65
Якобсон, со своей стороны, отмечает тесную связь того, что он считает первым шагом к совершенно произвольному словообразованию, с русским языком:
На ряде приёмов поэзии Хлебникова мы видим то же явление: приглушение значения и самоценность эвфонической конструкции. Отсюда один шаг до языка произвольного. ‹...› Это произвольное словотворчество может формально ассоциироваться с русским языком.
66
Когда мы говорим, что эта особенность хлебниковского стиля укореняет его автора в традициях славянства, делая его в высшей степени “национальным” поэтом, мы осознаём бедность и двусмысленность, присущие такому переводу русского слова ‘народный’. Двусмысленность, по правде говоря, поддерживается и советской критикой, играющей с многочисленными “внутренними переводами” этого слова. В первом приближении мы могли бы рискнуть определением народности от противного: Хлебников
народен в том смысле, что он не
народник (или, по крайней мере, не просто
народник). По своей манере (стилю), по своему языку он не подделывается под народность, он
и есть народ. В этом состоит его отличие от поэтов “из народа”, вроде С. Есенина,
67
и “крестьянских поэтов” (не говоря уже о “пролетарских поэтах”
68
), которых по языку и стилю “народными” не назовёшь, хотя по своему социальному происхождению они “из” народа.
Да и обладают ли эти писатели стилем? Не уместнее ли здесь говорить о псевдонародной стилизации? В любом случае, потрясение русского языка явлением Хлебникова отозвалось на лингвистических и политических устоях и учреждениях, казалось бы, незыблемых. В этом смысле система Хлебникова есть акт подрыва “естественного” языка и правил, подозрительно напоминающих стражей неизменности этого языка,69 ибо в отношении к поэзии наблюдается любопытная преемственность между философами, рвущимися к власти, и правителями, претендующими на звание философа. Платон изгоняет из своей идеальной республики поэтов и “баснописцев” как заведомых лгунов и шарлатанов: ни мыслить здраво, ни чувствовать правильно ту часть молодежи, которая войдёт в правящую верхушку государства, они не учат. Правда, в век Платона поэты (по крайней мере, великие: Гомер, Гесиод) считались наставниками эллинизма. Именно потому, что Платон отчасти верит в педагогическую ценность поэзии, ради вящей славы своего государства, он измышляет идеальный тип поэта-гражданина: благонамеренного, строгого учителя пользы и добродетели.70
ибо в отношении к поэзии наблюдается любопытная преемственность между философами, рвущимися к власти, и правителями, претендующими на звание философа. Платон изгоняет из своей идеальной республики поэтов и “баснописцев” как заведомых лгунов и шарлатанов: ни мыслить здраво, ни чувствовать правильно ту часть молодежи, которая войдёт в правящую верхушку государства, они не учат. Правда, в век Платона поэты (по крайней мере, великие: Гомер, Гесиод) считались наставниками эллинизма. Именно потому, что Платон отчасти верит в педагогическую ценность поэзии, ради вящей славы своего государства, он измышляет идеальный тип поэта-гражданина: благонамеренного, строгого учителя пользы и добродетели.70
В начале ХХ века разве что поэты всерьёз воспринимали поэзию; при этом власти предержащие огульно обвиняли их в непоэтичности, шарлатанстве71 и даже полагали изгоями, которых справедливо поносят за непонятные “футуристские” излишества. Поэзии, рискнувшей ставить под сомнение священную стабильность и образность языка, блюстители поэтико-политического порядка предпочитают стихосложение, подлаживающееся к лозунгам власти, как это случилось, например, с Демьяном Бедным.72
и даже полагали изгоями, которых справедливо поносят за непонятные “футуристские” излишества. Поэзии, рискнувшей ставить под сомнение священную стабильность и образность языка, блюстители поэтико-политического порядка предпочитают стихосложение, подлаживающееся к лозунгам власти, как это случилось, например, с Демьяном Бедным.72 Дискурс Хлебникова, как и новые научные гипотезы его времени (да и нашего), по существу релятивистский дискурс, замещающий своей пространственно-временнóю истиной то, что человек привык называть своей историей. Мандельштам, столь внимательный к ритмике своего времени и к времени вообще, без колебаний усматривает прямую связь между математическим принципом относительности и быстрой сменой “истин”, последовательно утверждавшихся в различных поэтических произведениях начала ХХ века:
Дискурс Хлебникова, как и новые научные гипотезы его времени (да и нашего), по существу релятивистский дискурс, замещающий своей пространственно-временнóю истиной то, что человек привык называть своей историей. Мандельштам, столь внимательный к ритмике своего времени и к времени вообще, без колебаний усматривает прямую связь между математическим принципом относительности и быстрой сменой “истин”, последовательно утверждавшихся в различных поэтических произведениях начала ХХ века:
Благодаря изменению количества содержания событий, приходящихся на известный промежуток времени, заколебалось понятие единицы времени, и не случайно современная математическая наука выдвинула принцип относительности.
73
Речь Хлебникова релятивизирует в том смысле, что он великолепно игнорирует стилистическую неоднородность эпох, с одной стороны, с другой — “научно” устанавливает относительность самого понятия истины:
Логика Аристотеля помогает беречь в разговорах то, что кажется истиной. Но она удобна для малых времён беседы и писаний. Умика Будийц недавно вторгнувшихся на землю позволяет находить истину на протяжении 28 лет и след. столетий.
Если Аристотель знал большую и малую предпосылки, так удобно заменяемые кружками, то новое учение о истине знает правило: волнообразного изменения её.
Истина рождённого в N-ном году обратна истине рожденного в n-28-м году.
Впрочем иногда тянутся две нити.
Дитя Аристотеля всегда приводилась как пример вечного непревзойдённого знания.
Здесь оно превзойдено, т.к. исходной точкой взято время, а не пространство с его кружками. Впрочем, этим ослабляется власть истины над поколениями.74 (Битвы 1915–1917 гг.)
(Битвы 1915–1917 гг.)
Поэзия Хлебникова эксцентрична, как новая физическая система, где окончательно разрушен старый антропо- (и гео-) центризм; в идеале эта поэзия напрочь лишена центра, перемещаясь без определённого субъекта-проводника или точного адресата в разреженной среде, где история и человечество теряют всякую плотность, где концепции лишаются всякой поддержки, где противостояние реального и выдуманного теряет всякую актуальность: звёздная поэзия, выражаясь словами самого Хлебникова, освобождая речь от любого рода антропоцентрических излишеств, возвращает поэзии её правду, её свободу, которая есть чистое и свободное движение воображения:
В учении о слове я имею частые беседы с √–1 Лейбница.
Полюбив выражения вида √–1, которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей.75
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1
1 Почти всем терминам литературной критики, особенно касающимся искусства начала XX века, недостаёт элементарного объективизма, т.е. спокойного и беспристрастного подхода. Следовало бы отказаться от предвзятости, то есть любого рода отягчающего значения, в таких терминах, как “авангард”, “современный”, “революционный” и т.д., и, наоборот, избавить от уничижительного оттенка понятия “декадентский”, “модернистский” и т.д. Подлинная реформа критической терминологии должна изъять из оборота политически и идеологически окрашеннные и, в связи с этим, крайне далёкие от науки термины. Поскольку такое изъятие вряд ли возможно, элементарное благоразумие вынуждает нас прибегнуть к пространным оговоркам, целью которых является “десемантизация” слов, длительное время неумеренно и незаконно употребляемых. Слишком долгое хождение в сочетании с идеологическим обязательством воздерживаться от осуждения в области политики (которую мы формально отвергаем в области искусства) полностью их дисквалифицировало в научном смысле. Наиболее подходящим решением было бы изобретение новых терминов... Что же касается невыносимой путаницы, вызванной метафорическим употреблением таких выражений, как “левое искусство”, “передовое искусство”, “прогрессивное искусство” и т.д., то мы отсылаем к предельно трезвому и сдержанному высказыванию Ахматовой (Памяти Ахматовой.
Paris: YMCA-Press. 1974. P. 37):
‹...› Со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии
(два постановления ЦК-a), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие,
и даже м.б. официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное. Я оказалась
довольно скоро на крайней правой (не политич.). Левее, следственно новее, моднее были все:
Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор — новатор par excellence.
Оттого идущие за нами “молодые” были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне,
напр. Заболоцкий и, конечно, другие обереуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной,
выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции.Нужно ли говорить, что в нашей собственной аксиологической системе, какой она определена выше, поэзия Ахматовой столь же “революционна”, как и творчество тех, кого ей неоправданно противопоставляет многолетняя традиция (Маяковского и Хлебникова)?
 2
2 Характерной чертой любого произведения (поэтического или нет) является принадлежность к системе, на чём настаивает Ю.Тынянов в статье «О литературной эволюции» (Архаисты и новаторы.
Л.: Прибой. 1929. С. 33). Но мы пытаемся показать в ходе нашего анализа, что отличительной чертой современности в искусстве является
осознание своей принадлежности к системе и внутренней системности произведения. Словом, это искусство в сочетании с передовым знанием.
 3
3 Об элементах “дидактизма” в поэтической системе Хлебникова см. 1.1, «Зангези».
 4
4 Это выражение мы заимствовали у Р. Якобсона, который в своем исследовании о сущности поэзии (Qu’est-ce que la poésie ? // Questions de poétiqe, cf. p. 113
sq.) ставит под сомнение связь поэзии и жизни поэта. (поэзия-биография). Мы сохраняем это выражение в его новом применении к отношениям поэзии и поэтической теории, потому что оно, как нам кажется, весьма адекватно выражает сущностное единство структурных законов, которые управляют “спекуляцией” и “фабрикацией” в системе В. Хлебникова. По правде говоря, мы могли бы распространить его и на другие системы, например на систему Малевича, которая имеет много общего с системой Хлебникова, принимая во внимание разницу между живописью и поэзией. В самом деле, Малевич рассуждает и вопрошает своей живописью точно так же, как и своим философствованием: у него, как и у Хлебникова, нет двух одновременных или последовательных действий, а только одно и то же “двустороннее движение”, одна и та же мысль работает в “спекуляции” и “фабрикации”. В обоих случаях приходится мыслить глобально и целостно. Это целостная установка, которая обозначает и включает в себя два различных семантических уровня. Философия, живопись, поэзия — это разные способы одного и того же ответа на одну и ту же провокацию, точная природа которой постоянно ускользает от самого пристального исследования, но делает возможным, благодаря этой постоянной игре в прятки (художественные, философские), сам поиск.
 5 СП
5 СП V: 498. Это стихотворение из второго листа «Досок судьбы», по правде говоря, подделано: не сами числа (2 и 3) дают начало поэтическому произведению, а звуковые фигуры названий чисел, двойки и тройки (к счастью, французы здесь согласны с русскими: два/три). Работа поэтического вдохновения при совершении арифметических операций пронизывает «Доски судьбы» от начала и до конца, особенно в третьем листе (
SPM III: 507 и далее).
 6 Н. Харджиев
6 Н. Харджиев. Маяковский и живопись // Маяковский: материалы и исследования.
М.: ГИХЛ. 1940. С. 352.
 7
7 См. т.1, Зангези, Дети Выдры и др., с. 161 и далее.
 8
8 Свояси,
СП II: 10.
 9 СП
9 СП V: 227.
 10 E.A. Poe
10 E.A. Poe. What is Poetry?, Marginalia // Poems and Essays.
London. 1972. P. 333.
 11
11 Как справедливо указывает Дж. Харди во введении к «Поэтике» Аристотеля, „его литературная доктрина исходит не из объективного изучения Гомера или трагиков, а, скорее, из его философии и его общей концепции искусства. Кроме того, существует значительная дистанция между историческим определением древней трагедии, которое мы можем дать, и знаменитым определением трагедии, содержащимся в «Поэтике»” (См.:
Aristote. Poétique.
Paris: Les Belles Lettres. 1969, introd. p. 13–14).
 12 M. Heidegger
12 M. Heidegger. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 1963.
 13
13 Р. Якобсон в своём исследовании «Язык в действии» (Questions de Poétique, op. цит.) отмечал трудность, с которой современники Э.А. По столкнулись в правильном понимании границы между художественной и научно-популярной литературой в знаменитом комментарии поэта к «Ворону» (с. 211–212).
 14
14 Д. Бурлюк разработал своеобразную поэтику (о которой мы не раз будем упоминать далее) совместно со своим братом Николаем в годы расцвета “кубофутуризма” (См.: Футуристы — Первый журнал футуристов, №1–2.
М. 1914. С. 81–85). Значительно позже, в США, Д. Бурлюк
задним числом разработал псевдоаристотелевскую философию этого движения, организатором и руководителем которой он действительно когда-то был (см.: Отец российского пролетарского футуризма Давид Бурлюк. Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины (1909–1930).
Нью-Йорк: Издание Марии Никифоровны Бурлюк. 1930).
воспроизведено на www.ka2.ru 15
15 Художественный и философский маршрут Малевича слишком сложен, чтобы его можно было серьёзно рассмотреть в небольшом примечании. Эссе, статьи и другие теоретические сочинения, проекты, декларации, манифесты, программы Малевича сгруппированы следующим образом: в английском переводе «Очерки по искусству» (
Копенгаген, 1968, 2 тома) и «Неопубликованные произведения» (
Копенгаген, 1976, 2 тома). Философское качество “системы Малевича” породило работу, которая обещает стать первым томом исследования его доктрины (
E. Martineau. Malevič et la philosophie.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1977. Сoll. Slavica). Уже вышли два тома перевода сочинений Малевича («От Сезанна к супрематизму» и «Супрематистский мир»).
 16
16 Кандинский, один из мастеров абстрактного искусства, оставил многочисленные свидетельства его философских размышлений о смысле художественной деятельности, см. в частности, две его работы: Über das Geistige in der Kunst (München, 2
e éd. 1912), Punkt und Linie zu Flàche (München, 1926), а также текст курсов Баухауза (Cours du Bauhaus, французский перевод, опубликованный издательством Denoël-Gonthier, Paris, 1978).
 17
17 М.В. Матюшин — тип “политехника”, о котором мы поговорим чуть ниже. Художник, поэт, композитор, автор музыки к опере «Победа над солнцем», теоретик и философ. См.: О книге Глеза и Меценже «Кубизм» // Союз Молодёжи, №3.
СПб., март 1913: , Опыт художника новой меры // К истории русского авангарда.
Stockholm:Hylae Prints. P. 159–187. Случай Стравинского отличается тем, что его теоретическая деятельность значительно позже его “революционных” произведений 10-х годов («Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», если назвать лишь наиболее известные произведения). «Хроники жизни» и «Музыкальная поэтика» на самом деле датируются 1938 и 1945 годами соответственно. Но кто усомнится, что у Стравинского 10-х годов существовала “музыкально-поэтическая система” под предлогом того, что эта система не изложена печатно? всего двадцатью годами позже? Размышления в «Хрониках жизни» говорят об обратном.
 18
18 В том же году (1910), когда на поприще словесности вышли некоторые члены группы, которая должна была стать “гилейским ядром” или “кубофутуристами”, появилась поэтическая сумма русского “символизма”, «Символизм» А. Белого. Среди других важных теоретиков символизма, о которых нам придется поговорить ещё не раз, следует упомянуть Вяч. Иванова, статьи которого были собраны в книге «По звёздам» (1909). Другая серия статей этого направления была опубликована в 1916 году под названием «Борозды и межи». Статьи и рецензии А. Блока, распространявшиеся в различных символистских газетах и журналах в период с 1905 по 1912 год (собранные в V томе Полного собрания сочинений в восьми томах,
М.–Л. 1962), представляют собой столько же ориентиры общей теории символизма в действии и эволюции, сколько и его собственное руководство к действию. Это же замечание относится и к статьям и критическим статьям Брюсова, собранным, лишь частично, в т. III (с. 624 и сл.) и в т. IV его сочинений в семи томах (
М. 1975).
 19 Rimbaud
19 Rimbaud. Œuvres complètes.
Paris: Gallimard. 1972. P. 248–254, coll. La Pléiade.
 20 СП
20 СП V: 271, 275.
 21 Mallarmé
21 Mallarmé. Œuvres complètes., op. cit., p. 363–364.
 22 СП
22 СП V: 259.
 23 СП
23 СП V: 275–276.
 24
24 Попытаемся сделать предварительное замечание по проблеме, на которой мы в своё время остановимся более подробно: каждая школа берёт от своих “предков” то, что она считает существенным, гипостазируя определённые детали, абсолютизируя некоторые аспекты. Так, Бодлер, Рембо, Верлен и Малларме могут в некотором отношении “покровительствовать” не только символизму или акмеизму, но и футуризму! Футуристы, ниспровергая одни каноны искусства, немедленно берут на вооружение другие (иногда те же самые!). Подобно тому, как кощунства Бодлера или Рембо есть возрождение — путём инверсии — понятия сакрального, так и богоборчество Хлебникова и богохульства Маяковского суть перевёрнутое возрождение в гротескной форме теургических принципов символистской поэзии.
 25 НП
25 НП: 343.
 26
26 См. его работу «Уот Уитмен», цит. соч., и его статью об Уитмене, опубликованную в газете «Русское слово» 4 июня 1913 г.: «Первый футурист».
 27
27 Прежде чем рассматривать вопрос о русском “футуризме” вообще и “футуризме” Хлебникова в частности — а, следовательно, прежде чем касаться претензий этого термина на какую-либо легитимность в области русской литературной критики, — мы заключаем его в кавычки. Этим ставится под сомнение расхожее значение термина “футуризм” в современной критике; мы, таким образом, свидетельствуем, что до конкретного рассмотрения “футуристский” проблемы ни в коей мере не принимаем его за верное, используя лишь для удобства высказывания.
 28
28 Так обстоит дело, например, с Бодлером. У него, несмотря на смелость теории, слог «Цветов зла» новаторским не назовёшь. Известную робость наблюдаем и в поэтических достижениях Хлебникова — по крайней мере, в отношении радикальности некоторых его теоретических положений.
 29 E. Cassirer
29 E. Cassirer. La Philosophie des formes symboliques.
Paris: Éd. de Minuit. 1972. T. I. P. 294.
 30
30 К. Морис Боура (
C. Maurice Bowra. Chant et poésie des peuples primitifs.
Paris: Payot. 1966) поддерживает и развивает тезис, согласно которому пение у народов, считающихся “примитивными”, является изначальной формой организации слов языка в ритмическом порядке и, следовательно, не может соотноситься с поэзией в том смысле, в каком мы понимаем это слово сегодня. Монотонная декламация представляет собой довольно позднее развитие речитатива.
 31 СП
31 СП V: 157.
 32 СП
32 СП V: 158.
 33
33 См. статью Хлебникова «Художники мира!» (
СП V: 216 и далее). Хлебников как будто оставляет за
песнями, помимо эстетической функции, и полемическую функцию, после “ломки” родного языка:
СП V: 271.
5) Сломить скорлупу языка всегда и везде.
Слова для пения.
6) Латы из чисел.
7) Рост прощади человека произвола.
Отнимать право за право.
Войска песен.
Окоп к вселенной.См. также боевое четверостишие, , цитируемое В. Маяковским (
ПСС. Т. I. 1955. С. 312.):
Сегодня снова я пойду
Туда — на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок! 34
34 в «О простых именах языка» читаем:
Ограничивающий место край даёт красоту (
СП V: 205); см. также:
Ananda K. Coomaraswamy. Le Temps et l’éternité.
Paris: Dervy-Livres. 1976. P. 25, note 16.
 35
35 Трое.
СПб. 1913; воспроизведено в «Манифесты и программы...», соч. цит., с. 64 и далее.
 36
36 См. т. 1. P. 221.
 37
37 Нам, конечно, небезразлична небрежность Хлебникова по отношению к своим рукописям, неоднократно засвидетельствованная его современниками и биографами. Мы знаем и то, что издания, выходившие при его жизни, часто делали поэта рупором “футуристской” пропаганды (в самом отвратительном значении этого слова), ориентированной на “сенсацию”. См.:
Шкловский В. Жили-были // Собр. соч. в 3-х томах. Т. 1. С. 92:
Хлебников издали после его смерти. Его друзья Бурлюки издавали Хлебникова как сенсацию.
Как поэзию, как поэта его узнала только революция. Сам Хлебников неоднократно жаловался на халатность своих издателей. (См.:
СП V: 274, 525, прим. 14; а также предисловие к
СП I); он даже описал свои проблемы с недобросовестными издателями в финале «Зангези» в стиле бурлеска. Тем не менее, все эти факты остаются на уровне анекдота и никоим образом не подрывают по существу фрагментарного характера творчества Хлебникова.
 38
38 Что касается очень острого вопроса о “начале стихотворения”, Гуго Фридрих, говоря об «Озарениях» Рембо, даёт удачную формулу: „Начало стихотворения всегда расположено очень далеко от идеи или вещи, которая её порождает, так что текст сразу производит впечатление фрагмента, кусочка другого мира, который случайно попал к нам” (
Hugo Friedrich. Structures de la poésie moderne.
Paris: Denoël-Gonthier. 1976. Р. 109). Если для Э.А. По начало стихотворения есть его конец (Philosophy of composition // Poems and Essays. London: Everyman’s Library. 1975. Р. 171), то для Хлебникова диалектика начала-конца заменяется более сложными отношениями непрерывной модификации одной и той же продолжающейся традиции.
 39 Tzvetan Todorov
39 Tzvetan Todorov. Introduction а la littérature fantastique.
Paris: Éd. du Seuil. 1970. Р. 48.
 40
40 Так называется одна из самых “ирредентистских” статей Хлебникова, напечатанная в газете с ярко выраженным националистическим уклоном «Славянин» (21 марта 1913 г.). Здесь Хлебников призывает распространить русскую литературу на такие разные территории, как Восток (Персия, Индия, Китай), Балканы, славянский Запад (Польша, Полабье), древнюю Болгарию и полумифическое царство Биармия. По мнению Хлебникова, такое возвращение к истокам позволило бы, помимо расширения
русской словесности и оживления эпического чувства, лучше выразить дух Земли:
Нет творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев,
подобного Гайявате Лонгфелло. Такое творение как бы передаёт дыхание жизни побеждённых победителю (НП: 342). Те же положения Хлебников повторяет в письме к А. Кручёных примерно того же (начало 1913) времени (
СП V: 298). Читая эти строки, невозможно не вспомнить о притязаниях Уитмена на американскую поэзию для американского континента, о притязаниях на культурную автономию по отношению к Старому Свету, что во многом объясняет эпический, национальный характер его произведений... На “уитменизме” Хлебникова мы остановимся ниже.
 41
41 См. т. I. Р. 161
 42
42 Ю. Лотман, статья цитируется в «Тексты советского литературоведического структурализма»,
Мюнхен: Вильгельм Финк. 1971.
 43 R. Jakobson
43 R. Jakobson. La nouvelle poésie russe // Questions de poétique, op. cit., p. 17–18.
воспроизведено на www.ka2.ru 44 R. Jakobson
44 R. Jakobson. La génération qui a gaspillé ses poètes // Questions de poétique, op. cit., p. 14.
 45 Шкловский В
45 Шкловский В. Жили-были, оп. цит., с. 112–113.
 46 Э. Голлербах
46 Э. Голлербах. Поэзия Давида Бурлюка, соч. цит., с. 13–14.
воспроизведено на www.ka2.ru 47 Victor Erlich
47 Victor Erlich. Russian Formalism.
The Hague –Paris: Mouton. 1969. Р. 49–50.
воспроизведено на www.ka2.ru 48
48 Ibid., p. 65.
 49
49 В 1913–1914 гг.
 50
50 См. страницы, посвящённые “кубофутуристам” в творчестве Чуковского:
K. Čukovskij. Les Futuristes.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1976. Р. 35–65.
воспроизведено на www.ka2.ru 51 R. Jakobson
51 R. Jakobson. La nouvelle poésie russe,op. cit., p. 12–13.
 52
52 В “кубофутуристских” журналах 1913–1914 гг. Хлебникова неизменно называют (особенно Бурлюк, но нередко и Кручёных) „гением русской поэзии”. Хлебников был, особенно для Бурлюка, эталоном новой “школы”. В «Первом журнале русских футуристов» (Футуристы — Первый журнал русских футуристов, № 1–2,
М. 1914. С. 104) читаем:
B 1910 году вышла книга «Садок Судей I» — в ней гениальный Виктор Хлебников встал во главе русской новой лит.  53 О. Мандельштам
53 О. Мандельштам. О природе слова // Собрание сочинений в 3-х томах, т. 2.
Нью-Йорк. 1966. С. 289.
воспроизведено на www.ka2.ru 54 Мандельштам О
54 Мандельштам О. Заметки о поэзии. Там же, с. 305.
 55 R. Jakobson
55 R. Jakobson. La nouvelle poésie russe,op. cit., p. 15.
 56 Ibid
56 Ibid., p. 24.
 57 Ibid
57 Ibid., p. 16.
 58 K. Čukovskij
58 K. Čukovskij. Les Futuristes.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1976. Р. 62.
 59 К. Зелинский
59 К. Зелинский. Поэзия как смысл.
М. 1929. С. 125–126.
 60 Aristote
60 Aristote. Poétique. 1448b 15, op. cit., p. 33.
 61 Aristote
61 Aristote. Éthique à Nicomaque, 4, 1140a 20.
Paris: Librairie philosophique A. Vrin. 1972. Р. 284.
 62
62 Лишь отчасти, потому что в генезисе структурализма применительно к литературной критике сыграли роль и другие модели.
 63
63 Война в мышеловке (
СП II: 244).
 64 О. Мандельштам
64 О. Мандельштам. О природе слова, соч. цит., с. 287.
 65
65 Свояси (
СП II: 9).
 66 R. Jakobson
66 R. Jakobson. La nouvelle poésie russe,op. cit., p. 23.
 67 Тынянов Ю
67 Тынянов Ю. Промежуток // Архаисты и новаторы, op. цит., с. 544.
воспроизведено на www.ka2.ru 68
68 Об отношениях Маяковского с пролетарскими писателями по поводу революции в “поэтическом слове” см.: «Поэт и социализм. К эстетике В.В. Маяковского».
М. 1971. С. 129.
 69
69 О борьбе за достоинство языка против всех нападок “канцелярщины” сошлемся на превосходные страницы Г. Конио в:
K. Čukovskij. Les Futuristes.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1976. Р. 137 sq.
 70 Platon
70 Platon. République. Les Belles Lettres, 398a.
 71
71 См. высказывание Троцкого, который решает как мэтр, что есть поэзия, что ей чуждо: „Словотворчество Хлебникова и Кручёных также лежит вне поэзии: это филология, вряд ли очень основательная, отчасти поэтика, но не поэзия. Совершенно неоспоримо, что язык живёт и развивается, творя из себя новые слова и отбрасывая обветшалые. Но он это делает в общем крайне осторожно, расчётливо и в меру строгой необходимости. Каждая новая большая эпоха дает толчок языку. Он вбирает в себя сгоряча большое количество неологизмов, а затем производит своего рода перерегистрацию, изгоняя всё лишнее и чужеродное. Когда Хлебников или Кручёных создают от наличных корней и десять, и сто новых производных слов, то эта работа может представлять известный филологический интерес, она может — в некоторой, очень скромной степени — облегчать движение живой, в том числе и поэтической, речи, предвещая эпоху более сознательного направления эволюции языка. Но сама эта работа, имея вспомогательный для искусства характер, остается за пределами поэзии. Нет основания приходить в состояние благочестивой каталепсии при звуках заумной поэзии, которая похожа на словесно-музыкальные гаммы и экзерсисы, может быть, и полезные в тетрадях ученика, но не пригодные для эстрады; очевидно, во всяком случае, что попытка заменить поэзию экзерсисами “зауми” была бы удушением поэзии. Но по этому пути футуризм и не идёт. Маяковский, бесспорный поэт, черпает, по общему правилу, из словаря Даля и лишь изредка из словаря Хлебникова и Кручёных. Произвольные словообразования и неологизмы встречаются у Маяковского чем дальше, тем реже” (Littérature et Révolution.
Julliard. 1964. Р. 117–118).
 72
72 См. Троцкий, там же, с. 183–185 и
Lénine. Sur l’art et la littérature.
Paris: Union Générale d’Éditions. 1976. T. III. P. 279–281, а также
J.M. Palmier. Lénine, l’art et la Révolution.
Paris: Payot. 1975. P. 431–435.
 73 Мандельштам О
73 Мандельштам О. Собр. соч., т. II, с. 283.
 74 СП
74 СП V: 433–434. Теория относительности значительное влияние на русских “футуристов”, в частности на Хлебникова и Маяковского, как по новому взгляду на мир, так и по далёким, но серьёзным возможностям победы над временем и смертью. См. свидетельство Р. Якобсона в «Вопросах поэтики», соч. цит., с. 86–87.
 75 СП
75 СП II: 8.
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 113–137; 319–326.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию
Продолжение 




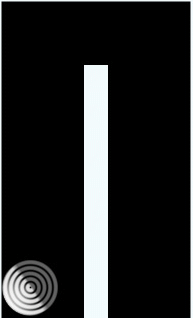 риступая к изучению творческого наследия В. Хлебникова, следует первым делом усвоить его воззрения на язык и на время — основополагающие “оси координат” любой, кстати говоря, поэтической системы. Кроме того, в их “плоскости” удобно классифицировать принципы изложения формообразующих тем, которые структурируют конкретную систему. Предварительные намётки такого рода позволили строго придерживаться тематики нашего проекта, допуская при этом условность, относительность и открытость подхода к нему. Сколь угодно частые отвлечения на ту или иную тему, второстепенную относительно основных направлений “язык/темпоральность”, никоим образом не исчерпывают поэзии В. Хлебникова. Но сейчас, наконец, речь пойдёт о ней самой. Заметим, что в целом наш проект довлеет себе ровно настолько, насколько не выходит за свои рамки: он представляет собой, в общем-то, лишь введение в собственно поэзию В. Хлебникова. Хлебников и поэзия: вот та основная, первичная взаимосвязь, рассмотрение которой мы отложили ради косвенной оценки её важности. Надеюсь, вводные главы были в этом смысле полезны, хотя о поэзии в строгом смысле там ровным счётом ничего не сказано. Творчество В. Хлебникова — во всей его совокупности — имеет немало общего с “современной поэзией” — назовём её так во избежание двусмысленного выражения “поэзия авангарда”,1
риступая к изучению творческого наследия В. Хлебникова, следует первым делом усвоить его воззрения на язык и на время — основополагающие “оси координат” любой, кстати говоря, поэтической системы. Кроме того, в их “плоскости” удобно классифицировать принципы изложения формообразующих тем, которые структурируют конкретную систему. Предварительные намётки такого рода позволили строго придерживаться тематики нашего проекта, допуская при этом условность, относительность и открытость подхода к нему. Сколь угодно частые отвлечения на ту или иную тему, второстепенную относительно основных направлений “язык/темпоральность”, никоим образом не исчерпывают поэзии В. Хлебникова. Но сейчас, наконец, речь пойдёт о ней самой. Заметим, что в целом наш проект довлеет себе ровно настолько, насколько не выходит за свои рамки: он представляет собой, в общем-то, лишь введение в собственно поэзию В. Хлебникова. Хлебников и поэзия: вот та основная, первичная взаимосвязь, рассмотрение которой мы отложили ради косвенной оценки её важности. Надеюсь, вводные главы были в этом смысле полезны, хотя о поэзии в строгом смысле там ровным счётом ничего не сказано. Творчество В. Хлебникова — во всей его совокупности — имеет немало общего с “современной поэзией” — назовём её так во избежание двусмысленного выражения “поэзия авангарда”,1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()