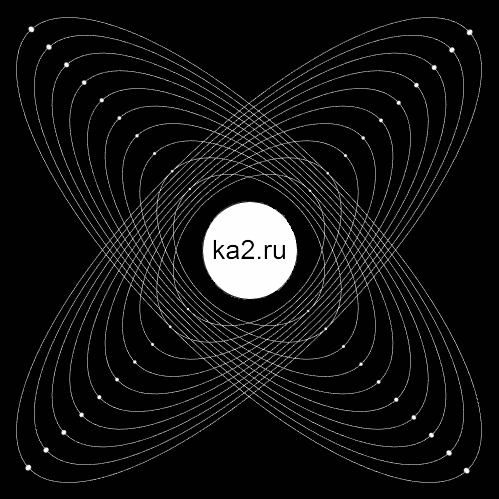Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Продолжение. Предыдущая глава: 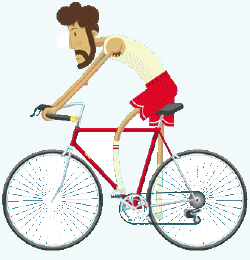
4
Хлебников и революция
Бунт порождает очевидная бессмысленность происходящего ‹...›
Его цель — пересоздание.
А. Камю. Человек бунтующий.
О! гул восстания!
В. Хлебников. Скуфья скифа
Постановка вопроса
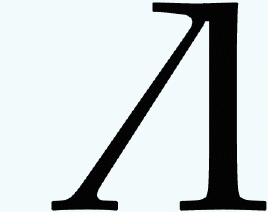
юбая попытка сопоставить творчество Хлебникова и революцию обречена на провал, если заранее не определён сам этот термин. Мы будем понимать его в единственном смысле: как решительную перемену политического устройства страны, подготовленную всем ходом русской общественной жизни 1905–1917 гг. Именно эта
революция, внешнее по отношению к поэту событие, вдохновляла его последние пять лет жизни. Однако было бы непростительным упрощением хлебниковской поэзии счесть её “отражением” (пусть и породившим умозаключения вплоть до прозрений) чего-либо маловажного и случайного для
будетлянина. С переходом на должный уровень осмысления неизбежен вывод: революция единосущна поэтическим исканиям Хлебникова. Памятуя о его творчестве в целом, она предстаёт именно тем, чем сам Хлебников назвал её в письме к Мейерхольду:
переворотом в понимании времени.
1
Революция, если отвлечься от обедняющей её смысл политической компоненты, есть отказ от фундаментальных ценностей или воззрений, вырастающий до размеров „коперниковского переворота”, если воспользоваться выражением Канта;
2
иными словами, революция меняет миропонимание. Сдвиг в истории человеческой мысли делает революцию метафизическим переворотом в той мере, в какой она, смещая точку зрения субъекта на вещи, преобразует одновременно и вещь, и его самого. Слом привычного понятия о ходе времени оказывается заключительной стадией самопроизвольного обострения чувствительности, уязвлённой мыслью о старении и смерти:
переворот в понимании времени есть теоретическое обоснование древнейшего бунта человека, ответ на вызовы времени, пожирающего бытие.
3
Не удивительно, что восстание
толп кажется поэту детской игрой в сравнение с мятежной дерзостью мысли:
На улицы, растерзанные львиными челюстями восстаний, мы выходим как мученица, неумолимая в своей вере и кротости поднятых глаз (как правящих молний на море земных звёзд).
Мировой рокот восстаний страшен ли нам, если мы сами — восстание более страшное?4
Восстание изнутри неё самой, поэзия Хлебникова есть революция в чистом виде. Но мятежного числяра подстерегает ловушка: бессмысленный бунт узника времени навлекает непререкаемую власть разума, отрицающего идею свободы как таковой. В трагическое приключение втянута и поэзия: уподобленная истории как последовательности предвычисленных событий, она застывает в неподвижности математического уравнения. Но этот “соляной столп” обретает диктаторскую власть над разумом: будучи самосозидаемым языком, поэзия оказывается последним прибежищем мысли Хлебникова. Он то и дело выступает как “глоссолат”, наёмник языка, этой чистой формы, предписывающей разуму свои законы; месть разума долго себя ждать не заставляет: языку тиранически навязывается мера. В итоге ход “метрической” мысли поэта-мятежника, как и любого рода восстание, чужд гармонии.
Вся сложность поэтического феномена Хлебникова проистекает из этого нескончаемого противоборства, которое превращает её в своеобразный обмен языковыми формами, в озвучивание непрестанного изменения, которое и есть жизнь в самом широком смысле этого слова. Вот основной вопрос революции, понимаемой как непрерывное восстание: где и какова здесь поэтическая воля Хлебникова? Если в координатах «Хлебников и время», «Хлебников и язык» налицо множество путей сближения, позволяющих оценить своеобразие философских исканий Хлебникова, то равнозначность поэзии и революции устанавливается именно там, где поэзия совершает революцию, а революция становится поэзией; эта двусмысленность вводит нас в пространство духа, где уже невозможно отличить одно от другого, где искусственным разделением убивается сама суть творчества. Однако следует ли нам доискиваться таинственного места, где происходит волшебный обмен между мыслью и языком? И отказаться ли от попытки анализа под предлогом того, что ни один объект таковому не подлежит? Частично вопрос решается самим методом анализа: свободная от любого рода ограничительных оговорок революция может быть понята в поэтическом творчестве Хлебникова независимо от явного обращения к внешним событиям, которые значились бы под рубрикой Революция. Таким образом, семантическое расширение этого слова, с одной стороны, узаконивает революционную направленность стихотворений, где вооружённое восстание тематически не проявлено: подрывная деятельность «Заклятия смехом» ощутима в той же степени, что и «Ночи в окопе». С другой стороны, стихотворения, которые принято называть “советскими” — те, где тема смены власти в стране заявлена открыто, — обнаруживают иную, нежели политическая апология или аллегория, направленность. Их строки на самом деле “говорят” не о политических преобразованиях, на поверку оказываясь продолжением произведений, где поэт пытался осмыслить метафизическую катастрофу (переворот) в неподражаемом по структуре дискурсе. Следовательно, методологически проблема состоит в выборе отправной точки: с чего начать, дабы проследить процесс превращения восстания в слово? “Советские” стихи дают в этом смысле подсказку, тематизируя политическую революцию, то есть, ставя этим её во главу угла: поучителен в них именно ход общественных преобразований, мутация их посредством включения в основополагающий у Хлебникова великий миф о восстании. Таким образом, тема политической революции позволяет уловить привычный для поэта процесс переосмысления, который превращает его стихи в нечто гораздо большее, нежели поэтическое изложение переломного в ходе жизни общества события. Преодоление расстояния, отдаляющего поэта от событий истории, позволяет лучше понять, по образному выражению критика, формирование одного из сложнейших „созвездий”5 поэзии Хлебникова.
поэзии Хлебникова.
Разин
Опираясь на соединение символических фигур, которые именно в сдвоенном виде образуют у Хлебникова миф о восстании, мысль поэта облекается величавостью знака. Этот миф построен на двух противоположных началах, воплощённых в Лобачевском (ум) и Разине (чувство).
6
Бунтарь ума и мятежник чувства (справедливости) — две ипостаси бунтующего “я” Хлебникова, два наставника (в смысле образцов), под влияние которых раздвоенная личность подпадает с момента её самодеятельности на поприще поэзии: такова изначальная антиномия, которая породила эмблематику, использованную в дальнейшем для раскрытия смысла революции. Эмблемы эти, навязанные расхожими образами восстания — огонь, море, нож — оборачиваются у Хлебникова смертью Бога, смертью смерти, упразднением времени и восстановлением первобытного языческого пантеизма во вневременнóй утопии — т.е. идеями, которые сходятся на понимании революции как возместительного энергийного акта, восстанавливающего изначальное космическое равновесие. Действенность образов Лобачевского и Разина обусловлена их расположением в недрах поэтической речи — основе своеобразия Хлебникова, поскольку именно здесь совершается подрыв прописных истин поэтического дискурса. Поэтому-то анализ трактовки революционной темы и входит у нас в преамбулу к исследованию преобразований в области словесного творчества, которые, строго говоря, и являются феноменом Хлебникова. Забегая вперёд, основные направления этих преобразований таковы: вневременность, нейтральность (исчезновение субъекта) и синхронные тематике перебои ритма.
Сведéние воедино диаметрально противоположных фигур Лобачевского и Разина Хлебников объясняет как умное восстание. Разбросанная прихотливость восстания (мятеж) накладывается на однозначность геометрического изображения (чертёж) в едином порыве:
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Там близ кумира Лобачевского
Мятель мятежная поёт.8
Поэт, подлинный герой своей поэзии, сочетает в себе новаторский дух математика, чей интеллектуальный бунт он повторяет изысканием законов времени, с пылом повстанца. И всё-таки эмоциональный и поэтический заряд образов Лобачевского и Разина далеко не равнозначны. В своей поэзии воин Разума9 отдаёт предпочтение куму бедноты, по признанию, вложенному ему в уста поэтом, разумом нищему.10
отдаёт предпочтение куму бедноты, по признанию, вложенному ему в уста поэтом, разумом нищему.10 Тем не менее, разинский ум (раум) не чета бытовой смётке (речи его — рароги11
Тем не менее, разинский ум (раум) не чета бытовой смётке (речи его — рароги11 ); этот ум, судя по сопутствующим оговоркам, отличается острой проницательностью (резать), ибо сродни лезвию (нож).12
); этот ум, судя по сопутствующим оговоркам, отличается острой проницательностью (резать), ибо сродни лезвию (нож).12 Вот почему разинский фантазм занимает столь видное место, вплоть до первенства в воображаемой революционной генеалогии Хлебникова. Мечтаемое отождествление с Лобачевским наблюдаем в рациональном дискурсе Хлебникова — “трактатах”, где поэт стремится обосновать значимость своих изысканий во времени для науки. Но именно поэзия, эксклюзивным, скажем так, образом оказывается излюбленным местом приложения разинских “безумств”. Если между проектом Лобачевского и проектом Хлебникова наблюдается гомология в том смысле, что оба они направлены на изменение господствующей в науке парадигмы, то разница между поведением Разина и поведением поэта столь велика, что на ум приходит симметрия. Побуждают нас использовать этот математический термин неоднократные признания Хлебникова в своей противоположности Разину:
Вот почему разинский фантазм занимает столь видное место, вплоть до первенства в воображаемой революционной генеалогии Хлебникова. Мечтаемое отождествление с Лобачевским наблюдаем в рациональном дискурсе Хлебникова — “трактатах”, где поэт стремится обосновать значимость своих изысканий во времени для науки. Но именно поэзия, эксклюзивным, скажем так, образом оказывается излюбленным местом приложения разинских “безумств”. Если между проектом Лобачевского и проектом Хлебникова наблюдается гомология в том смысле, что оба они направлены на изменение господствующей в науке парадигмы, то разница между поведением Разина и поведением поэта столь велика, что на ум приходит симметрия. Побуждают нас использовать этот математический термин неоднократные признания Хлебникова в своей противоположности Разину:
Я Разин напротив,
Я Разин навыворот.13
С учётом подобных высказываний задача исследователя усложняется ещё и тем, что ограничиться субъективной инверсией Хлебникова — значит за деревьями не увидеть леса. Разин — не только персонаж, но и слово, последовательность фонем, где неразрывно переплетены география, история, язык и психология. Разин не просто “антихлебников” (или Хлебников — антиразин) — он ещё и положительный герой повстанческой эпопеи поэта, находящей себе место на идеальном пересечении метафизического восстания и политической революции, на стыке русского языка и русской мысли. Да, Разин бытийствует в поэтической системе Хлебникова как выдумка, но именно такого рода умопостроения открывают доступ к сокровенным помыслам будетлянина, обнажают самую суть его творчества. Разин оказывается краеугольным камнем поэтико-политической микросистемы, где мятежное отрицание превращается в убедительное поэтическое утверждение.14
Упоминая Разина, поэт и не думает “меряться с ним ростом”: не атаману, а ему, Хлебникову, уготовано двойное странствие: во времени, в поисках своей наибольшей идентичности, и в пространстве, в поисках точек соприкосновения двух мировых культур, Востока и Запада. Разин чужд созиданию (он грабил и жёг), Хлебников — творец (а я слова божок):15 поэт строит себя и язык в демиургическом акте, который фактически завершает уничтожение старого мира. В этом смысле “деяния” Хлебникова и Лобачевского вполне сравнимы, не говоря о полной противоположности разбойному промыслу предводителя пиратов: Разин отбирал (грабил) и разрушал (жёг), Хлебников в акте даяния (инверсия присвоения, погрома и т.п.) создаёт новую систему, которая, подобно геометрии Лобачевского, препятствует наивному возврату к архаике, не отказывая таковой в праве проявлять себя; система эта является не завершением старой парадигмы, а введением в новую. Подобно тому, как после Лобачевского нельзя говорить о непогрешимости евклидовой геометрии, любой разговор о поэтическом языке после Хлебникова невозможен без оглядки на его открытия, отвергающие ранее установленные понятия или ценности. Необходимо дознаться потаенных особенностей личности Хлебникова, чтобы осмыслить подчёркнутое отталкивание поэта от вождя казацкой вольницы, настойчивое отрицание себя именно как Разина: не симметрия ли это на уровне судьбы? В соответствии с законами периодичности, открытыми “Лобачевским времени”, любая “cобытийная точка” на временнóй оси (с участием толп или сугубо личностная) порождает свою противоположность: событие навлекает противособытие.16
поэт строит себя и язык в демиургическом акте, который фактически завершает уничтожение старого мира. В этом смысле “деяния” Хлебникова и Лобачевского вполне сравнимы, не говоря о полной противоположности разбойному промыслу предводителя пиратов: Разин отбирал (грабил) и разрушал (жёг), Хлебников в акте даяния (инверсия присвоения, погрома и т.п.) создаёт новую систему, которая, подобно геометрии Лобачевского, препятствует наивному возврату к архаике, не отказывая таковой в праве проявлять себя; система эта является не завершением старой парадигмы, а введением в новую. Подобно тому, как после Лобачевского нельзя говорить о непогрешимости евклидовой геометрии, любой разговор о поэтическом языке после Хлебникова невозможен без оглядки на его открытия, отвергающие ранее установленные понятия или ценности. Необходимо дознаться потаенных особенностей личности Хлебникова, чтобы осмыслить подчёркнутое отталкивание поэта от вождя казацкой вольницы, настойчивое отрицание себя именно как Разина: не симметрия ли это на уровне судьбы? В соответствии с законами периодичности, открытыми “Лобачевским времени”, любая “cобытийная точка” на временнóй оси (с участием толп или сугубо личностная) порождает свою противоположность: событие навлекает противособытие.16 Так, разинскому “плохо” изгибом временнóй волны отзывается отрицание отрицания: хлебниковское “хорошо” есть лишь виток по спирали времени того другого, который есть он сам. Дерзая ведать будущее, Хлебников в поисках своей судьбы идёт против течения времени, отслеживая на челне своего воображения судьбу Разина, чтобы отыскать свою собственную:
Так, разинскому “плохо” изгибом временнóй волны отзывается отрицание отрицания: хлебниковское “хорошо” есть лишь виток по спирали времени того другого, который есть он сам. Дерзая ведать будущее, Хлебников в поисках своей судьбы идёт против течения времени, отслеживая на челне своего воображения судьбу Разина, чтобы отыскать свою собственную:
На гордом yструге нет-единицы плыть по душе Разина по широким волнам, будто по широкой реке, среди вётел и вязов править чёлн поперек волне, поперек течению, избрав Волгой его судьбу, точно орёл жёстким клювом оконченную плахой, но дав жизни другое течение, обратное относительно звёзд над нею, перерезая время наперекор ему от калмыцких степей к Жигулям, плывя через шумящий поток его.17
Временнóй осью этого интроспективного анабасиса является судьба, символизируемая рекой:
Мы, низари, летели Разиным.
18
Глядясь в воду этой реки, созерцает своё отражение Разин (низарь: одновременно человек с нижней Волги и представитель низов общества). Но кто отражается водами Волги: Разин в Хлебникове или Хлебников в Разине? Кто чей фантом, если мы — как, впрочем, и Хлебников-“хронократор” — знаем, что никакой отражающей поверхности нет, как нет ни до, ни после чего бы то ни было, что воображаемое столь же реально, сколь реальное вымышлено?19 Среда обитания человека — панхрония, где всё современно всему. Мир превращается в игру зеркал, во взаимоотражение всего и вся:
Среда обитания человека — панхрония, где всё современно всему. Мир превращается в игру зеркал, во взаимоотражение всего и вся:
Я был y озера среди сосен. Вдруг Лада на белоструйном лебеде с его гордым чёрным клювом подплыла ко мне и сказала: „Вот Числобог, он купается”. Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с тёмной бородкой, с синими глазами в белой рубахе и в серой шляпе с широкими полями. „Так вот кто Числобог, — протянул я разочарованно: я думал, что что-нибудь другое!” — Здравствуй же, старый приятель по зеркалу, — сказал я, протягивая мокрые пальцы. Но тень отдёрнула руку и сказала: „Не я твоё отражение, а ты моё”. Я понял это и быстрыми шагами удалился в лес. Я этим не смущался.20
Судя по этому отрывку, зряч сам язык: есть слова, которыми можно видеть,
слова-глаза.
21
Звук З — это акустический аспект отражения.
22 Учёный 2222 года
Учёный 2222 года у Хлебникова заявляет:
„Язык — вечный источник знания”.
23
Хлебниковские умопостроения берут своё начало в самом истоке языка: потому-то река судьбы, где мир созерцает себя, имеет название
Ра-зин, т.е. ‘река глаз’:
24
Ра — видящий очи свои в ржавой и красной болотной воде,
Созерцающий свой сон и себя
В мышонке тихо ворующем болотный злак,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Окружённый Волгой глаз.
Ра — продолженный в тысяче зверей и растений,
Ра — дерево с живыми, бегающими и думающими листами, испускающими шорохи, стоны.
Волга глаз,
Тысячи очей — смотрят на него, тысячи зер и зин.
25
Язык в игре своих отражений — паноптикум, которым оборачивается мир: он озвучивает зеркальную природу вселенной. Возникновение слова есть веление судьбы;
26
таким образом, происходит слияние динамической структуры (а)
Р,
силового прибора, и (b) повстанческой миссии Разина, как определяет её сам атаман во время “привала” своей
души на
острове Хлебникова:
a)
Р — непокорное движение, неподвластное целому.27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Р — присуще значение разрушения преград.
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹...›
Р значит разделение тела “плоской пещерой” как след движения через него другого тела.
29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эр — точка, просекающая насквозь поперечную площадь.
30
b)
Разин:
Я полчищем вытравил память о смехеИ чёрное море я сделал червонным,
Ибо мир сделан был не для потехи,
А смех неразлучен со стоном.
Топчите и снова топчите, мои скакуны,
Враждебных голов кавуны.31
Следовательно, перевертень судьбы суть обоюдочитаемая строка: таков потаенный смысл знаменитого «Разина»:
Я Разин со знаменем Лобачевского логов.
Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря.
32
Этому длиннейшему стихотворению-палиндрому Хлебников дал подзаголовок Заклятье двойным течением речи, двояковыпуклая речь.33 “Двояковыпуклый” дискурс — аналог переворота, понимаемого как изменение кривизны линзы, переход от двояковогнутости к двояковыпуклости:
“Двояковыпуклый” дискурс — аналог переворота, понимаемого как изменение кривизны линзы, переход от двояковогнутости к двояковыпуклости:
Свежий переворот: двояковогнутая чечевица пала.
Власть у двояковыпуклых стёкол! Смена мировых чечевиц!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Величавый переворот на земле.
Грозная смена кривизны власти.34
Слово ‘Разин’ не только поддаётся лингвистическому переосмыслению, но и показывает, как математика работает в языке: когда Хлебников утверждает, что Разин есть квадратный корень из –1 (√–1), он лишь математически развивает, обосновывает своей неопифагорейской теорией числа как сущности явлений то, что в неявном виде содержит звуковая последовательность ‘Разин’:
Конечно, даже вы допустите, что может быть человек и ещё человек, положительное число людей. Два. Но знаете, что когда кого-нибудь нет, но его ждут, то он не только увеличивает число вещественных людей — его не только нет, но он и отрицательный человек? И что по воззрениям иных мы переживаем столетия [кусты мигов] отрицательного пришельца с терновником в руке...
A вы знаете, что природа чисел та, что там, где есть да числа и нет числа (положительные и отрицательные) существа, там есть и мнимые (√–1)?
Вот почему я настойчиво хотел увидеть √–1 из человека и единицу делимую на человека. И его лицо преследовало меня всюду в шуме улиц.
Впрочем, скоро я понял, что если любимый, ожидаемый, но отсутствующий человек отрицательное существо, то каждое враждебное постороннее собранию (не присутствующий в нём) будет √–1, существом мнимым.35
Те же воззрения он излагает в «Скуфье скифа»:
‹...›
Я знал, что √–1 нисколько не менее вещественно, чем 1; там, где есть 1, 2, 3, 4, там есть и –1, и –2, и –3, и √–1, и √–2, и √–3. Где есть один человек и другой естественный ряд чисел людей, там конечно есть и √–человека, и √–2 людей и √–3 людей и n – людей = √–m людей. ‹...›
Пора научить людей извлекать вторичные корни из себя и из отрицательных людей.36
Квадратный корень из –1 (
Л = √–137
) оказывается математической эмблемой свободы, знаком освобождения от времени:
‹...›
Не в том ли пролегла грань между былым и идутным, что волим ныне и познания от “древа мнимых чисел”.
Полюбив выражения вида √–1, которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей.
Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения.
38
Извлекая корень из отрицания самого себя, Хлебников оказывается своим извечным врагом, зловещей
39 русалкой у кокорин
русалкой у кокорин:
Он взял ряд чисел, точно палку,
И корень взяв из нет себя,
Заметил зорко в нем русалку.
Того, что ничего нема,
Он находил двуличный корень,
Чтоб увидать в стране ума
Русалку у кокорин.
40
Что это: арифметика, которая подспудно движет языком, или язык, бессознательно вычисляющий? Зазор между математикой и Логосом здесь не толще листа бумаги, о котором говорит Соссюр...
41
У Хлебникова слово и число взаимосвязаны столь тесно, что кажутся удвоением фундаментального понятия, предел которого — небытие: извлечение квадратного корня из отрицательного числа сродни противодействию смерти в той же мере, что и призыванию её. Вот пример не раз отмеченной у Хлебникова тяги к наглядности: в цитированном выше отрывке из «Ладомира» русалка (
корень из нет себя поэта) стоит подле вывернутого (извлечение корней как таковое: из земли. —
прим. перев.) пня, раздвоенный корень которого (кокорина) напоминает математический знак радикала, он же двоичный корень с эмоциональной окраской (
двуличный). В области вымысла (
в стране ума) под знак извлечения этого корня поэт ставит отрицание самого себя; такое сближение дважды отзывается в слове ‘кокорина’:
Ко — уменьшение расстояния и объёма при сохранении веса; направление движения.42
В отрывке из «Разин. Две Троицы»
Недаром хохочут холмы: „Сарынь на кичку!”, и оси, корни из мнимой “нет” единицы русалок протягиваются к “да” единицам.
43
„Сарынь на кичку!” — боевой клич разинцев: согласно Далю, „по преданию, приказ волжских разбойников, завладевших судном”.
44
Хлебников даёт иное толкование:
Сарынь есть сарычь — хищник. Сарынь на кичку — значит коршун на голову; так разбойники обрушивались на суда.
45
Так вот, ‘кичка’ — это синоним ‘кокорины’. Но тогда уструг Разина с плывущим на нём бунтарём интеллекта (“геометром” времени) может получить пробоину корнем своего негатива и затонуть, подобно волжским судам, во множестве пускаемым на дно речными пиратами. Отметим также у Хлебникова частоту использования военно-морской метафоры для обозначения будетлянского рывка в будущее:
Вообще не пора ли броситься на уструги Разина? Всё готово.
46 Сколько городов вы разрушили — красный ворон? В вас кипит кровь новгородских ушкуйников, ваших предков, и всё издание мне кажется делом молодёжи, спускающей свои челны вниз по Волге узнать новую свободу и новые берега
Сколько городов вы разрушили — красный ворон? В вас кипит кровь новгородских ушкуйников, ваших предков, и всё издание мне кажется делом молодёжи, спускающей свои челны вниз по Волге узнать новую свободу и новые берега.
47
Несудьба (нерок), таким образом, совпадает с двуличным корнем из ожидаемого, но отсутствующего Хлебникова. Эта инверсия судеб объясняет, почему поэт называет себя тенью Разина (Я прихожу к вам тенью Разина);48 тень — иносказание нет-единицы.
тень — иносказание нет-единицы.
Осевая река судьбы названа Волгой (Ра): именно по ней судьболов замыслил добраться до истока своего бытия:
Населить свой парус, свою лодку юношей-моряком — отрицательным Разиным — то в шишаке, то в кумачёвой рубахе настежь так, чтобы грудь великих замыслов была распахнутой постелью, и оттуда смотреть в глубь реки — в тёмный мир омута, смотреть на тени, брошенные убегающим, испуганным раком.
— Эй! Двойник Разин, садись в лодку Меня, — быть лодкой мертвецу, умноженному на нет-единицу, — из кокоры моих суток, на скамейку моей жизни.
49
Плавание судьболова сродни “хождению” — это разные способы одного и того же поиска воскресших слов (этимологическое корнесловие) и восстания мёртвых (онтологическое корнесловие):
На гордом уструге нет-единицы плыть по душе Разина по широким волнам, будто по широкой реке ‹...›
50
— начинает Хлебников прозаический отрывок «Разин. Две Троицы». В «Досках судьбы» игрой языка Волга становится предвестницей “дестинологии”:
Судьба Волги даёт уроки судьбознанию.
51
К сожалению, французский язык не знает игры корней: франко-говорящий, пытаясь перевести лингвистические изобретения Хлебникова, вынужден передавать эту игру на греческом или латыни! Не потому ли, что корни родного языка “иссохли”? В понимании Хлебникова слово являет самую суть вещи, поэтому неудивительно, что его
корнесловие (ризология) относится и к языкознанию, и к природоведению одновременно. Сравним два подхода:
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить, вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призрак, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки — моё второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку.
52 И хитроумные Эвклиды и Лобачевский не назовут ли одиннадцатью нетленных истин корни русского языка? — в словах же увидят следы рабства рождению и смерти! назвав корни — божьим, слова же — делом рук человеческих
И хитроумные Эвклиды и Лобачевский не назовут ли одиннадцатью нетленных истин корни русского языка? — в словах же увидят следы рабства рождению и смерти! назвав корни — божьим, слова же — делом рук человеческих.
53
‹...›
Море призраков окружило меня ‹...›
Я сейчас окружённый призраками был 1 = √–человека.
54
И в том, и в другом случае речь идёт об отказе от надуманного (призрак) и повороте лицом к истине бытия (природа). В корнесловии Хлебникова традиционная этимология и метафизика слиты воедино. Именно это трансметафизическое и транслингвистическое предприятие, на наш взгляд, определяет радикальность хлебниковского поэтического дискурса.55
Воображаемое путешествие сливается с реальным (хождение) и на поверку оказывается встречным движением двух культур: Хлебников поднимается по Волге с юга на север, чтобы достичь европейской столицы на берегах Невы, но с противоположными Разину намерениями. Цель этого хождения не погром, а осмос (взаимопроникновение) Запада и Востока. Спускаясь по Волге в Персию, в низовьях реки он опять-таки “пересекается” с воображаемым Разиным. Используя хлебниковскую перестановку букв, поэт в этот период своего духовного странствия — назир,56 просвещённый пророк, исполняющий своё главное предназначение после долгих приготовлений. Река Ра здесь — психопомпа, которая уносит душу поэта за пределы отождествления с Египтом времён культа бога Ра, в великую мифическую страну восстания (Восток), к великим солнечным революциям.
просвещённый пророк, исполняющий своё главное предназначение после долгих приготовлений. Река Ра здесь — психопомпа, которая уносит душу поэта за пределы отождествления с Египтом времён культа бога Ра, в великую мифическую страну восстания (Восток), к великим солнечным революциям.
Вода
Посредством семасиологизации главного звука Хлебников конструирует “леттристскую” космогонию, помещая под рубрикой текучего
Л как водную стихию, так и начало свободы.
57
О
силовом приборе этой буквы читаем:
Л можно определить как уменьшение силы в каждой данной точке, вызванное ростом поля её приложения. Падающее тело останавливается, опираясь на достаточно большую поверхность. В общественном строе такому сдвигу отвечает сдвиг от думской России к советской России, так как новым строем вес власти разлит на несравненно более широкую площадь носителей власти: пловец-государство — на лодку широкого народовластья.58
Хлебниковская космогония, как и лингвистическая теория, на которой она основана, благоприятствует поэтическому претворению воды в свободу (и наоборот). Вот почему нет смысла говорить о “реализации метафоры”
59
в «Ночном обыске»,
60
где вооружённое восстание сродни
морю разливанному:
Нынче море разгулялось,
Море расходилось,
Море разошлось.
Экая сила.
Море разливанное,
Море — ноздри рваные,
Да разбойничье,
Беспокойничье.
Аж грозой кумачёвое,
Море беспокойничье,
Море Пугачёва.
Пей, море,
Гуляй, море,
Шире, больше!
Плещись!
Чтобы шумело море,
Море разливанное!61
Хлебников в черновом наброске автобиографического рассказа сетует:
Мой народ забыл море и, тщетно порываясь к свободе, забыл, что свобода — дочь моря.62
Следовательно, переходить от свободы к морю путём смещения обозначения (метафора) нелепо: они единосущны. Революция и водная стихия (море, река, озеро) подпадают под абстрактное понимание свободы как
воли моря.
63
Это определяет поэзию Хлебникова двояко:
— на уровне структуры,
64
создающей некий импульс к свободе, который проявляется не только посредством звуков языка, но и ритмически. Беглость определяет весь композиционный строй стихотворения, ставшего потоком свободных речений. Поэт — место, откуда извергается этот поток, он переживает больше, чем контролирует, и
мастерство его сводится к искусству самоустранения в ритме;
— на уровне темы восстания (это и есть предмет нашего анализа), которое перерастает под видом освобождённой стихии в апокалиптическую катастрофу, отголосок мифа о Потопе.
65
Если в «Ночи в окопе» и «Настоящем» море бушует, грозя
мором, то это происходит в ответ на “первородный грех” основателя новой столицы империи,
66
самодержавного противника и свободы народа, и свободы моря:
Сияли улиц белых просеки,
Держали кровли тяжкими руками
Трупы умершего моря.
Здесь море после смерти
Училось у людей:
Носило бороду и людям подражало.
И овощи нёс на голове
Бородатый труп моря.
А там вдали дымилися горячие поля ‹...›
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Треух немецкий, грозя грозе немецкой палкой,
Построил белый город из трупа морей.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В том городе русло свободной волны
Затянуто в доски умершего моря,
Мёртвые доски, как женщины грудь
Китовым усом, — и шеи площадей
Ночным ожерельем горят.
Из трупа морей эти львы,
С сердитой лапой,
И серые трупы ступеней
Вели к дворцам,
Покрытым в камень кружевняк.
67
Сугубое непонимание воли двух однородных, по сути, стихий в обоих случаях навлекает сильнеёшее наводнение. Уяснив это, видим, насколько разветвлена, и не без пародийного посыла, тема пушкинского «Медного всадника». Позиция автора не лишена двусмысленности: прямо Пётр и его преобразования не осуждаются („Люблю тебя, Петра творенье...”
68
), но между строк читаем, что поступок отца-основателя
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твёрдой стать при море.
69
есть приручение природы, равнозначное одомашниванию русского народа. И возмездие государственному насилию грянуло:
Над
возмущенною Невою ‹...›
‹...›
Мятежный шум
Невы и ветров раздавался ‹...›
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него ‹...›
70
Русский человек, как водится, отвечает безумием... Пушкин предостерегает:
‹...› С божией стихией
Царям не совладать.
71
И тут полемика Хлебникова с символизмом разгорается с новой силой. В стихотворении Брюсова «К медному всаднику» (1906) читаем:
Ты так же стоял здесь, обрызган и в пене,
Над тёмной равниной взмутившихся волн...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но северный город — как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь на коне.
72
Через несколько лет после Хлебникова Есенин в поэме «Песнь о великом походе» подхватит идею будетлянина — правда, в урезанном виде: у Есенина образ, названный в теоретическом эссе «Ключи Марии»73 „заставой”, то есть преградой, препятствует раскрытию подлинного смысла событий. Предчувствуя свой скорый конец, есенинский Пётр испытывает запоздалые угрызения совести:
„заставой”, то есть преградой, препятствует раскрытию подлинного смысла событий. Предчувствуя свой скорый конец, есенинский Пётр испытывает запоздалые угрызения совести:
Средь туманов сих
И цепных болот
Спится гибший мне
Трудовой народ.
Слышу, голос мне
По ночам звенит,
Что на их костях
Лёг тугой гранит.
. . . . . . . . . . .
Через двести лет,
В снеговой октябрь,
Затряслась Нева,
Подымая рябь.
Утром встал народ
И на бурю глядь:
На столбах висит
Сволочная знать.
74
После таких подделок под былину понимаешь, насколько прав был Тынянов:
Резонанс обманул Есенина. Его стихи — стихи для лёгкого чтения, но они в большей мере перестают быть стихами.
75
Вдумываясь в “потоп” и дальше, обнаруживаем все признаки мятежа на более глубоком уровне, уже не политическом, а гносеологическом: восстание чувств против разума. В поэме «Гибель Атлантиды»,76 написанной в 1910–1911 гг. (то есть задолго до революции 1917 года, но после баррикадных боёв 1905 года), Хлебников придаёт платоновскому мифу77
написанной в 1910–1911 гг. (то есть задолго до революции 1917 года, но после баррикадных боёв 1905 года), Хлебников придаёт платоновскому мифу77 философский размах, у греческого мыслителя отнюдь не наблюдаемый: Жрец, убивающий Рабыню, объясняет свой поступок следующим образом:
философский размах, у греческого мыслителя отнюдь не наблюдаемый: Жрец, убивающий Рабыню, объясняет свой поступок следующим образом:
Не так ли разум умерщвляет,
Сверша властительный закон,
Побеги страсти молодой?
Та, умирая, обещает
Взойти на страстный небосклон
Возмездья красною звездой!78
Разум одним ударом (Вдруг удар меча жреца79 ) губит самое главное: смысл жизни (Тайна жизни им погублена80
) губит самое главное: смысл жизни (Тайна жизни им погублена80 ). При этом законов неба пленник81
). При этом законов неба пленник81 с чувством исполненного долга убивает не просто продажную плясунью, а небесную гостью во плоти (У созвездья Водолея / Мы резвились и пели82
с чувством исполненного долга убивает не просто продажную плясунью, а небесную гостью во плоти (У созвездья Водолея / Мы резвились и пели82 ), запуская этим искупительный катаклизм: налицо измена Хлебникова самому себе как “служителю науки”. Строгая выверенность арифметических трактатов идёт кувырком в сметающем всё и вся наводнении поэзии — покушение на тайну жизни оборачивается гибелью исследователя. Поэзия — месть чувства разуму: жуть возмездия мерещится очевидцу то Медузой, то славянской русалкой, воплощениями древнего ужаса перед гневом природы. В «Гибели Атлантиды» Хлебников открыто спорит с Брюсовым. В «Жреце Изиды» последнего есть монолог Мудреца, прославленного чистотой,
), запуская этим искупительный катаклизм: налицо измена Хлебникова самому себе как “служителю науки”. Строгая выверенность арифметических трактатов идёт кувырком в сметающем всё и вся наводнении поэзии — покушение на тайну жизни оборачивается гибелью исследователя. Поэзия — месть чувства разуму: жуть возмездия мерещится очевидцу то Медузой, то славянской русалкой, воплощениями древнего ужаса перед гневом природы. В «Гибели Атлантиды» Хлебников открыто спорит с Брюсовым. В «Жреце Изиды» последнего есть монолог Мудреца, прославленного чистотой,
Я — жрец Изиды светлокудрой;
Я был воспитан в храме Фта,
И дал народ мне имя “мудрый”
За то, что жизнь моя чиста.
83
чья совесть терзается воспоминанием о „преступлении”: он не предотвратил самоубийство женщины, бросившейся в Нил. В «Жреце Изиды» есть персонаж, который заявляет, обращаясь к жрице:
В жажде ласки, в жажде страсти
Вся ты — тайна, вся ты — ложь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
У Астарты ты во власти,
Ты — её, ты — не моя!
84
Подобным образом
Рабыня в «Гибели Атлантиды» (которая, кстати говоря, считает себя ровней
Жрецу:
Ты и я — мы оба равны85
) оказывается и посланницей звёзд (
Он заметил тих и весел /
Звёзды истины на мне86
), и наймиткой страстей (
Рабыня я ночных веселий87
). Отрубленная голова
Рабыни, вознесшаяся над облаками в финале поэмы Хлебникова (
Змей сноп, глава окровавленная /
Бездна месть её зеленая88
), — точь-в-точь лик Медузы из одноименного стихотворения Брюсова:
Лик Медузы, лик грозящий,
Встал над далью тёмных дней,
Взор — кровавый, взор — горящий,
Волоса — сплетенья змей.
89
Неприятие Хлебниковым “лобовых трактовок” подобного рода приводит к включению символистских формул в проект, настолько разнящийся с исходным, что становится пародией на него. Вот почему В. Марков едва ли прав, отказывая “маленькой драме” «Гибель Атлантиды» в „идеологичности”.
90
Пьеса действительно лишена идеологии в том смысле, что со всей очевидностью не антисоветская или антисоциалистическая (так, по-видимому, В. Марков привык понимать прилагательное ‘идеологический’). И всё же «Гибель Атлантиды» „идеологична”, ибо в ней без труда обнаруживается хлебниковская философия (“идеология”) этого периода, весьма далёкая от воззрений властителей умов того времени. Разница между мыслью Хлебникова — такой, какова она в «Гибели Атлантиды» — и воззрениями поэта-символиста вполне очевидна при сравнении с упоминаниями Атлантиды тем же Брюсовым. Таковые обнародование хлебниковской поэмы в «Садке Судей II» (1912) отнюдь не предваряют: «Атлантида» (1913) и сгруппированные под заголовком «Отзвуки Атлантиды» «Зеницы Лабиринта» (1917), «Пирамиды» (1917), «Город вод» (1917) и «Эгейские вазы» (1916–1917). В «Городе вод» Брюсов, говоря об острове Атлантов, отчаянно смел:
Был, — но его совершенства
Грани предельной достигли,
Может быть, грань перешли...
И, исчерпав все блаженства,
Всё, что возможно постигли
Первые дети Земли.
Дерзко умы молодые
Дальше, вперёд посягнули,
К целям запретным стремясь...
Грозно восстали стихии,
В буре, и в громе, и в гуле
Мира нарушили связь.
91
и всё-таки плетётся в хвосте дерзновений Хлебникова (
не так ли разум умерщвляет ‹...›
92
); кроме того, на сей раз у Брюсова нет преимущественных прав первопроходца.
Из приведённых примеров неопровержимо следует, что уже в 1910 году (именно тогда задумана «Гибель Атлантиды») Хлебников приступил к поэтическому решению поставленной перед собой задачи, пародируя приёмы символистского дискурса.
Не следует упускать из виду ещё и то, что “первые звоночки” хлебниковского “восстания” современны Цусиме:
Законы времени, обещание найти которые было написано мною на берёзе (в селе Бурмакине, Ярославской губернии) при известии о Цусиме ‹...›
93
Погружение в пучину вод, таким образом, связано с идеей
возмездия (ср. стихотворение «Были вещи слишком сини»,
94
полемизирующее с «Цусимой» Брюсова
95
).
Памятуя о самоубийственной правоте Жреца в распре с Рабыней, вернёмся к троеборству Хлебникова, Разина и Лобачевского: кто выйдет победителем? Возьмёт ли Разин верх над Лобачевским? Нет, не возьмёт; и бунт разума, и восстание чувства караются одинаково: до конца дней совесть мятежника терзается ликом убиенной девы. Жизнь — молодая, свободная и страстная, трагически прерванная и вновь возникающая на пустом месте, — общая для фольклора и романтизма тема. Нет нужды напоминать популярную песню о персидской принцессе на пиратском челне96 или драму Пушкина «Русалка», чтобы показать, сколь многим обязан им Хлебников в разработке образа русалки, преследующем его как наваждение. Редкостная находчивость поэта-математика сказывается в метаморфозе, какую претерпевает у него вод невеста: от воплощённых мук совести (ср. стихотворение Брюсова «Русалка»97
или драму Пушкина «Русалка», чтобы показать, сколь многим обязан им Хлебников в разработке образа русалки, преследующем его как наваждение. Редкостная находчивость поэта-математика сказывается в метаморфозе, какую претерпевает у него вод невеста: от воплощённых мук совести (ср. стихотворение Брюсова «Русалка»97 ) до мнимого числа i, так что
) до мнимого числа i, так что
Хлебников × i = √–Хлебников = Разин!
Затем, и прежде всего, ценность «Гибели Атлантиды» состоит в необычайной отваге автора: Хлебников приравнял работу разума к лишению жизни и облёк это умопостроение в форму мифа (в том смысле, который мы вкладываем именно в платоновское повествование), обставив убийство
Рабыни таким образом, что жертва и палач (
Жрец), по сути, неразличимы (
Ты и я — мы оба равны98
).
Восстание как взрыв желания, ломающего устоявшийся ритм жизни, вызывает всплеск изначальной стихии влаги такой силы, что на какое-то время обнажается самое дно этой колыбели жизни. И тогда поэзия выводит на всеобщее обозрение то, что таится в безднах бессознательного и может быть озвучено разве что Сивиллой:
О, женщины! О, меньший брат,
Вас надо брать,
Какие вы есть,
Или время выест
Жизни сочный и весёлый плод,
Что качается всегда над рекой, где мысль о бессмер‹тии›
В нерадостный брег плот,
На стеблях мигов,
Всегда чуждых игол.
И там, где женщины, мы всегда с ними.
Мы вами, в вас лучшее с влаги жизни снимем.
Ах, нам несказуемо милый сон издавна снится!
И мила мигов малых колесница!99
Революция сродни такому отклонению орбиты Земли, когда всё живое на её поверхности гибнет (Платон, «Тимей»100 ). Удел бунтаря — сгинуть в тех самых волнах, что накликаны его творческим бесчинством; такова же суть мифа об Икаре, следы которого в поэзии Хлебникова дают нам право говорить о “солнечном комплексе” как богатом отголосками “комплексе Разина”. Жар солнца — антитеза стихии влаги: если светило губит, то лишь от избытка; его природа — скорее поэтическое разжигание революционного пыла.
). Удел бунтаря — сгинуть в тех самых волнах, что накликаны его творческим бесчинством; такова же суть мифа об Икаре, следы которого в поэзии Хлебникова дают нам право говорить о “солнечном комплексе” как богатом отголосками “комплексе Разина”. Жар солнца — антитеза стихии влаги: если светило губит, то лишь от избытка; его природа — скорее поэтическое разжигание революционного пыла.
Огонь
Огонь как стихия главенствует в понятийной остастке поэзии Хлебникова, излучая из центра личности автора его духовный мир:
Я вышел юношей один
В глухую ночь,
Покрытый до земли
Тугими волосами.. . . . . . . . . . . . .
Я волосы зажёг,
Бросался лоскутами колец,
Зажёг поля, деревья —
И стало веселей.
Горело Хлебникова поле,
И огненное я пылало в темноте.
101
Хлебникова поле горит, подобно Горячему полю, где собираются нищие Петербурга, приуготовляя на свалке старого мира взрыв, который обновит вселенную. Духовное восстание и социальный бунт начинаются с одного и того же высвобождения энергии, своими последствиями подобному вспышке сверхновой. Хлебников с хладнокровием астронома вглядывается в действие вселенского огня вокруг или внутри себя. Этот осмос, или, точнее, изначальное единство двух внутренних или внешних взрывов, оправдывает одновременность двух революций: если горят дворцы и усадьбы — книги следует бросить в огонь или, ещё лучше, броситься в жертвенный костёр самому:
Я видел, что чёрные Веды,
Коран и Евангелие
И в шёлковых досках
Книги монголов. . . . . . . . . . . . .
Сложили костёр
И сами легли на него.102
Сожжение книг указывает не только на культурную революцию (хотя, будучи гробницами мёртвых знаний,103 они с неизбежностью разделят судьбу отживших учреждений власти); связь между книгой и революцией более глубока и насыщена смыслом, чем проявления классовой ненависти, вызванной угнетением человека человеком. Книги — враги поэта, поскольку они задерживают появление того, чем он замыслил осчастливить землян: «Единой книги», т.е. природы как таковой, чьи основные законы следует изложить так, чтобы они стали понятны всем и каждому. Хлебниковская “библиомахия” обретает особенный размах, когда печатное слово имитирует всеобщее знание. Такого рода подделка удваивает пыл Хлебникова, подталкивая в том числе и к арифмологическим исследованиям. Таково «Искушение святого Антония», “убиваемое” по прочтении:
они с неизбежностью разделят судьбу отживших учреждений власти); связь между книгой и революцией более глубока и насыщена смыслом, чем проявления классовой ненависти, вызванной угнетением человека человеком. Книги — враги поэта, поскольку они задерживают появление того, чем он замыслил осчастливить землян: «Единой книги», т.е. природы как таковой, чьи основные законы следует изложить так, чтобы они стали понятны всем и каждому. Хлебниковская “библиомахия” обретает особенный размах, когда печатное слово имитирует всеобщее знание. Такого рода подделка удваивает пыл Хлебникова, подталкивая в том числе и к арифмологическим исследованиям. Таково «Искушение святого Антония», “убиваемое” по прочтении:
‹...›
Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо умирала у меня на глазах. Я выдумал новое освещение: я взял «Искушение святого Антония» Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при её свете прочитывая другую: множество имён, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в чёрный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я должен был так поступить. Я утопал в едком, белом дыму над жертвой. Имена, вероисповедания горели как сухой хворост. Волхвы, жрецы, пророки, бесователи — слабый улов в невод слов 1000 ‹человеческого рода, его волн и размеров›, —
все были связаны хворостом в руках жестокого жреца.‹...›
Я долго старался не замечать этой книги, но она, полная таинственного звука, скромно забралась на стол и, к моему ужасу, долго не сходила с него, спрятанная другими вещами. Только обратив её в пепел и вдруг получив внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то враг.104
Эта книга оказывается врагом Хлебникова; она, mutatis mutandis, для его творчества то же, что Разин для жизненного пути: обратного типа, но служащий той же цели поэтический приём. Разоблачение религиозных иллюзий в «Искушении святого Антония» выказывает подход, вполне, думается, соответствующий настроениям будетлянина:
Чтобы материя обладала такой большой силой, в ней должен быть дух. Души богов суть его проявления.
105
‹...›
Из семи планет две благоприятны, две зловредны, три так себе; всё в мире зависит от этих вечных светил. Их положение и движение даёт предзнаменование — и ты попадаешь в самое благополучное место на земле. Здесь встретились Пифагор и Зороастр. Вот уже двенадцать тысяч лет эти боги наблюдают за небом, чтобы лучше узнать Богов.
106
‹...›
Эти Боги даже в своих преступных воплощениях могут обладать истиной.
107
‹...›
Моё царство — вся Вселенная без изъятия; моё желание не знает границ. В непрестанном движении своём я дарую духу свободу и взвешиваю миры, без ненависти, без страха, без жалости, без любви и без Бога. Меня называют Наукой.
108
‹...›
Но всё, что происходит с тобой, совершается посредством твоего разума. Подобно вогнутому зеркалу, он искажает предметы — и у тебя нет возможности проверить его точность.
Ты никогда не познаешь Вселенную вполне; следовательно, не можешь иметь представления о её причине и правильного понятия о Боге, не можешь сказать даже, что Вселенная бесконечна, — ибо тебе для начала следовало бы познать бесконечность!
Возможно, форма — ошибка твоих чувств, а содержание — плод твоего вымысла.
Считать мир вещественным везде и всюду — заблуждение; видимость, однако, признают именно тем, что есть на самом деле; на её-то и полагаются, как на единственную реальность.
Но ты уверен, что видишь? ты вообще уверен, что живёшь? Может статься, и нет ничего!
109
Так вот, искушение Хлебникова состоит именно в том, чтобы поверить в возможность познания первообразов через призраки110 повседневной жизни! По его мнению, именно язык обеспечивает правильное восприятие сущностей: посредством языка можно не только познать, но и выговорить бытие (разумеется, речь идёт не об эмпирическом, а о металогическом языке).111
повседневной жизни! По его мнению, именно язык обеспечивает правильное восприятие сущностей: посредством языка можно не только познать, но и выговорить бытие (разумеется, речь идёт не об эмпирическом, а о металогическом языке).111 Напомним, что первым искушением Хлебникова была наивная вера (и тут, несомненно, он действительно вправе считать себя грешником) в то, что “клеточное деление” языка, распухание словаря путём беспорядочного нагромождения неологизмов однозначно соответствует зарождению материи как таковой, провозглашённом Антонием в “классическом” откровении, завершающем цикл его видений:
Напомним, что первым искушением Хлебникова была наивная вера (и тут, несомненно, он действительно вправе считать себя грешником) в то, что “клеточное деление” языка, распухание словаря путём беспорядочного нагромождения неологизмов однозначно соответствует зарождению материи как таковой, провозглашённом Антонием в “классическом” откровении, завершающем цикл его видений:
О счастье! счастье! я видел, как зарождается жизнь, я видел начало движения. Кровь в моих жилах бьётся так сильно, что вот-вот разорвёт их. Мне хочется летать, плавать, лаять, мычать, выть. Я хотел бы иметь крылья, панцирь, кору, извергать дым, носить хобот, извиваться телом, распространяться всюду, быть во всём, источать запахи, расти, как растение, течь, как вода, вибрировать, как звук, сиять, как свет, прижимается ко всем формам, проникать в каждый атом, спуститься на самое дно материи — быть материей.
112
В «Искушении грешника»,113 своём первом выходе к читателю, Хлебников сделал попытку передать то же лихорадочное головокружение от материи посредством бесконечного словесного изобилия.114
своём первом выходе к читателю, Хлебников сделал попытку передать то же лихорадочное головокружение от материи посредством бесконечного словесного изобилия.114
И видения всё учащались и учащались, и после видения и вытаскивания обратно проглоченного кем-то куска бессмертия, с помощью крючка и при звуках общего хохота — после метели ужасных и страховидных кумиров был Ястмир Людноногий, парящий над всем, и расхаживал некий мирач, никем не мнимый, но оставляющий порой пером ужас о своем существовании.
И ответным клёкотом клектал Ястлюд, срывающий клювом человечествянную пену с людяного моря. И повсюду летали пустотелые с бесбытийными взорами враны и всё сущее было лишь дупла в дебле пустоты. И молчаниехвостый вран туда и сюда летал над опустелыми жуткими нивами. И была кривдистая правда, и качались грусточки над озером грустин, и был умночий пущи зол, и ужас стоял в полях мыслеземных, и пение луков меняубийц... Волк-следотворец завыл, увидел стожаророгого оленя. И вся вселенная была широко раскрытый клюв ворона.
И с её лица не сходила овселеннелая улыбка сил, и время не уставало держать под рукой чёрный костыль ‹...›
115
Грех молодости, без сомнения, напрямую связан с верой в действенность слова, задуманного как мимесис бытия. Поэт, достигший зрелости как “человек науки”, в этом смысле, надо полагать, образумился; но не впадет ли он в рецидив, оставив наивную “глоссолалию” 1908 года ради метаязыка, отзывающегося “фонемолалией”?.. Но тогда не приходится удивляться, что сожжение книг в 1918 году — всё то же следствие литературных “разборок”:
‹...›
Как гальки в прозрачной волне, перекатывались эти стёртые имена людских грёз и быта в мерной речи Флобера.
116
“”Революция, произведённая Хлебниковым, исключает всякую легитимность литературы, которая отсылала бы к реальности: в то время Хлебников уверился, что доступ в ней возможен только через цифры или зашифрованное письмо (заумный язык). А уж как эта реальность ускользает от мерной речи! Хлебниковский подход к делу исключает весь литературный дискурс: книги горят, а вместе с ними обращается в пепел и художественный “лепет”. Революционное всесожжение оголяет умный череп словесности;117 в наготе, как и в нищете, коренится правда восстания.
в наготе, как и в нищете, коренится правда восстания.
Солнце — истина, затмеваемая паразитирующими телами (отжившими учреждениями власти, старым языком) или незримая вследствие усталой сетчатки старческого глаза. Хлебников “горит”, чтобы обнажиться, и обнажается, чтобы принести жертву солнцу:
— своим телом:
Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.
А я снял рубаху
И каждый зеркальный небоскрёб моего волоса,
Каждая скважина
Города тела
Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня государства, Тысячеоконных кудрей толпились у окон,
Ольги и Игори,
Не по заказу,
Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу.
Пала темница рубашки!
A я просто снял рубашку:
Дал солнце народам меня!
Голый стоял около моря. —
Так я дарил народам свободу,
Толпам загара.118
— или посредством языка, орудия познания световой природы человека:
‹...› Попытаемся с помощью языка измерить длину волн добра и зла. Мудростью языка уже давно вскрыта световая природа мира. Его “я” совпадает с жизнью света. Сквозь нравы сквозит огонь. Человек живёт на “белом свете” с его предельной скоростью 300 000 километров и мечтает о “том свете” со скоростью большей скорости света? Мудрость языка шла впереди мудрости наук. Вот два столбца, где языком рассказана световая природа нравов, а человек понят, как световое явление, здесь человек — часть световой области.
| “Тот свет” | “Начало относительности” |
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
| Воскресать | Кресало и огниво |
| Дело, душа | День |
| Молодость, молодец | Молния |
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
| Солодка, сладость | Солнце, солния |
| Сой, семья, сын, семя | Сиять, солнце |
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
| Святой, “светик” | Свет119 |
В этой “гелиакальной” концепции будущего восстания мы находим один из узлов, где неразрывно сплетены некоторые навязчивые идеи поэта. В рассказе «Лубны» он оставил нам важнейшее психологическое свидетельство своей тяги к Огню (как метафизическому принципу), которое словно сошло со страниц «Психоанализа Огня»:
120
И в грозном гуле этих звуков, углом подымающихся над миром падающих с неба на мир лавой, скрыт‹о›
обещание про день огня победителя, в них скрыты предтеча и знаменье милое сердцу народа. Огневая ли природа усопших, дальние ли объятия смерти солнца? Ведь живое более походит на землю, чем мёртвое. И схватка огня и земли, увенчанная победой огня, раскрывшего крышки земных гробов и сожегшего их, вот, что как (нрзб.)
волнует вас после (нрзб.).
Он придёт, этот гневный вождь — красный багряный огонь. Если смерть — разлука огня и земного воска, то здесь слышится возврат огневого человечества.
121
Именно в размышлениях о новом поэтическом языке раскрывается очарование феномена воспламенения:
Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока мы не умеем определить что создаст эту скорость. Но знаем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, зажигает настоящее.
В «Кузнечике», в «Бобэоби», в «О, рассмейтесь» были узлы будущего — малый выход бога огня и его весёлый плеск. Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова.
122
Восставший исполняет волю солнца:
Но мы улыбнёмся как боги
И покажем рукою на Солнце.
Поволоките его на верёвке для собак,
Повесьте его на словах:
Равенство, братство, свобода,
Судите его вашим судом судомоек
За то, что в преддверьи
Очень улыбчивой весны
Оно вложило в нас эти красные мысли,
Эти слова и дало
Эти гневные взоры.
Виновник — оно.
Ведь мы исполняем солнечный шопот,
Когда врываемся к вам, как
Главноуполномоченные его приказов,
Его строгих велений.
123
Страна восстания, где свершилось открытие законов времени (тех самых, которые определяют переворот в понимании времени), — страна Огня:
‹...›
Я хотел найти ключ к часам человечества, быть его часовщиком, и наметить основы предвидения будущего. Это было на родине первого знакомства людей с огнём и приручения его в домашнее животное. В стране огней — Азербайджане — огонь меняет свой исконный лик. Он не падает с неба диким божищем, наводящим страх божеством, а кротким цветком выходит из земли, как бы прося и называясь приручить и сорвать его.
В первый день весны 20-ого года я был на поклоне вечным огням ‹...›
124
Если повстанец-будетлянин повелевает солнцами:
Клянемся, что наши властные приказания никогда не будут нарушены покорными солнцами!
— Так велики современные владения будетлян — отныне небоводцев (скотоводство приелось).
Ведь мы — пастухи звёзд!125
да ещё и называет себя солцеловом, причина этого в том, что поэтическое творчество выглядит как “приручение огня”, произведение вспыхивает, как разряд молнии, управляемый разумом:
Моё мнение о стихах сводится к напоминанию о родстве стиха и стихии.
Это гневное солнце, ударяющее мечом или хлопушкой по людским волнам. Вообще молния (разряд) может пройти во всех направлениях, но на самом деле она пройдёт там, где соединит две стихии.126 Творчество — это искра между избытком счастья певца и несчастьем толпы
Творчество — это искра между избытком счастья певца и несчастьем толпы.
127
Родина будетлян, хлебниковская Ухрония, названа Солнцестаном:
Мы входим в город Солнцестана,
Где только мера и длина,
Где небо пролито из синего кувшина
Из рук русалки тёмной площади ‹...›
128
Город будущего — архитектурная метафора растительного гелиотропизма:
Мы, сидящие в седле, зовём: туда, где стеклянные подсолнечники в железных кустарниках, где города, стройные как невод на морском берегу, стеклянные как чернильница, ведут междоусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир растений; “посолонь” ужасно написано в них азбукой согласных из железа и гласных из стекла.
129
Будетлянское восстание и здесь оказалось противоречивым: оно заявляет гелиолалию как основной принцип,
130
но в то же время вступает в противоборство с Солнцем: гелиолалия, сочетаемая с симметричной ей гелиомахией, — вот едва ли не главная примета футуристской деятельности, мыслимой как мужская узурпация творчества.
131
Хлебниковская космогония предлагает в регистре мифа ту же борьбу за демиургическое превосходство. Таким образом, орочанский миф об убийстве двух солнц подпитывает хлебниковский миф о солнечной битве в том виде, в каком он разворачивается в первом
парусе «Детей Выдры»,
132
и становится в стихотворении «Пламёна» аллегорией любовной борьбы:
Своим серебряным крылом
Я бурю резал, как мечом.
И в этот миг, когда я солнце кромкое убил
И брызнула на землю кровь,
Мне кто-то шептал, что я любил,
Что то была земная первая любовь.
133
Язык (заумный, разумеется) — носитель идеи восстания: взрывчатость металогического языка есть прообраз революционного взрыва:
П — движение, рождённое разностью давлений: порох, пушка, пить, пустой. Переход вещества из насыщенного силой давления в ненасыщенное, пустое, из сжатого состояния в рассеянное. Пена, пузырь, прах, пыль. П по значению обратно К. Кузнец сковывает, печь, пушка, порох, пыль, пена, пузырь, пуля — рассеивают прежде собранное вещество. При П мы имеем свободные в одном измерении пути для движения вещества от сильного давления в слабое. Например: печь, пищаль, пушка, пружина, право, путь, падь, пузо, пасть, горло для питья и пищи, пасти, править для разности давлений воль, палить. В печи дрова обращаются в дым. Перун maximum воли и давления.
134
Как это водится у Хлебникова, эмблема взрыва дана в мифологическом ключе: Перун
135
— древнеславянский бог-громовержец. Перун (подобно Лобачевскому или Разину) становится олицетворением (и языческим, и славянским) восстания как выстрела, т.е. опять-таки взрыва:
Пою,
Что палки бросает Перун,
Паря, точно палка себя,
Из точки пустоты,
Как палка пустоты,
Пышет пальбою тех пуль,
Что пламенем стали полых
Пилок пения пороха.
136
Поэтический язык (пение) — пространство взрыва дискурса — может, таким образом, посредством “грамматомии” с предельной полнотой отобразить политическую революцию, классовую борьбу:
Пэ — двигающее начало и сила.
Холоп — рабочий пар паровоза,
Где женщиной нежится холя,
Пересекая мир сотней колес баловства.
Холоп — двигающая сила
Холи пана,
Пружина, подымающая холю пана,
Рабочее пламя, посылающее пулю
Панской воли в лоб неба,
Он порох, делающий пение пана.
Пружина, посох все опоры
Для холи пана,
Вы сливаете ваши голоса
И пламенем звучите в Пэ.
137
Читатель Кеплера, поэт-звездочёт,138 Хлебников знает, что революция — прежде всего астрономическое явление и, в конечном счёте, есть лишь метафора для внутреннего пользования пастуха звёзд (ведь мы— пастухи звёзд!139
Хлебников знает, что революция — прежде всего астрономическое явление и, в конечном счёте, есть лишь метафора для внутреннего пользования пастуха звёзд (ведь мы— пастухи звёзд!139 ), нисходящего из круга природы в круг культуры.140
), нисходящего из круга природы в круг культуры.140 Пылая в ночном одиночестве, Хлебников призывает Россию сделать его, революционера до мозга костей, образцом для подражания:
Пылая в ночном одиночестве, Хлебников призывает Россию сделать его, революционера до мозга костей, образцом для подражания:
Мой белый божественный мозг
Я отдал, Россия, тебе:
Будь мною, будь Хлебниковым.
141
Революция как оргия
Восстание немыслимо вне метафизического измерения, которое одно только и позволяет без оговорок считать его вторжением свободы в “быт”.
142
Вот почему восстание, чтобы обрести совершенство, должно закончиться богоубийством. Буйство (разгул) стихии (воды или огня) — оргиастическая мистерия, направленная на уничтожение препятствий на пути к всеобъемлющей свободе. Главная из таких препон — христианский Бог в ипостаси женственности, которая в поэзии Хлебникова обеспечивает разрядку мятежной энергии мужчины. Налицо, таким образом, коренное отличие хлебниковского предприятия от богоборчества его современников: у Маяковского и Есенина борьба с Богом направлена на Его низложение, но сам принцип власти при этом под сомнение не ставится. Для Хлебникова же “богоборчество” — не более чем противостояние Творцу, всегда присутствующее в области божественного; такой подход ни в коем случае нельзя признать образцовым богоубийством, которое одно только и гарантирует истребление самой идеи Бога. Разумеется, это предприятие не лишено противоречий, как и многие другие начинания поэта. В «Ночном обыске»
143
вся двусмысленность отношения восставших к Богу раскрыта в оргиастическом обряде, где воедино слились праздник, смерть, богохульство и пламя.
Матросы (море разливанное) революции, называющие себя убийцами святыми после расстрела белого господина, кощунствуют вдвойне: оскорбляют не только жертву расправы, но и Спасителя:
О боже, боже!
Дай мне закурить.. . . . . . . . . . . . . . . .
Даром у него
Такие тёмно-синие глаза,
Что хочется влюбиться
Как в девушку.
И девушек лицо у бога,
Но только бородатое.. . . . . . . . . . . . . . . .
Глаза предрассветной синевы
И вещие и тихие
И строги и прекрасны,
И нежные несказанной речью,
И тихо смотрят вниз
Укорной тайной,
На нас, на всю ватагу
Убийц святых,
На нашу пьянку
Убийц святых.
144
Далее следует вызов на поединок, цель которого — победа над смертью:
Даёшь мне в лоб, бог девичий,
Ведь те же семь зарядов у тебя.. . . . . . . . . . . . . . . .
Как этот мальчик крикнул мне,
Смеясь беспечно
В упор обойме смерти.
Я в жизнь его ворвался и убил,
Как тёмное ночное божество.
Но побеждён его был звонким смехом,
Где стёкла юности звенели.
Теперь я бога победить хочу
Весёлым смехом той же силы,
Хоть мрачно мне
Сейчас и тяжко.
И трудно мне.
145
Матрос выходит из противостояния победителем, спокойно встречая смерть:
Горим! Спасите! Дым!
A я доволен и спокоен.
Стою, кручу усы и всё как надо.
Спаситель! Ты дурак.
146
Преодоление страха смерти становится актом духовного раскрепощения, который дарует человека ему самому и лишает потребности в Боге. Заметим, что в «Ночном обыске» пример освобождения от метафизических страданий своим бесстрашием подаёт белый господин, а не товарищи братва: но даже это не главное противоречие поэмы. По мнению автора, Христос и Дионис тесно связаны:147 восстание должно освободить Бога от страданий, на которые он обречён духовным рабством человека и утратой им цельности. Таким образом, именно убийство Бога позволяет реализовать высший “естественный” закон, заявленный поэтом: торжество “языческой” религиозной мысли, которая включает в себя древнюю религию, поскольку считает поток энергии единственной космической реальностью. Гибель христианского Бога в оргии восстания подразумевает воскрешение древних богов вселенского язычества (с заметным, однако, пристрастием к славянским божествам) в той мере, в какой последние выступают в качестве столпов “энергийной” Вселенной:
восстание должно освободить Бога от страданий, на которые он обречён духовным рабством человека и утратой им цельности. Таким образом, именно убийство Бога позволяет реализовать высший “естественный” закон, заявленный поэтом: торжество “языческой” религиозной мысли, которая включает в себя древнюю религию, поскольку считает поток энергии единственной космической реальностью. Гибель христианского Бога в оргии восстания подразумевает воскрешение древних богов вселенского язычества (с заметным, однако, пристрастием к славянским божествам) в той мере, в какой последние выступают в качестве столпов “энергийной” Вселенной:
Туда, туда, где Изанаги
Читала моногатори Перуну,
А Эрот сел на колени Шангти
И седой хохол на лысой голове
Бога походит на снег,
Где Амур целует Маа-Эму,
А Тиен беседует с Индрой,
Где Юнона с Цинтекуатлем
Смотрят Корреджио
И восхищены Мурилльо,
Где Ункулукулу и Тор
Играют мирно в шашки,
Облокотись на руку,
И Хоккусаем восхищена
Астарта — туда, туда!148
Ранее мы видели, как вооружённое восстание не только волю даёт, но и возводит Перуна в символ:
Парусом песен,
Пламенной палкой питая
Пасть пустоты
Пирующий пламенем
Праведный парень,
Пылкий Перун.149
“Боги на кончике пера”, т.е. вымышленные по образцу древних, исторически засвидетельствованных языческих богов (таков Перун), способны с той же лёгкостью структурировать повстанческий пыл, столь милый поэту:
Жарбог! Жарбог!
Я в тебя грезитвой мечу
Дола славный стаедей,
О, взметни ты мне навстречу
Стаю вольных жарирей.
Жарбог! Жарбог!
Волю видеть огнезарную,
Стаю лёгких жарирей,
Дабы радугой стожарною
Вспыхнул морок наших дней.
150
Восстановление разноплеменной языческой мифологии служит двоякой цели: с одной стороны, речь идёт о борьбе посредством виталистского язычества с засильем религии, задача которой состоит в укрощении природы, с другой — реабилитационное предприятие это раскрывает чисто аллегорическую ценность всех вероучений, что представляется способом показать их онтологическую бессмысленность. Религия, подобно искусству, лежит на периферии точного знания; наука, опровергая заблуждения и предрассудки, не снимает их полностью с повестки дня, что позволяет ей полнее выразить истину:
Человечество, как явление протекающее во времени, сознавало власть его чистых законов, но закрепляло чувство подданства посредством повторных враждующих вероучений, стараясь изобразить дух времени краской слова.
Учение о добре и зле, Аримане и Ормузде, грядущем возмездии, это были желания говорить о времени, не имея меры, некоторого аршина, как краска ведром.
Итак, лицо времени писалось словами на старых холстах Корана, Вед, Доброй Вести и других учений. Здесь, в чистых законах времени, тоже великое лицо набрасывается кистью числа и таким образом применён другой подход к делу предшественников. На полотно ложится не слово, а точное число, в качестве художественного мазка, живописующего лицо времени. Таким образом, в древнем занятии времямаза произошел некоторый сдвиг.
Откинув огулы слов, времямаз держит в руках точный аршин.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
То, о чём говорили древние вероучения, грозили, именем возмездия, делается простой и жестокой силой этого уравнения; в его сухом языке заперто: „Мне отмщение и аз воздам” и грозный, непрощающий Иегова древних.
Весь закон Моисея и весь Коран, пожалуй, укладывается в железную силу этого уравнения. Но сколько сберегается чернил! Как отдыхает чернильница! В этом поступательный рост столетий.151
Как видим, хлебниковская теогония, обратная обожествлению, имеет высокую поэтическую ценность: синкретизм космогонических мифов призван, по мнению поэта, выявить силы, высвобождаемые из языка;
152
смешение и перестановка, осуществляемые поэзией в религиозной “материи”, должны придать
физике образность вероучения. Только бунтарский порыв способен восстановить первобытное “монофизитство” во всём его объёме:
Двинемся вместе к огненным песням.
Все за свободу — вперёд!
Если погибнем — воскреснем!
Каждый потом оживёт.
Двинемся в путь очарованный,
Гулким внимая шагам.
Если же боги закованы,
Волю дадим и богам.
153
Так вот в чём смысл борьбы святого Антония с искушением: погружение в материю сопровождается исчезновением всех богов. Человек, воссоединившийся с самим собой, со своей природой — следовательно, с природой как таковой — воистину не нуждается в богах: насельник онтологической автаркии сохраняет их лишь как удобную эмблему своей собственной божественности:
Точное изучение времени приводит к раздвоению человечества, так как собрание свойств, приписывавшихся раньше божествам, достигается изучением самого себя, а такое изучение и есть нечто иное, как человечество, верующее в человечество.154 О, люди, люди!... Если бы вы поняли, что наша божественная власть зависит от вас и вне вас — призрак.155
О, люди, люди!... Если бы вы поняли, что наша божественная власть зависит от вас и вне вас — призрак.155
Возмездие
Равновесие — великий принцип движения: всё, что перемещается в пространстве, стремится к покою как состоянию совершенства. Восстание обеспечивает регулирование истории, в которой противоборствуют силы, уравновешивающие друг друга. Революция — восстановление всеобщего порядка посредством беспорядка, сам избыток которого благотворен. Именно такой подход к делу Хлебников называет местью или возмездием; перевод этого понятия как ‘воздаяние’ передаёт лишь этическую его сторону, не раскрывая подоплёку научности, вменённую поэтом.
Поступок и наказание, дело и возмездие.
Если в первую точку умирает жертва
Через 3 умирает убийца.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Теперь докажем нашу истину, что событие, достигшее возраста 3n дней меняет свой знак на оборотный (множитель да-единица как указатель пути сменяется множителем нет единицей (+1 и –1), что через повторные времена числового строения 3n события относятся друг к другу как два встречных поезда, идущих по одному и тому же пути, на малых степенях n.
Если крупные показатели степени заняты пляской и плеском государств, управляют своей палочкой большим гопаком нашествий, переселением народов, то малые относятся к жизни отдельных людей, управляя возмездием, или сдвигами в строении общества, давая в числах древний подлинник, древние доски своего перевода на язык слов.
„Мне отмщение и аз воздам”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Движению давался порог, преграда, остановка, побеждённому победа, победителю поражение. Событие делало поворот на 2d, два прямых угла, и давало отрицательный перелом времени. Полночь события становилась его полднем, и вскрывался стройный, тикающий пылающими взорванными столицами государств, ход часов человечества.156
Может статься, восприимчивость Хлебникова сыграла с ним злую шутку и здесь: зачем, в самом деле, скрывать под маской объективной научности сострадание к жертвам социальной несправедливости? Месть как мутация сил и восстановление равновесия теоретических сочинений или “научных” доктрин Хлебникова предстаёт в его поэзии явлением гораздо бóльшим, нежели заурядная компенсация: отмщение оборачивается безжалостным убийством, совершаемым как единственно возможный ответ низов общества на вековое угнетение.157 Жертвами восстания становятся вчерашние властители: переворот дел человеческих заканчивается катастрофой по закону возврата, изложенному в математических уравнениях и воспетому в «Интернационале» (хлебниковском Международнике):
Жертвами восстания становятся вчерашние властители: переворот дел человеческих заканчивается катастрофой по закону возврата, изложенному в математических уравнениях и воспетому в «Интернационале» (хлебниковском Международнике):
Когда сам бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
Вперёд, колодники земли,
Вперёд, добыча голодовки.
Кто трудится в пыли,
А урожай снимает ловкий.
Вперёд, колодники земли,
Вперёд, свобода голодать,
А вам, продажи короли,
Глаза оставлены — рыдать.158
Орудием перехода от старого состояния к новому в поэзии Хлебникова оказывается нож, отточенное лезвие которого возводится в ранг солнечной эмблемы — острия, пронзающего сынов тьмы в гигантомахии апокалипсиса:
Наш нож!
— Нате!
Гож нож!
Эй толпы людей!
Гож нож!
Знайте,
В мозгу
Зарубите.. . . . . . . . . .
О, красавец, длинный нож,
В сердце барина хорош!
Ножом вас потчую
Простая девка:
Я прачка,чернорабочая!
Ай хорош, ай хорош!
Нож.159 За нож, ножом
За нож, ножом
С нарядом драться
Пора!
За железное дело Смело
Браться!
— Браться!160
. . . . . . . . . . . . . . . .
Мы писатели ножом,
Тай-тай, тара-тай!161
Само повторение этого мотива в стихах, “темой” которых заявлена социальная революция, обеспечивает ему видное место в повстанческой мифологии наряду с фигурами Разина, Лобачевского или такими стихиями, как вода и огонь: это оружие повстанческого обряда, орудие убийства, которое приносит свободу:
Жарко ждут ножи —
Они зеркало воли.162
Вторжение воли в историю вздымает месть до высот метафизической борьбы со временем. Месть предопределяет возможность перехода от сиюминутного порядка к порядку вечному; это и есть возмездие восстания, которое с самого начала ставит перед собой целью победу над главным врагом: смертью. В этом акте “избавления” от “времени, пожирающего своих детей” раскрывается правда хлебниковского восстания и значимость его итога: переворота в понимании времени. Пророк с новыми “скрижалями судьбы” наверняка не оставил без внимания наставления Заратустры из чернильницы Ницше:
“Было”: так называется скрежет зубов и неизбывное страдание воли. Бессильная против содеянного, она лишь злобствует, озирая минувшее.
Воля не способна действовать в обратном направлении; невозможность взнуздать время и остановить его ход — в этом её неизбывное страдание.
Желание избавляет: чего только не навыдумывает воля, чтобы забыть свои злоключения и посмеяться над темницей своей.
Увы! каждый узник сходит с ума! Та же участь ждёт пленницу волю: свобода через безумие.
Время не идёт вспять, в этом гнев его; “было” — так называется камень, который воле никогда не поднять.
Остаётся катить этот камень на тех, кто не пылает яростью и злобой, подобно ей.
Так свирепствует обезумевшая воля; она вымещает на первом встречном своё бессилие повернуть время вспять.
Это, и только это, есть подлинная месть: избавление воли от времени и его “было”.
163
Восстание, по мысли Хлебникова, начинается отказом от ложного понимания смерти, неизбежного удела человека. Отсюда вневремéнность колорита “советских” стихов, следствие метафизической медитации не принадлежащего ни к одному политическому лагерю автора: фаза ненависти (революции, гражданской войны) — не более чем шаг к добровольному сплочению рода людей в давно задуманное целое. Так, во всяком случае, думает „кремлёвский мечтатель”, бросающий свою рать алую в атаку на прошлецов и вчерахарей:
Она одна, стезя железная!
Долой беседа бесполезная.
Настанет срок, — и за царём
И я уйду в страну теней.
Тогда беседе час. Умрём,
И все увидим, став умней.164
Один из таких вчерахарей, Великий князь, размышляет о своей судьбе:
Да, настежь ко всему людей пророческие очи!
Прийдёт ли смерть, загадочная сводня,
И лезвием по горлу защекочет,
Я всё приму сегодня,
Чего смерть ни захочет.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Смерть! Я — белая страница!
Чего ты хочешь — напиши!
Какое нынче вдохновение её прихода современнее?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Часов времен прибою внемля,
Подкошенный подсолнух я
Сегодня падаю на землю.
И вот я смерти кмотр.
Душа моя готовится на смотр
Отдать отчёт в своих делах.165
Пребывая вне времени, каменная баба взирает незрячими глазами на суету людскую:
Чтоб путник знал о старожиле,
Три девы степи сторожили,
Как жрицы радостной пустыни.
Но руки каменной богини
Держали ног суровый камень,
Они зернистыми руками
К ногам суровым опускались
И плоско-мёртвыми глазами
Былых таинственных свиданий
Смотрели каменные бабы.
Смотрело
Каменное тело
На человеческое дело.166
Найдёт ли будетлянское восстание своё завершение в таинственном молчании каменного истукана? Не станет ли окаменение верхом совершенства мысли, страстно влекущейся к единому, знаком “обретённой вечности”? Но сама динамика передающей восстание хлебниковской поэзии, самый ритм поэтической мысли, которая рассматривает покой лишь как фигуру танца Вечного Возвращения, это исключает:
Камень кумирный, вставай и играй!
Игор игрою и грома, —
Раньше слепец, сторож овец,
Смело смотри большим мотыльком,
Видящим Млечным Путём.
Ведь пели пули в глыб лоб, без злобы, чтобы
Сбросил оковы гроб мотыльковый, падал в гробы гроб.
Гоп! Гоп! В небо прыгай гроб!
Камень шагай, звёзды кружи гопаком.
В небо смотри мотыльком.
Помни пока эти весёлые звёзды, пламя блистающих звезд,
На голубом сапоге гопака
Шляпкою блещущий гвоздь.
Более радуг в цвета!
Бурного лёта лета!
Дева степей уж не та!167
Но на этом этапе анализа революция преобразуется в тождество с гармонией новой поэтической структуры — ритма.
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1 СП
1 СП V: 318.
 2
2 Kant, préface de la 2
e édition de la
Critique de la Raison pure, p. 18–19 //
Kant. Critique de la Raison pure.
Paris: PUF. 1965).
 3
3 „Кронос — это царство абстрактного Времени, пожирающего своих детей” (
Hegel. Philosophie der Geschichte.
Reclam. 1961. P. 347). Гегель, очевидно, обыгрывает фонетическую близость Кроноса (
Κρόνος ), отца богов, и Хроноса (
χρόνος ), Времени. Таковое в греческой мифологии ни божеством, ни, тем более, “теофагом” не является, однако обаяние поэтических приёмов настолько велико, что философ не погнушался прибегнуть к парономазии для подкрепления аргумента.
 4
4 Письмо Г.Н. Петникову (
СП V: 313).
 5
5 Выражение заимствовано у Роналда Вроона, см.:
Ronald Vroon. “Seashore” and the Razin Constellation // Russian Literature Triquarterly, n° 12, 1975, p. 295–326).
 6
6 Именно этот удачный синтез поэзии, науки и практики (фактически успешный на поэтическом уровне синтез науки и практики) в наибольшей степени отличает системы Хлебникова и Рембо. Хлебников отрицает Верлена, который связывал поэзию и бунт с унижением и поражением (см.:
Verlaine. Les vaincus // Œuvres poétiques complètes. Bibliothèque de la Pléiade. P. 336–339), трактуя изначальное «Les Poètes» на новый лад после разгрома Парижской Коммуны. Для Хлебникова Разин и Лобачевский — два лика поэта-победителя.
 7 СП
7 СП I: 184.
 8 НП
8 НП: 207.
 9
9 Вот кого Хлебников называет
будетлянами:
Думалось о том времени, когда единая для всего земного шара школа-газета будет разносить по радио одни и те же чтения, выслушиваемые через граммофон и составленные собранием лучших умов человечества, верховным советом Воинов Разума.
Открытие народного университета (НП: 351)
Он сам иногда подписывает свои письма
Воин будущего (см. письмо Е. Гуро от января 1913 г.,
НП: 364).
 10
10 Или разумом ты нищий,
Богатырь без головы?
Уструг Разина (СП I: 249)
 11
11 Зангези. Плоскость IX (
СП III: 337).
 12
12 В поэме «Прачка»:
Мы писатели ножом (
СП III: 257).
 13
13 Труба Гуль-муллы (
СП I: 234).
 14
14 Разница между фигурами Разина у Хлебникова и у Каменского (или Пугачёва у Есенина) огромна. Пугачёв у Есенина (поэма «Пугачёв» //
С. Есенин. Собрание сочинений в 5-и томах. Т. II.
М. 1966. С. 153–192) или Разин у Каменского («Стенька Разин» — эта поэма неоднократно перерабатывалась, здесь имеется в виду первая полная редакция «Сердце народное — Стенька Разин».
М. 1918 //
В. Каменский Стихотворения и поэмы.
М.–Л. 1966. С. 457–474) — исторические личности, “драпирующие” лирическую речь “революционной фразой”. Для Хлебникова Разин — мифическая фигура, функциональное значение которой не исчерпывается революционной символикой; он ни в коем случае не является лирическим героем поэмы. (Ср. суждение О. Брика о Хлебникове в Russian Literature Triquarterly, n° 12, 1975, p. 231): „Он (Хлебников) ни в коей мере, ни в малейшей степени не был лириком ‹...› Слово для него менее всего было “выразительным средством”, слугой мысли и чувства”.
 15
15 Труба Гуль-муллы (
СП I: 234).
 16
16 Отрывок из Досок судьбы (
SPM III: 474, 477).
 17
17 Разин. Две Троицы (
СП IV: 146).
 18
18 Разин (
СП I: 202).
 19
19 Эта теория панхронии перекликается с учением Н. Фёдорова (Философия общего дела //
Н.П. Федоров. Сочинения в 2-х томах.
М. 1913). Однако для Хлебникова теория всегда начинается с размышления о языке, причём право голоса даётся именно понятиям метафизики. См. статью «З и его околица» (
НП: 346–347).
 20
20 Скуфья скифа (
СП IV: 84).
 21
21 Ка (
СП IV: 48).
 22
22 З и его околица (
НП: 346–347).
 23
23 Ка (
СП IV: 49).
 24
24 Хлебников двояко обыгрывает древнее название Волги — Ра (засвидетельствованное историком Аммианом Марцеллином): с одной стороны, он активирует через этимологию скрытую семантическую силу слова ‘Разин’, разрезая его на
Ра-зин (Волга глаз), причём
зин — родительный падеж множественного числа довольно редкого слова ‘зина’, которое Хлебников истолковывает в своём стихотворении, а также в «З и его околица» (
НП: 346):
Имена глаза, как построения из зеркал: земля, звезды; зиры (звёзды), зень (земля). Древнее восклицание ‘зирин’ может быть значило ‘к звездам’. И земля, и звёзды светятся отражённым светом.
С другой стороны, оно связывает великую русскую реку с главным божеством египетского пантеона, богом Солнца Ра, который, согласно египетскому мифу, совершает своё небесное путешествие на корабле (небо — это океан). Солярная мифология этого бога навела фараона Аменхотепа IV – Эхнатона на мысль провозгласить культ солнечного диска Атона. (См.: Свояси,
СП II: 7–8;
F. Daumas. La Civilisation de l’Égypte pharaonique, op. cit., p. 292 sq). Таким образом, посредством оригинальной этимологии Хлебников присоединяет “разинский комплекс” (включающий Волгу, восстание, Россию...) к “египетскому комплексу” (“революционный” фараон-пророк Аменхотеп IV, Нил, земля богов...). Хлебниковская “мифология” стыкуется с другого рода “мифологией” — благодатью поэтического процесса: самое невинное слово, благодаря правильному разложению или перекомпозиции, может породить неопределённый ряд ассоциаций, семантически неисчерпаемое стихотворение. Поэзия — это система (или синтаксис) особых “синтагм”, представляющих собой „комплексы метафор” (
G. Bachelard. La Psychanalyse du feu.
Paris: Gallimard. 1976. P. 179).
 25 СП
25 СП III: 138.
 26
26 Неизданная статья (
СП V: 188):
Это было открыто языку говоров — рок в двух значениях: ‹впадали реки› слово и судьба.
 27 СП
27 СП V: 189.
 28
28 О простых именах языка (
СП V: 205).
 29
29 Художники мира! (
СП V: 218).
 30
30 Зангези. Плоскость VIII (
СП III: 332).
 31
31 Дети Выдры. 6-й парус (
СП II: 177).
 32
32 Разин (
СП I: 202).
 33 СП
33 СП I: 318.
 34 СП
34 СП III: 177.
 35
35 Ка
2 (
СП V: 127). Мы воспроизводим текст в издании
СП, несмотря на некоторые неясности в первом абзаце из-за неправильной пунктуации. О названии рассказа см. Вступительное слово
НП: 5.
 36
36 Скуфья скифа (
СП IV: 84). То же замечание, что и в предыдущем примечании, по поводу точности математических знаков.
 37
37 Перечень — Азбука ума (
СП V: 207).
 38
38 Курган Святогора (
НП: 321–322).
 39
39 Фасмер даёт определение русалки: „Geist e. Frau oder eines Kindes, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind” (
M. Vasmer. Russisches Etymologisches Wôrterbuch — vol. II, p. 549, article “rusalka”). По мнению Яна Мачала (The Mythology of ail races, vol. III: Celtic-Slavic.
Boston. 1918. Р. 254–255),
напоминающие навок русалки (“водные нимфы”), название которых происходит от Русалие ‹...› Вера в них наиболее распространена среди русских, которые считают, что это дети, умершие некрещёными или замученные, которые утонули или задохнулись, или же что это девушки и молодые женщины, умершие насильственной смертью или проклятые родителями. Иногда русалки предстают в виде девочек семи лет, иногда в виде девиц в полном расцвете юности. Их прекрасные тела прикрыты зелёными водорослями или белой сорочкой без пояса; на Троицу они сидят на деревьях, прося у женщин платье, а у девушек исподнее; поэтому женщины вешают на ветки полоски полотна или маленькие лоскутки, оторванные от своего платья, такого рода жертвоприношением пытаясь умилостивить этих водяных нимф ‹...› Вечером они любят раскачиваться на тонких ветвях, соблазняя неосторожных путников; и если им удастся сбить кого-нибудь с пути, они защекочут его до смерти или увлекут в воды ручья.
Русалки чрезвычайно любят музыку и пение; их прекрасные голоса заманивают пловцов на глубокие места, где они тонут.
Русалка, следовательно, есть “враждебный дух”, сродни
враждебному существу из «Ка
2» (
СП V: 127):
Впрочем, скоро я понял, что если любимый, ожидаемый, но отсутствующий человек отрицательное существо, то каждое враждебное постороннее собранию (не присутствующее в нём) будет √–1, существом мнимым.
Русалку, подобно Лорелее, тянет к “положительным существам” (
СП IV: 146):
Недаром хохочут холмы: „Сарынь на кичку!”, и оси, корни из мнимой “нет” единицы русалок протягиваются к “да” единицам.
 40
40 Ладомир (
СП I: 199).
 41
41 „Язык можно сравнить ещё и с листом бумаги: мысль — лицевая часть, звук — оборотная; нельзя вырезать первое, не затронув последнего; точно так же в языке невозможно отделить ни звук от мысли, ни мысль от звука; этого можно достичь только посредством абстракции, результатом которой было бы создание чистой психологии или чистой фонологии” (
F. de Saussure. Cours de linguistique générale.
Paris: Payot. 1973. P. 157).
 42
42 Вступительный словарик односложных слов (
НП: 345).
Прим. перев.: в заметке «Ухо словесника...» (
НП: 331) читаем:
В ко и до один предмет движется, другой стоит, и таким образом расстояние уменьшается. ‹...›
Ко указывает, что неподвижный объект служит концом движения другого и точкой остановки ‹...›
 43
43 Разин. Две Троицы (
СП IV: 146).
Прим. перев.: в «Уструге Разина»
кокора — диалектизм силовой точки гребного судна — уключины:
Брёвен чёрные кокоры
Для весла гребцов опоры.
 44 Даль
44 Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
СПб.–М. 1909. Статья «Сарынь». т. IV, кол. 36. «Сарынь на кичку» — ещё и название стихотворения Каменского, опубликованного в сборнике «Стрелец» (1915), затем в сборнике «Девушки босиком» (
Тифлис. 1916) с посвящением В. Хлебникову. (См.:
Каменский В. Стихотворения и поэмы. Указ. соч., с. 468).
 45 НП
45 НП: 331.
 46
46 Письмо В. Каменскому, весна 1914 г. (
СП V: 303).
 47
47 Письмо В. Каменскому от 10 января 1909 г. (Н
П: 355).
 48
48 Песнь мне (
НП: 208).
 49
49 Разин. Две Троицы (
СП IV: 147).
 50
50 Там же (
СП IV: 146).
 51
51 Отрывок из Досок судьбы (
SPM III: 471).
 52
52 Свояси (
СП II: 9).
 53
53 Курган Святогора (
НП: 323).
 54
54 Скуфья скифа (
СП IV: 84).
 55
55 С помощью неологизма, разрешённого латинским языком, мы могли бы определить речь Хлебникова как “транслимитную”. В одной из последующих глав мы попытаемся определить принципы, составляющие этот в высшей степени самобытный тип словосочетания.
 56
56 Назорей — точнее, назиреат (от еврейского ‘назир’: святой, освящённый, отделённый, увенчанный) — древнееврейское учреждение, подробное описание которого мы находим в Ветхом Завете (Числа, VI, 1–21). Назиром был человек, который посвятил себя Богу, поклявшись не стричься в течение определённого времени. Все родственники и друзья Хлебникова в своих воспоминаниях и разговорах сообщают о “воинствующем антимистицизме” поэта: так, для Кручёных, по сообщению Гордона Маквея, „Хлебников был очень сложной личностью — неверно утверждать, что он всегда был “не от мира сего” (
Gordon McVay. A. Kruchenykh: the bogeyman of Russian literature // Russian Literature Triquarterly, n° 13, 1975, p. 577).
Для И. Березарка скитальческая жизнь Хлебникова никак не связана с аскетизмом (
И. Березарк. Встречи с В. Хлебниковым // Звезда. 1965, №12. С. 173). Не подвергая сомнению эти вполне заслуживающие доверия показания против понимания Хлебникова как “мистика-пустынножителя”, мы, тем не менее, отметим у поэта нарастающее со времени пребывания в Персии желание приравнять свою поэзию к пророчеству. В «Трубе Гуль-муллы» он присоединяется к сонму пророков (
СП I: 233):
Ок! Ок!
Это пророки
Сбежалися
С гор встречать
Чадо Хлебникова:
— Наш! — сказали священники гор,
— Наш! — запели цветы.
В стихотворении «О, Азия! тобой себя я мучу» — ставит себя в ряд персидских пророков (
СП III: 123):
И вновь прошел бы снова чувства
И зазвенел бы в сердце бой:
И Мохавиры и Заратустры
И Саваджи объятого борьбой.
Умерших их я был бы современник,
Творил ответы и вопросы.
О длинных волосах, придающих поэту вид назира, см. стихотворение «Я вышел юношей один» (
СП III: 306):
Я вышел юношей один
В глухую ночь,
Покрытый до земли
Тугими волосами.
О пророчествовании Хлебникова см. свидетельство А. Кручёных:
Хлебников переключился на пророчество — ‹...› но кибернетики он не знал. Хлебников предсказал падение государства в 1917 году ‹...›.
Кручёных заметил, что поэты и писатели в конце своей жизни часто находят звание поэта недостаточным, и поэтому обращаются к пророчествам — таковы Лермонтов, Пушкин, Толстой, Достоевский ‹...›
Gordon McVay. A. Kruchenykh: the bogeyman of Russian literature
// Russian Literature Triquarterly, n° 13, 1975.
 57
57 А. Кручёных ясно видел значение водного элемента в системе Хлебникова, не связывая его, однако, с композиционной структурой этой системы:
Картины моря и вообще водной стихии очень часты у В. Хлебникова. Проследить его отношение к воде — это значит исследовать историю его творчества.
Неизданный Хлебников / ред. Кручёных. Изд. группы друзей Хлебникова.
Единственный, кто обозначил такой подход к системе Хлебникова, — Б. Лившиц (см. «Первый журнал русских футуристов», с. 103):
‹...› Великая заслуга Хлебникова — открытие жидкого состояния языка, и что более этого открытия связано с общей концепцией футуризма?
См. также:
Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец
Л. 1933. Гл I. Гилея.
О волшебной силе воды см.:
M. Eliade. Images et symboles — Essais sur le symbolisme magico-religieux.
Paris: Gallimard. 1952. P. 199–211.
 58
58 Наша снова (
СП V: 237).
 59
59 У Маяковского, напротив, метафора потопа мастерски использована в революционной пьесе «Мистерия-Буфф» (
В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 томах.
Москва. 1955–1961. Т. II. С. 359):
Революция расплавила всё, — нет никаких законченных рисунков, не может быть и законченной пьесы. ‹...›
Действие первое. Весь мир. Мир захлёстнут потоками революции. Единственное ещё сухое место — полюс. Но уже и в полюсе дырка. Дыру еле затыкает пальцем эскимос. Стекаются к полюсу, гонимые потоком, остатки населения мира.
 60
60 В своей замечательной статье Рэймонд Кук (
R.F. Cooke. Image and Symbol in Khlebnikov’s ‘Night Search’ // Russian Literature Triquarterly, 1972, n° 12, p. 279 sq.) с большой проницательностью анализирует сцепление образов в «Ночном обыске». К сожалению, автор остаётся пленником собственной терминологии. Море не является “метафорой” свободы или “символом” революции. Хлебниковская гомология запрещает использование языка традиционной риторики, что, очевидно, затрудняет подход к его поэзии. Роналд Вроон (
Ronald Vroon. “Seashore” and the Razin Constellation // Russian Literature Triquarterly, n° 12, 1975, p. 295–326) идёт дальше, понимая, что “хлебниковская революция” проходит сквозь сам язык (путём подрыва традиционных общих мест) и этим раскрывает метафизическую природу хлебниковского восстания.
 61
61 Ночной обыск (
СП I: 263, 265, 267).
 62 СП
62 СП IV: 118.
 63
63 Говоря о разинской вольнице, Хлебников пишет:
Это воли моря полк (Уструг Разина,
СП I: 248).
 64
64 О “текучести” или “ритме” хлебниковской речи см. раздел «Хлебников и поэзия».
 65
65 В «Бытии» потоп — наказание свыше:
Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.
И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. ‹...›
И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; всё, что есть на земле, лишится жизни.
La Sainte Bible / traduction de A. Crampon. Paris. 1939. Р. 6 et 7.
 66 О город-сон, преданье самодержца
66 О город-сон, преданье самодержца, — пишет Хлебников в стихотворении (
НП: 138–139), столь же загадочном, как и фигура сфинкса, присутствующая в нём.
 67
67 Прачка (
СП III: 239–240, 243–244).
 68 А.С. Пушкин
68 А.С. Пушкин. Медный всадник // Собрание сочинений в 10-и томах.
М. 1960. Т. III. С. 286.
 69
69 Там же, с. 285.
 70
70 Там же, с. 292, 295, 297. Курсив мой.
 71
71 Там же, с. 291.
 72 В. Брюсов
72 В. Брюсов. К медному всаднику // Собрание сочинений в 7-и томах.
М. 1973–1975. Т. I. 1973. С. 527.
 73 С. Есенин
73 С. Есенин. Ключи Марии // Собрание соединений 5-и томах.
М. 1966. Т. IV. С. 192–193:
Существо творчества в образах разделяется так же, как существо человека, на три вида — душа, плоть и разум.
Образ от плоти можно назвать заставочным. ‹...›
Образ заставочный есть, так же как и метафора, уподобление одного предмета другому или крещение воздуха именами нам близких предметов.
 74 С. Есенин
74 С. Есенин. Песнь о великом походе // Стихотворения — Поэмы.
М. 1973. С. 291–292, 293–294.
 75 Ю. Тынянов
75 Ю. Тынянов. Промежуток // Архаисты и новаторы, указ. соч. С. 547.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 76
76 Гибель Атлантиды (
СП I: 94–103).
 77 Platon
77 Platon. Timée (p. 136–137 du tome X des œuvres complètes — Société d’édition «Les Belles Lettres», Paris, 1963); Critias (p. 262–274, même tome). Платон повествует об Атлантиде в политических, по сути, видах: его рассказ противоречит древней афинской конституции.
 78
78 Гибель Атлантиды (
СП I: 99).
 79
79 Там же, с. 102.
 80
80 Там же, с. 102.
 81
81 Там же, с. 95.
 82
82 Там же, с. 102.
 83 В. Брюсов
83 В. Брюсов. Жрец Изиды // Собрание сочинений в 7-и томах.
М. 1973–1975. Т. I. 1973. С. 146.
 84
84 Там же, с. 398.
 85
85 Гибель Атлантиды (
СП I: 96).
 86
86 Там же, с. 96.
 87
87 Там же, с. 98.
 88
88 Там же, с. 101.
 89 В. Брюсов
89 В. Брюсов. Лик Медузы // Собрание сочинений в 7-и томах.
М. 1973–1975. Т. I. 1973. С. 431.
 90
90 Ещё один образчик хлебниковской крупного формата, «Гибель Атлантиды» (1912), знаменует стабилизацию его поэм как произведений мифологического направления. Написанная четырёхстопным ямбом, со всеми присущими поэзии Хлебникова сдвигами, она предельно далека от эксперимента и отнюдь не идеологична.
Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.
University of Califonnia publications in modern philology. Volume LXII.
Berkley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 89.
 91 В. Брюсов
91 В. Брюсов. Город вод // Собрание сочинений в 7-и томах.
М. 1973–1975. Т. I. 1973. С. 320.
 92
92 Гибель Атлантиды (
СП I: 99).
 93
93 Свояси (
СП II: 10).
 94 СП
94 СП II: 31.
 95 В. Брюсов
95 В. Брюсов. Цусима // Собрание сочинений в 7-и томах.
М. 1973–1975. Т. I. 1973. С. 426–427.
 96
96 Строки популярной песни «Из-за острова на стрежень...» о предыстории убийства персидской принцессы цитированы в «Ночном обыске»:
Свадьбу новую справляет
Он весёлый и хмельной... и хмельной...
 97 В. Брюсов
97 В. Брюсов. Русалка // Собрание сочинений в 7-и томах.
М. 1973–1975. Т. I. 1973. С. 502–503.
 98
98 Гибель Атлантиды (
СП I: 96).
 99 НП
99 НП: 246.
 100 Platon
100 Platon. Timée (p. 133 du tome X des œuvres complètes — Société d’édition «Les Belles Lettres», Paris, 1963.
 101 СП
101 СП III: 306.
 102
102 Единая книга (
СП III: 68).
 103
103 Подобным образом уничтожаются книги в поэме «Внучка Малуши»:
Свои учебники паля,
Мы учителей дрожим: в них Нав.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О гей-э, гей-э, гей-э!
Загорайтесь буйно, светы,
Зажигайте дом учин,
Смолы, лейтесь с веток,
Шире, выше, свет лучин!
Сюда, сюда несите книги,
Слагайте радостный костёр.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Слагайте чёрных трупов прелесть,
В глазницах чёрный круглый череп,
И сгнившую учебно челюсть,
И образцы черев,
И мяс зелёных древле мерзость,
И давних трупов навину,
В этом во всем была давно когда-то дерзость,
Когда пахали новину.
Книги, являющиеся мёртвыми знаниями, горят под крики курсисток:
Жизни сок бери! (там же, с. 76).
В стихотворении-манифесте «Только мы, свернув ваши три года войны...» (
СП III: 17), а также в «Воззвании Председателей Земного Шара» (
СП V: 162) книга понимается как социальный институт (
книгоиздательство), участвующий в государственном притеснении:
То мы отрицаем господ,
Именующих себя правителями,
Государствами и другими книгоиздательствами
И торговыми домами Война и К°,
Приставившими мельницы милого благополучия
К уже трёхлетнему водопаду
Вашего пива и вашей крови
С беззащитной красной волной.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы говорим, что не признаем господ, именующих себя государствами, правительствами, отечествами и прочими торговыми домами, книгоиздательствами, пристроившими торгашеские мельницы своего благополучия к трёхлетнему водопаду потоков вашего пива — и нашей крови выделки 1917 с кроваво-красной волной.
 104 СП
104 СП IV: 115–117.
 105 G. Flaubert
105 G. Flaubert. La Tentation de saint Antoine.
Paris: Garnier-Flammarion. 1967. Р. 164.
 106
106 Там же, р. 177.
 107
107 Там же, р. 192.
 108
108 Там же, р. 213.
 109
109 Там же, р. 225–226.
 110
110 Свояси (
СП II: 9):
Увидя, что корни лишь призрак ‹...›
 111
111 О
заумном языке см. гл. «Хлебников и язык».
 112 G. Flaubert
112 G. Flaubert. La Tentation de saint Antoine.
Paris: Garnier-Flammarion. 1967. Р. 251–252.
 113
113 Первоначальное название этого сочинения, по свидетельству В. Каменского, «Мучоба во взорах». См.:
Каменский В. Путь энтузиаста.
Пермь. 1968. С. 79–81.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 114
114 Действительно, речь идёт о невероятном словесном изобилии, которое свидетельствует о настойчивости автора в этом плане: «Искушению грешника» придан вид отрывка по той причине, что оно задумано как часть непрерывного “проистекания” магматической материи речи. Драма П. Филонова «Пропевень о проросли мировой» в этом смысле сравнима с «Искушением грешника» и «Песнью Миряза» (
СП IV: 9–18).
 115
115 Искушение грешника (
СП IV: 20–21).
 116 СП
116 СП IV: 116.
 117
117 Влом вселенной (
СП III: 93):
Когда стали видеть
В живом лице
Прозрачные многоугольники,
А песни распались как трупное мясо
На простейшие частицы,
И на черепе песни выступила
Смерть вещего слова,
Лишь череп умного слова, —
Вещи приблизились к краю ‹...›
 118
118 Я и Россия (
СП III: 304).
 119
119 Наша основа (
СП V: 231).
 120 G. Bachelard
120 G. Bachelard. La Psychanalyse du feu.
Paris: Gallimard. 1976. Р. 35, 37, 38, 93, 148, 174.
 121 НП
121 НП: 311.
 122
122 Свояси (
СП II: 8).
 123 СП
123 СП III: 18.
 124
124 Отрывок из Досок судьбы (
SPM III: 471–472).
 125
125 Отрывок из Досок судьбы, лист 3-й (
SPM III: 514).
 126
126 Письмо к А. Кручёных от 31 августа 1913 г. (
НП: 367).
 127
127 Послесловие к стихам Ф. Богородского (
СП V: 260).
 128
128 Город будущего (
СП III: 63).
 129
129 Мы и дома (
СП IV: 275). Город — метонимия Революции (см.:
N. Blumenkranz-Onimus. La Ville des Futuristes // La Ville n’est pas un lieu. Union Générale d’Éditions. 1977. Р. 78 et 87–91). О термине ‘посолонь’: очевидно, имеется в виду сборник “сказок”
А. Ремизов. Посолонь // Сочинения А. Ремизова. Т. VI.
СПб.: Шиповник.
 130
130 Эта гелиолалия, кажется, находит своё “научное” (следовательно, “объективное”) подтверждение в “периодической классификации” исторических событий Хлебникова; таким образом:
3a 317·10 до поклонения разуму во Франции сын Теи Аменофис переменил своё имя на Эхнатен (1378 год до Р. Хр. и 1792 по Р. Хр.). Этот фараон в имени Амона переменил М на Т и ввёл в Египте поклонение богу Солнцу. Таким образом поклонение Разуму и поклонение Солнцу были на земном шаре через 317·10 лет.
(НП: 373)
 131
131 См. по этому поводу у Ж. Кристевой (
Kristeva J. Polylogue.
Paris: Lу Seuil. 1977. P. 363–364):
Хлебников приводит ещё одну подробность этой солнечной борьбы: мать приходит на выручку своим детям. Дети Выдры изображены на фоне трёх солнц: белого, красно-синего и чёрно-зелёного. В «Девьем боге» главная героиня — дочь князя Солнца. В «Ка» говорится о „лохматом солнце Египта”. Вся языческая мифология Хлебникова сводится к борьбе с солнцем, поддерживаемой существом женского рода — всемогущей матерью или неприступной девой, и, тем самым, обосновывает то, что у Маяковского вызывало всплески звука и противоречило системе языка: ритм.
Мы действительно можем утверждать, что связь этой борьбы с темой восстания у
будетлян не случайна и, несомненно, является одним из самых ярких свидетельств их главной навязчивой идеи (см. пьесу Кручёных «Победа над солнцем»)
 132 СП
132 СП II: 142 и далее.
 133 НП
133 НП: 258.
 134
134 Перечень — Азбука ума (
СП V: 208).
 135
135 „Главным богом русов-язычников был Перун, чей деревянный идол с серебряной головой и золотой бородой был установлен князем Владимиром на холме перед своим дворцом в Киеве в 980 г. ‹...› Перун пользовался у русских большим почётом. ‹...› Слово ‘Перун’ происходит от корня пер- (‘ударять’) с окончанием -ун, обозначающим того, кто совершает действие. Перун был, прежде всего, богом грозы, “громовержцем”, подобным Зевсу у греков” (
Jan Machal. The Mythology of ail races, vol. III: Celtic-Slavic.
Boston. 1918. Р. 293–294).
Перун был, по-видимому, верховным богом. Его изваяния были установлены в Новгороде и Киеве. Кроме того, им клялись князья при заключении договоров с Византией (Олег в 907 г., Игорь в 945 г., Святослав в 971 г.).
Поскольку княжеский род имел норманнское происхождение, допустимо предположение, что Перун возник в результате слияния германского бога Тора с местным божеством-покровителем. Перун, как и Тор, означает ‘громовержец’, так что этот бог, возможно, сохранил функцию “повелителя молний” своего скандинавского прообраза. С другой стороны, в русских преданиях, кажется, нет качественной разницы между Перуном и Родом.
Ссылаясь на лингвистические параллели с литовским Перкунасом (богом грома), древнеисландской Фьёргин (матерью Тора) и древнеиндийским Парьяньяхой (богом грозы), нередко утверждают, что Перун был бы верховным богом славян, унаследованным от индоевропейцев. На наш взгляд, этимологические сравнения такого рода неубедительны.
Frans Vyncke. La religion des Slaves // Histoire des Religions, t. I, p. 707.
Gallimard. 1970. Encyclopédie de la Pléiade.
 136
136 Перун (
СП III: 12).
 137
137 Царапина по небу (
СП III: 82).
 138
138 „У Хлебникова не сочетания, а созвездия слов. Хлебников — поэт-звездочёт” (
O. Brik. On Khlebnikov // Russian Literature Triquarterly, n° 12, 1975).
 139
139 Отрывок из Досок судьбы (
SPM III: 514).
 140
140 Теория концентрических и эксцентрических окружностей является заимствованием из диаграммы Кеплера (De admirabili пропорции orbium cœestium... P. 18–19.
Tübingen. 1596) цитируется по:
P. Bertaux. Hölderlin und die Französische Revolution.
Suhrkamp. 1969. P. 157–158).
 141 СП
141 СП V: 72.
 142
142 Восстание против засилья быта — немаловажная сторона поэзии Маяковского. Р. Якобсон в «О поколении, растратившем своих поэтов» раскрыл трагизм противостояния поэта-
будетлянина и быта (см.:
Роман Якобсон, Д. Святополк-Мирский. Смерть Владимира Маяковского.
Mouton. 1975. С. 12–14, 24–25):
Творческому порыву в преображенное будущее противопоставлена тенденция к стабилизации неизменного настоящего, его обрастание косным хламом, замирание жизни в тесные окостенелые шаблоны. Имя этой стихии — быт ‹...›
Призрак незыблемости миропорядка — квартировочного быта вселенной — гнетёт поэта ‹...›
Этой невыносимой мощи должно быть противопоставлено небывалое восстание, имени для которого ещё нет ‹...›
С каждый шагом всё острее сознание безысходности единоборства с бытом. Клеймо мучений выжжено. Способов досрочной победы нет. Поэт — обречённый “изгой нынчести”.
 143 СП
143 СП I: 252–273.
 144
144 Ночной обыск (
СП I: 267–269).
 145
145 Там же, с. 271.
 146
146 Там же, с. 273.
 147
147 Пьеса «Девий бог» сочетает в себе два аспекта: античной трагедии и средневековой христианской “мистерии”. Хлебников здесь пытался дать синтез «Вакханок» Еврипида и «Страстей Христовых». Сам характер “бога дев” на удивление двойственен: жертва, страдающая, подобно Христу, за своё “нечестие” (см.
СП IV: 174–175):
Другие: Никому неведомо, кто он; может быть, он и бог, но он подлежит казни.
Из толпы: Как можно быть сразу и богом и человеком? Он безбожник и оскорбляет святыню;
и, одновременно, инфернальный языческий бог, увлекающий несчастных славянских дев в оргиастический орибасий, точно так же, как легендарный Дионис, по преданию, свёл фиванок с ума на склонах Киферона. Но интерес «Девьего бога», пожалуй, больше заключается в самом языке, истинном герое этой священной драмы, передающем “энтузиазм” поэта: мы оказываемся свидетелями словесной литургии, которую Хлебников в «Свояси» представляет как образец “алогичного” творчества (
СП II: 10):
«Девий бог», как не имеющий ни одной поправки, возникший случайно и внезапно как волна, выстрел творчества, может служить для изучения безумной мысли.
Целью проекта Хлебникова является создание славянской трагедии, способной восстановить дух эллинского язычества внутри самого славянского языка (там же, с. 7). Аверинцев в своей весьма содержательной статье «Славянское слово и традиция эллинизма» («Вопросы литературы», 1976, №11, с. 162) проницательно оценил проблему поэтического язычества Хлебникова:
Под конец — одно частое замечание. По-своему грандиозная утопия Велимира Хлебникова, силившегося вернуть русскую речь к чистому язычеству и чистому скифству, словно бы смыть с русской речи воду корсунской купели и снять с неё греческие украшения, — утопия эта, по-видимому, стоит в разладе с историей, ибо принуждена игнорировать доверчивость, с которой русская песенная стихия пошла когда-то навстречу эллинистическому красноречию, чтобы слиться с ним в неразделимое целое. „Вострубим убо, братие, аки в златокованную трубу, в разум ума своего и начнем бити в сребреныя арганы во известие мудрости, и ударим в бубны ума своего ‹...› Да развергу в притчах гадания моя и провещаю во языцех славу мою”. В этой умственно-словесной “музыке” Даниила Заточника константинопольские “органы” столь же необходимы, как скоморошеские “бубны”. Двух начал уже невозможно до конца обособить друг от друга.
Хлебников, по сути, пытается “обойти” Византию (особенно в «Девьем боге»), однако не для того, как утверждает Аверинцев, чтобы „изгнать греческие привнесения из русского языка”, а, скорее, наоборот, заново открыть омрачённую христианством языческую традицию древней Эллады. Короче говоря, Хлебников в «Девьем боге» осуществляет своего рода гуманистический (славянский) ренессанс in vitro, тем самым придавая своему “экспериментаторству” грандиозный размах ретроспективной борьбы за культурную судьбы своей страны.
 148
148 Ладомир (
СП I: 193).
 149
149 Перун (
СП III: 15).
 150 СП
150 СП II: 264–265.
 151
151 Отрывок из Досок судьбы (
SPM III: 472–475).
 152
152 См. пьесу «Боги» (
СП IV: 259–267), написанную на
языке богов, свободном от ограничений человеческого языка, но, тем не менее, отличном от
зауми.
 153
153 Воля всем (
СП III: 150).
 154
154 Наша основа (
СП V: 242).
 155
155 Чортик (
СП IV: 213). Эти горькие слова произносит богиня Гера в “фантастическом диалоге”, придуманном Хлебниковым.
 156
156 Отрывок из Досок судьбы (
SPM III: 475–477).
 157
157 Любопытно отметить в этой связи литературную трактовку Хлебниковым концепции мести. Так, в автобиографическом рассказе «Октябрь на Неве» (
СП IV: 105–113) Хлебников пророчит Временному правительству месть небес посредством статуи Командора.
Предземшары направляют Временному правительству телеграмму, заканчивающуюся словами:
Как тяжело пожатье каменной десницы. Председатели Земного Шара: Петников, Лурье, Дм. и П. Петровские, статуя Командора — я (Хлебников).
(СП IV: 110)
Несколькими днями прежде государственного переворота 25 октября, во время спектакля «Дон Жуан» в Мариинском театре Хлебников, к великому ужасу зрителей, встал перед статуей Командора, склонив голову в знак согласия на вызов Дон Жуана:
Как-то в Мариинском ставили Дон-Жуана, и почему-то в Дон-Жуане видели Керенского. Я помню, как в противоположном ярусе лож люди вздрогнули и насторожились, когда кто-то из нас (я) наклонил голову, кивая в знак согласия Дон-Жуану раньше, чем это успел сделать командор (около занавеси) ‹...›
(СП IV: 111)
 158
158 Ладомир (
СП I: 185–186).
 159
159 Прачка (
СП III: 232–233).
 160
160 Там же, с. 236.
 161
161 Настоящее (
СП III: 269).
 162
162 Прачка (
СП III: 234).
 163 Nietzsche
163 Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra.
Paris: Gallimard. 1964. P.164.
 164
164 Ночь в окопе (
СП I: 175–176).
 165
165 Настоящее (
СП III: 262–264).
 166
166 Ночь в окопе (
СП I: 182).
 167
167 Каменная баба (
СП III: 34–35).
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 75–109; 307–319.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию
Продолжение 



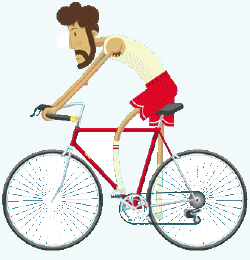
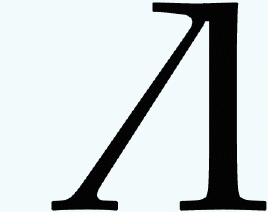 юбая попытка сопоставить творчество Хлебникова и революцию обречена на провал, если заранее не определён сам этот термин. Мы будем понимать его в единственном смысле: как решительную перемену политического устройства страны, подготовленную всем ходом русской общественной жизни 1905–1917 гг. Именно эта революция, внешнее по отношению к поэту событие, вдохновляла его последние пять лет жизни. Однако было бы непростительным упрощением хлебниковской поэзии счесть её “отражением” (пусть и породившим умозаключения вплоть до прозрений) чего-либо маловажного и случайного для будетлянина. С переходом на должный уровень осмысления неизбежен вывод: революция единосущна поэтическим исканиям Хлебникова. Памятуя о его творчестве в целом, она предстаёт именно тем, чем сам Хлебников назвал её в письме к Мейерхольду: переворотом в понимании времени.1
юбая попытка сопоставить творчество Хлебникова и революцию обречена на провал, если заранее не определён сам этот термин. Мы будем понимать его в единственном смысле: как решительную перемену политического устройства страны, подготовленную всем ходом русской общественной жизни 1905–1917 гг. Именно эта революция, внешнее по отношению к поэту событие, вдохновляла его последние пять лет жизни. Однако было бы непростительным упрощением хлебниковской поэзии счесть её “отражением” (пусть и породившим умозаключения вплоть до прозрений) чего-либо маловажного и случайного для будетлянина. С переходом на должный уровень осмысления неизбежен вывод: революция единосущна поэтическим исканиям Хлебникова. Памятуя о его творчестве в целом, она предстаёт именно тем, чем сам Хлебников назвал её в письме к Мейерхольду: переворотом в понимании времени.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()