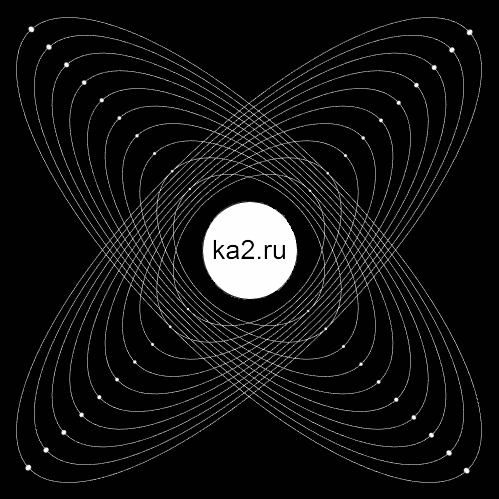Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Продолжение. Предыдущая глава: 
3
Хлебников и язык
На земле был единый язык, слова которого понимали все.
Бытие. XI, 1
Природа — храм,
на живых колоннах которого изредка проступают сбивающие с толку письмена.
Бодлер. Из письма
Однако в чём сокровенный смысл явления природы,
изредка, но всё-таки проглядывающий в игре слов,
как не в том, чтобы из него исходило,
без внятного помимо этой игры истолкования,
чистое понятие?
Малларме. Предисловие к «Трактату о слове» Рене Гиля

зыскания Хлебникова в области языка совпали с кризисом, который в начале XX века поколебал — как в России, так и на Западе — устоявшиеся этические и эстетические нормы, не говоря о науке и политике. “Кризис изящной словесности” — не более чем рябь на волне идеологического цунами, чреватого революциями 1917 года. Оскорбляющие
судей и обывателя “пощёчины” группы “гилейцев” (позже переименованных в “кубофутуристов”), включая Хлебникова, и всё их
будетлянство есть прежде всего поиск языка, чуждого заветам “умеренности и аккуратности”.
1
В общем разброде и шатании путеводной звездой поэзии становится живопись,
2
где форма уже не довлеет “материалу”, а подчинена ему. Отказ от прописных истин меняет подход к искусству: былое подручное сырьё и подспорье отправляется в “свободное плавание”. Отвоевав присвоенные смыслом права, слово поэта отныне дерзает беспрепятственно прирастать
самовитостью,
3
о которой совсем недавно и не помышляли. Освобождение языка повлекло изгнание из него даже намёка на литературу и психологию, а также отказ от любого рода идеологии, которую
будетляне называли тенденциозностью.
4
Ими же с порога заявлено, что слово отныне следует понимать не как единицу речи, а как отдельность,
5
и у этой отдельности есть собственное содержание. Иначе говоря, поэзией объявлялся некий набор формальных приёмов, применяемых без оглядки на внятность изложения. Такой кувырок парадигмы (стихотворение это или холст — произведением искусства становится средство изображения,
6
а не предмет его) ставит поэзию перед выбором: либо “заморозка” языка до полной немоты, либо его самоиспепеление. Выбор второго пути определил судьбу русского “футуризма”: отныне с ним и только с ним отождествляют
заумь — “трансментальный” или “трансрациональный” язык, предел раскованности поэтического самовыражения. Как пишет Р. Якобсон в «Новой русской поэзии»:
Поэтический язык стремится, как к пределу, к фонетическому, точней, — поскольку налицо соответствующая установка, — эвфоническому слову, к заумной речи.
7
О логическом следствии безоглядного упора на слово читаем в статье Б. Лившица «Освобождение слова»:
Что непроходимой пропастью отделяет нас от наших предшественников и современников — это исключительный акцент, какой мы ставим на впервые свободном — нами освобождённом — творческом слове.
8
Что такое
заумь? 9
За объяснением следует обратиться к Алексею Кручёных, первым заговорившему о ней (Новые пути слова // Трое.
Спб: Журавль. 1913).
10
Этот невероятно задиристый опус истолковывает
заумь как своего рода антисимволистский “контрязык” (подзаголовок статьи:
Язык будущего смерть символизму). Кручёных провозглашает восстание слова против смысла как ига: язык-бунтарь преодолевает преграду разума прыжком
за ум, становясь внеположным сознанию,
заумным:
Ясное и решительное доказательство тому, что до сих пор слово было
в кандалах является его подчинённость смыслу
до сих пор утверждали: „мысль диктует законы слову, а не наоборот”.
Мы указали на эту ошибку и дали свободный язык, заумный и вселенский.
11
Свободное от „кандалов смысла” слово порождает значение, а не наоборот.
Заумное в слове, по мнению автора, есть его „иррациональные части, мистические и эстетические”.
Заумь Кручёных, можно сказать, глубоко лирична, поскольку именно “звуки” языка отвечают за “перевод”
12
эмоций. Слово следует воспринимать “на ощупь”, ни в коем случае не пытаясь дознаться его смысла („слово шире смысла”). Забавно, что Кручёных, отвергая мистику символистов, за которой смутно угадывалось “нечто” — словом, всю метафизику, — провозит эту же мистику контрабандой, взывая к самым тёмным сторонам души.
13
Приводимые им образчики “глоссолалии” сектантов доказывают это со всей определённостью, равно и упоминание книги
П.Д. Успенский. Tertium Organum.
СПб. 1911. Предлагаемая Кручёных формула („чем истина субъективней — тем объективнее субъективная объективность”) как интеллектуальная апория не выдерживает критики: умаляя объективность истины (включая осмысленность слова), он отнюдь не устанавливает объективную субъективность, а открывает шлюзы бессознательному... Таким образом, в первом приближении
заумь представляется крайне мало пригодной к употреблению, т.е. никоим образом не способной породить язык. Выражение
заумный язык есть антиномия, как справедливо заметил Бодуэн де Куртенэ.
14
Ю. Лотман в «Анализе поэтического текста» это мнение разделяет:
Бытующее представление о зауми как о бессмыслице неточно уже потому, что “бессмысленный (то есть лишённый значений) язык” — это противоречие в терминах. Понятие “язык” подразумевает механизм передачи значений (смыслов). Так называемые “заумные слова” составлены из фонем, а очень часто и из морфем и корневых элементов определённого языка. Это — слова с не зафиксированным лексическим значением. Однако это именно слова, поскольку они имеют формальные признаки слова и заключены между словоразделами. Раз это слова, то, следовательно, предполагается, что у них есть значение (слов без значений не бывает), только оно по какой-либо причине неизвестно читателю, а иногда и автору („Люблю я очень это слово, / Но не могу перевести” («Евгений Онегин») — случай, когда автор не может дать или делает вид, что не может дать перевода слова, типологически близок к зауми).
А. Кручёных, вводя понятие зауми, имел в виду субъективные, текучие, индивидуальные значения, противостоящие “застывшим” общеязыковым значениям слов. Такое понимание было определено его литературной позицией и логикой полемической борьбы вокруг языка поэзии. Считать это определение до сих пор обязательным для науки нет никаких оснований.
15
Транспарентность слов, которую хотел установить Кручёных, привела к противоположному результату: борборигмы
Дыр, бул, щыл барахтаются во тьме подсознания, и это неизбежное следствие фетишизма “звука в себе”, т.е. “фонолатрии”.
16
Кручёных, который любил блеснуть начитанностью в Священном Писании, не внял увещеванию апостола:
Братья, если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую пользу принесу вам ‹...› ?
Если вы не произносите языком вашим членораздельные слова, то как человеку понять, о чём вы говорите? Вы будете бросать слова на ветер.
Сколько бы разных языков ни было в мире, ни один из них не состоит из непонятных звуков.
Если я не понимаю того, что мне говорят, то я чужеземец для говорящего, и говорящий — чужеземец для меня.
17
Чем бы ни полагать эволюцию Кручёных от “футуризма” до всецело
заумной кавказской группы «41°»,
18
вырваться за рамки наивной системы ценностей, делающей его
заумь наследницей (в смысле инфантильной, “примитивистской” регрессии) изложенного в ряде теорий фонетического символизма (главным образом, европейских) он так и не смог. Вот почему неблагосклонный до прямой враждебности к русскому (именно к русскому: итальянская школа, по сути, приветствуется. —
прим. перев.) футуризму Г. Тастевен
19
имел все основания назвать ультрасубъективистов, “расчленителей слов на слоги” типа А. Кручёных эпигонами родоначальника символизма Малларме.
20
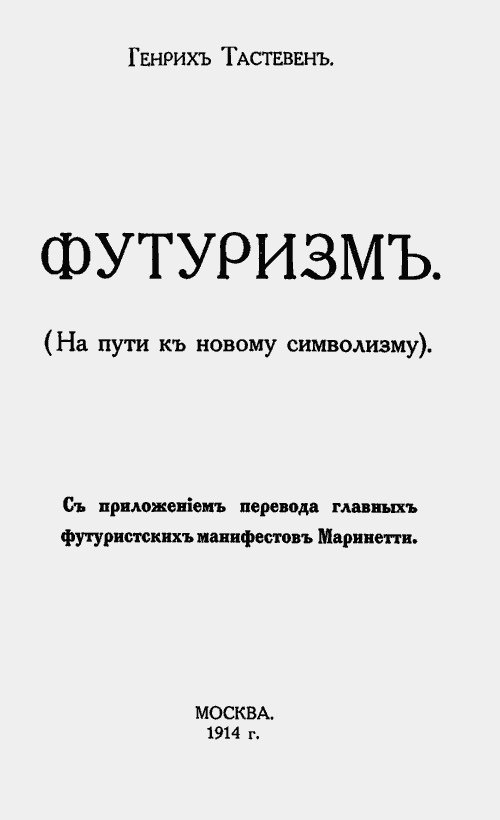
По мнению критика, “футуристы” (к которым Тастевен, помимо Кручёных, причисляет поэтов Василиска и Гнедова!) своим „словотворчеством и мистикой слов”
21
вульгаризируют идеи Малларме и Платона, не более того. Поэтому Тастевен счёл себя вправе обвинить Кручёных cотоварищи в плагиате метафизики, а именно метафизики имманентности, самости. „Пресловутое динамическое ощущение” „лихорадочно ускоренной” криптосистемы “футуристов” совершенно то же, что и „вещь в себе” традиционной идеалистической философии.
22
Там, где символисты писали Тайна и Вечность, “футуристы” пишут Электричество, Машина и Энергия. Изгнав любого рода психологизм, “футуристы” обрекли себя на протаскивание этого же психологизма путём обобщения личного опыта, и в каком-то смысле пошли дальше импрессионизма, довольствовавшегося зрительными впечатлениями. Согласно Тастевену, “метафизическое” отступничество “футуристов” состоит в том, что последние прибегают, дабы передать душевные состояния — те самые, с описанием которых они якобы покончили навсегда
23
— к наивной символике. Более того, “футуристы”, завершители (в полном смысле этого слова) символизма, грешат „романтизмом аэропланно-машинно-автомобильного характера”!
24
“Футуризм” оказывается „символизмом кверху ногами”.
25
Если мы столь подробно излагаем суждения (во многом несправедливые
26
) Тастевена, то вовсе не из-за молчаливого согласия с его приговором. Думается, ряд сравнений он привёл с единственной целью: свысока указать “футуризму”
27
на его место. Но в нападках Тастевена есть упрёк, вполне заслуживающий того, чтобы на нём остановиться: осуждение “переобувания на ходу” кое-кого из “футуристов” (полагаем, это Кручёных, Д. и Н. Бурлюки и, отчасти, В. Маяковский). Тастевен обнаруживает главный изъян “футуризма”: стремительное перерождение (несмотря на противодействие “присяжного гилейца” Б. Лившица,
28
если говорить о русском “футуризме”) в новый “реализм” и даже в „крайний натурализм”... “Вопрос вопросов” Тастевена к „заумному вселенскому языку” таков: с какой стати он должен считаться речью? Полагать тон критика заёмной у Сократа иронией или нет, но этим нас отсылают далеко за пределы «Кратила», а именно к доктрине
μίμησις в искусстве. Применительно к философии как науке недоумение Тастевена следует обобщить: каков онтологический статус искусства
29
как формы самовыражения?
Вопрос этот столь важен, что было бы крайне самонадеянно затрагивать его походя.30 Взаимодействия искусства и философии как таковых касаться мы не дерзнём, а вот применительно к скандалу в истории западного мимесиса, вызванного феноменом зауми как языкоустроения, предположим следующее: заумь есть признак упадка миметической функции речеобразования (логотехники). Заумь ярко высвечивает перелом в развитии литературной речи, которая вдруг “запамятовала” о своей извечной зависимости от моделей, находящихся вне её. Попытки “поименования” посредством языка, который тотчас обозначит (даст, по терминологии Кручёных) то, что ему велено (если так, то за этим последует мгновенное упразднение речеобразования как творчества, следовательно, “смерть” искусства слова), красноречиво свидетельствует о том головокружении, которое испытали первые “самостийники речи”, вдруг почувствовав, что из-под слов уходит почва “вещей” (назовём так последствие отказа от соотнесения литературного дискурса с “чем-то”, отличным от самого себя). Примитивизм, инфантилизм, чистый (непосредственный) эстетизм31
Взаимодействия искусства и философии как таковых касаться мы не дерзнём, а вот применительно к скандалу в истории западного мимесиса, вызванного феноменом зауми как языкоустроения, предположим следующее: заумь есть признак упадка миметической функции речеобразования (логотехники). Заумь ярко высвечивает перелом в развитии литературной речи, которая вдруг “запамятовала” о своей извечной зависимости от моделей, находящихся вне её. Попытки “поименования” посредством языка, который тотчас обозначит (даст, по терминологии Кручёных) то, что ему велено (если так, то за этим последует мгновенное упразднение речеобразования как творчества, следовательно, “смерть” искусства слова), красноречиво свидетельствует о том головокружении, которое испытали первые “самостийники речи”, вдруг почувствовав, что из-под слов уходит почва “вещей” (назовём так последствие отказа от соотнесения литературного дискурса с “чем-то”, отличным от самого себя). Примитивизм, инфантилизм, чистый (непосредственный) эстетизм31 самовыражения — всё это дырявые ширмы, сквозь которые видна теоретическая беспомощность большинства будетлян: впопыхах упразднив литературную речь, они отнюдь не были готовы встретиться лицом к лицу с отсылочной пустотой. Хлебников первый имел смелость задуматься о “нуле” смысла, накинув на “дырку” значения паутину математических формул.32
самовыражения — всё это дырявые ширмы, сквозь которые видна теоретическая беспомощность большинства будетлян: впопыхах упразднив литературную речь, они отнюдь не были готовы встретиться лицом к лицу с отсылочной пустотой. Хлебников первый имел смелость задуматься о “нуле” смысла, накинув на “дырку” значения паутину математических формул.32 Но путь его не был ни лёгким, ни прямым; опробовав миметическую заумь и отвергнув её ради всецело самовитой речи, поэт пришёл к важнейшему для будущего литературного дискурса выводу: действительно жизнеспособное речеобразование предполагает изобретение невиданных по новизне приёмов словосочетания.
Но путь его не был ни лёгким, ни прямым; опробовав миметическую заумь и отвергнув её ради всецело самовитой речи, поэт пришёл к важнейшему для будущего литературного дискурса выводу: действительно жизнеспособное речеобразование предполагает изобретение невиданных по новизне приёмов словосочетания.
Изначально позиция Хлебникова была явно двусмысленной: с одной стороны, он участвовал в разработке манифестов, подписывая прокламации, которые со всей очевидностью толкали его на стезю Кручёных, к самоубийственной зауми ; с другой — в своей поэтической практике и теоретических статьях предавался единственным в своём роде изысканиям, которые, вкупе с открытием законов времени, подвигли его к созданию “сверхразумного” языка, не весьма удачно названного им заумью (это слово Хлебников употребил один только раз, в отрывке «Пока правители будут торговать кровью...» — прим. перев.) хотя ничего общего с внеположным сознанию языком Кручёных таковой не имел...
Хлебникову, последовательному будетлянину, именно живопись33 первой указала путь к свободе выбора средств самовыражения, включая “окрашивание словаря”. В брошюре «Слово как такое»34
первой указала путь к свободе выбора средств самовыражения, включая “окрашивание словаря”. В брошюре «Слово как такое»34 читаем:
читаем:
Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми сочетаниями (заумный язык), этим достигается наибольшая выразительность, и этим именно отличается язык стремительной современности уничтожившей прежний застывший язык.
Заумный язык здесь — орудие
звукописи (фонографии), изобразительной или “хроматической” поэзии, представленной знаменитым стихотворением «Бобэоби пелись губы...» В «Зангези»
35
Хлебников поясняет смысл таковой:
Но вот песни звукописи: где звук то голубой, то синий, то чёрный — то красный. В одной из заметок
36
он раскрывает соответствие звуков и цветов:
Звукопись
Этот род искусства — питательная среда, из которой можно вырастить дерево всемирного языка.
| М — синий цвет | З — золотой |
| Л — белый, слоновая кость | К — небесно-голубой |
| Г — жёлтый | Н — нежно-красный |
| Б — красный, рдяный | П — чёрный с красным оттенком. |
Подобным образом Хлебников поясняет и «Бобэоби»:
Б ярко красный цвет, а потому губы бобэоби, вээоми — синий и потому глаза синие, пииэо — чёрное.
37
Но это “наведение глянца” и есть главный показатель банкротства
звукописи: чтобы не впасть в бессмыслицу Кручёных, Хлебников вынужден давать “перевод” своих “звуковых картинок”. Снова обратимся к «Зангези»:
38
Звукопись
Вэо-вэя — зелень дерева,
Нижеоты — тёмный ствол,
Мам-эами — это небо,
Пучь и чапи — чёрный грач.
Мам и эмо — это облако.
Сличив предписанные Хлебниковым соответствия согласных цветам спектра, однозначности порой не обнаруживаем (
М — синий цвет |
вээоми — синий и потому глаза синие |
Вэо-вэя — зелень дерева —
прим. перев.), на что указывает Бодуэн де Куртенэ в статье «К теории „слова как такого” и „буквы как такой”».
39
Более того, теория звуко-цветовых соответствий отнюдь не нова! Рембо уже “застолбил” её в своем стихотворении «Гласные» (1871):
A noir, E blanc, I rouge, U vert, О bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes...
Кроме того, Бодлер в переписке утверждал, что „Цвета, запахи и звуки соответствуют друг другу”. Как честный человек, Хлебников отдаёт должное предшественникам:
Ещё Маллармэ и Бодлер говорили о звуковых соответствиях слов и глазах слуховых видений и звуков, у которых есть словарь.
40
И всё-таки Хлебников не впал в “глоссолалию”, подобно А. Белому в его монументальной «Поэме о звуке»,41 подозрительно напоминающей мистические теории символистов. Напротив, темперамент убёжденного материалиста42
подозрительно напоминающей мистические теории символистов. Напротив, темперамент убёжденного материалиста42 толкал его на поиски причины в языке, никоим образом не сводимые к уравнению Кручёных: a = a (здесь a — звук). Такая апория означала бы капитуляцию разума и открыла шлюзы сокрушительному вторжению сумеречных сил дионийского экстаза, чего не мог допустить аполлонический рассудок Хлебникова. Он честно признаёт несостоятельность словотворчества “голым звуком”:
толкал его на поиски причины в языке, никоим образом не сводимые к уравнению Кручёных: a = a (здесь a — звук). Такая апория означала бы капитуляцию разума и открыла шлюзы сокрушительному вторжению сумеречных сил дионийского экстаза, чего не мог допустить аполлонический рассудок Хлебникова. Он честно признаёт несостоятельность словотворчества “голым звуком”:
Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена „Манч, манч!” из «Ка» вызвали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими; теперь они для меня ничто. Отчего — я сам не знаю.43
Исследование языка у Хлебникова сопровождается стократ более трудоёмкими изысканиями, краеугольным камнем его научной деятельности: “хронометрией”. Разве “геометр времени” мог допустить, чтобы поле дискурса засорили плевелы трансцендентального алогизма Кручёных? Хлебников обнаруживает, что число управляет не только историей, но и всей совокупностью дел человеческих; стало быть, и языком — поэтическим, в первую очередь; он-то и оказывается число-языком (numeri на латыни означает и ‘поэзия’, и ‘числа’), языком меры, т.е. метрики. Сама звукопись, хроматическая поэзия, подчиняется законам счёта, поскольку именно числовые отношения — тайные пружины самовитого языка:
Я изучал образчики самовитой речи и нашёл, что число пять весьма замечательно для неё; столько же, сколько и для числа пальцев руки.44 Мы говорим: остров мысли внутри самовитой речи, подобно руке, имеющей пять пальцев, должен быть построен на пяти лучах звука, гласного или согласного, сквозящего сквозь слова, как чья-то рука. То есть правило пяти лучей как изысканное строение звонкой речи с 5 осями. Так «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил» («Пощёчина общественному вкусу») образует чётные строчки; первые построенные на к, л, р, у, — по пяти (строение пчелиных сот). „Мы, не умирающие, смотрим на вас, умирающих” построены пять м. Довольно примеров и пятиосного строения морских звёзд нашей речи.45
Мы говорим: остров мысли внутри самовитой речи, подобно руке, имеющей пять пальцев, должен быть построен на пяти лучах звука, гласного или согласного, сквозящего сквозь слова, как чья-то рука. То есть правило пяти лучей как изысканное строение звонкой речи с 5 осями. Так «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил» («Пощёчина общественному вкусу») образует чётные строчки; первые построенные на к, л, р, у, — по пяти (строение пчелиных сот). „Мы, не умирающие, смотрим на вас, умирающих” построены пять м. Довольно примеров и пятиосного строения морских звёзд нашей речи.45
Логос — это речь и разум; причиной дискурса является число, которое неким образом выявляет чисто реляционную природу логоса.
С другой стороны, у Хлебникова есть иной, нежели строго рассудочный, резон арифметизировать язык: нежелание мириться с “разбазариванием” достижений человека вследствие хода времени: Я чувствую гробовую доску над своим прошлым. Свой стих кажется чужим.46 Он борется и с другого рода раздробленностью, не менее для него досадной: избыточностью языков и толп, затевая три осады — осаду времени, слова и множеств.47
Он борется и с другого рода раздробленностью, не менее для него досадной: избыточностью языков и толп, затевая три осады — осаду времени, слова и множеств.47 Хлебников ставит себе задачу завоевания terra incognita мирового языка, он пытается скрытое за множественным единство вывести на всеобщее обозрение, сведя феноменальное различие к эйдетическому: вполне и до конца идею можно высказать одним, и только одним сочетанием звуков. Следствие ли божественного проклятия, постигшего Вавилонское столпотворение, нынешняя нéсметь наречий? Или виной забвение людьми первоначального языка? Но тогда вооруженная борьба народов — прямое следствие этого забвения:
Хлебников ставит себе задачу завоевания terra incognita мирового языка, он пытается скрытое за множественным единство вывести на всеобщее обозрение, сведя феноменальное различие к эйдетическому: вполне и до конца идею можно высказать одним, и только одним сочетанием звуков. Следствие ли божественного проклятия, постигшего Вавилонское столпотворение, нынешняя нéсметь наречий? Или виной забвение людьми первоначального языка? Но тогда вооруженная борьба народов — прямое следствие этого забвения:
Языки изменили своему славному прошлому. Когда-то, когда слова разрушали вражду и делали будущее прозрачным и спокойным, языки, шагая по ступеням, объединили людей 1) пещеры, 2) деревни, 3) племени, родового союза, 4) государства — в один разумный мир, союз меняющих ценности рассудка на одни и те же меновые звуки. Дикарь понимал дикаря и откладывал в сторону слепое оружие. Теперь они, изменив своему прошлому, служат делу вражды и, как своеобразные меновые звуки для обмена рассудочными товарами, разделили многоязыковое человечество на станы таможенной борьбы, на ряд словесных рынков, за пределами которого данный язык не имеет хождения. Каждый строй звучных денег притязает на верховенство и таким образом языки, как таковые, служат разъединению человечества и ведут призрачные войны.
48
Отказ от излишнего многообразия языков предполагает решение уравнения каждого из них с неизвестным х, где х — число фонем данного языка. Хлебников избегает метафизической ловушки, не пытаясь ответить на вопросы, выходящие за рамки человеческого опыта. Происхождение языков не имеет значения; мы должны брать их такими, какими они есть. Размышляя о чарующем действии на слушателя зауми — набора непонятных ему звуков, Хлебников определяет её как язык особого рода внятности: звуки, смысл которых до сознания не доходит, воздействуют на подсознание. О магических заклинаниях или молитвах на выморочных языках читаем:
‹...›
Если различать в душе правительство рассудка и бурный народ чувств, то заговоры и заумный язык есть обращение через голову правительства прямо к народу чувств, прямой клич к сумеркам души или высшая точка народовластия в жизни слова и рассудка, правовой приём, применяемый в редких случаях. ‹...›
речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозём духа и позднее загадочными путями даёт свои всходы. Разве понимает земля письмена зёрен, которые бросает в неё пахарь? Нет. Но осенняя нива всё же вырастает ответом на эти зерна.
49
Вся проблема для Хлебникова, следовательно, состоит в том, чтобы суметь прочитать этот “метаязык”, в котором за кажущейся бессвязностью и невнятностью он стремится обнаружить разумность (
высший разум). В чрезвычайно важном теоретическом эссе «Наша основа»
50
заявлено:
‹...› Эти свободные сочетания, игра голоса вне слов, названы заумным языком. Заумный язык — значит находящийся за пределами разума. Сравни ‘Заречье’ — место, лежащее за рекой, ‘Задонщина’ — за Доном. То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным.
Таким образом, хлебниковская
заумь внеположна разуму, ибо выходит за его тесные рамки. Но распространение владений разума и на
заумь делает её сверхрациональным языком: из „недоязыка” (по залихватскому выражению Чуковского
51
) она становится “метаязыком”. Точно так же, как он “читает” историю через
сетку чисел, Хлебников читает
заумь посредством основных звуков языка, называя их совокупность
азбукой мира. При этом он исходит из того, что исконные звуки русского языка и всех прочих одинаковы; чтобы они составили
мировой язык, следует дознаться их смысла. Постулат “главных звуков” навёл Хлебникова на мысль о языке понятий, который он называет
заумным языком, то есть по силе воздействия приравнивает к
заклинаниям и заговорам. Говоря вкратце, “главным звуком” оказывается тот, который начинает слово и “управляет” его значением. Сравнение слов, начинающихся с одного и того же звука, позволило ему вывести умозрительное, не подвластное опыту понятие, которое соответствует одной букве (одному звуку) “мирового алфавита”. Это и есть “главный звук”, единый для смысловой матрицы. Хлебников подводит итог составления
азбуки мира и разработки положений “концептуального языка” в «Нашей основе»:
Заумный язык исходит из двух предпосылок:
1. Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным.
2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка.
52
Отсюда обнадёживающий вывод:
‹...›
Таким образом, заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют.
53
Этот заумный язык, рядом с которым умные языки внезапно глупеют — отнюдь не лепет детей или дикарей, как иронизирует Чуковский; если детьми и дикарями называть наших предков, попытка восстановить их первоначальный язык, язык самой природы, делает потомку честь:
‹...›
Простейший язык видел только игру сил. Может быть в древнем разуме силы просто звенели языком согласных. Только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы.
54
Построив умозрительную “логометрию” на соотношениях сил, выражаемых опорными звуками заумной речи, Хлебников далее выводит из неё своего рода логическую кинетику, где физические законы движения тел озвучены столь же основательно. Язык вселенной есть пение всего её пространства посредством голосов человека, земной тверди, сил межзвёздного тяготения. Именно заумный “вокал” планеты Земля, „звезды среди звёзд”, Хлебников нарекает звёздным языком, связывая этим голос человека с природными силами не только земного, но и космического ансамбля:
Итак, с нашей площадки лестницы мыслителей стало ясно, что простые тела языка — звуки азбуки — суть имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира.
55
В послесловии к «Изборнику стихов» Хлебников без тени сомнения утверждает:
‹...›
30–29 звуков азбуки суть 30 дней месяца и ‹...›
звук азбуки есть скрип Месяца слышимый земным слухом ‹...›.
Сквозь прозрачную азбуку виден месяц.
56
На этом уровне осмысления языка мы можем лучше судить о тонкостях различия воззрений Хлебникова и Малларме. В пособии для изучающих английский язык «Les Mots anglias» Малларме находим ряд высказываний, ярко высвечивающих его “лингвистические” убеждения. Дотошный и методичный преподаватель оказывается поэтом, которому внятны родовые тайны сплочения слов в семью, называемую телом языка. Ибо язык, по Малларме, — живой организм, который, будучи выразителем духа и орудием разума человека, оказывается частью природы:
Что такое язык между научно изучаемыми предметами? Ответственный за выражение всех явлений жизни, он у каждого из них что-нибудь перенимает; он живёт; и, поскольку окружающая действительность с необходимостью (чтобы уразумел и ребёнок) предстаёт перед нами в образах, любая фигура речи, соотносимая с любым проявлением жизни, хороша для языка. Слова в словаре расположены как наслоения, если они вошли в оборот разновременно: скоро я буду говорить о слоях. Бывает и так, что развитие слов происходит по тому или иному закону их роста, в зависимости от количества привоев к стволу языка: заботясь о кроне, приходится кое-какие побеги подрезать или вновь заняться прививкой, вживляя одну вокабулу в другую; если сравнивать язык с рекой, иной раз видим единственный, зато могучий приток. Слово сполна обладает очевидностью природы и, таким образом, может быть уподоблено живому вместилищу жизни; в своих гласных и дифтонгах оно представляется как бы плотью; в согласных же подобно довольно хрупкому костяку, не так-то просто из этой плоти вычленяемому. И т.д., и т.д., и т.д. Если своё существование слово питает воспоминаниями о прошлом или затянувшейся агонией, наука обнаружит этот факт в языке: отличая человека от косной природы, язык снова и снова будет подражать ему как существу фиктивному и одновременно полному жизни; скорее обдуманно, нежели покоряясь судьбе; добровольно, нежели слепо.
57
Следовательно, язык имеет двоякую природу: устоявшийся, он обеспечивает стабильность; плод случая — привносит бесчисленные изъяны и аномалии, уменьшить число коих разум бессилен. Как умудрённый педагог, стремящийся раззадорить ученика, Малларме предлагает исследовать взаимосвязь между значением и звучанием слов, дабы упростить их группировку в “фоносемантические” семьи, сделав, тем самым, изучение английской лексики более приятным и занимательным (зубрёжка “гербария слов” и впрямь самое утомительное — следовательно, наименее поучительное — занятие, поскольку не раскрывает тайные механизмы языка — те самые, которые педагог-поэт собирается пояснить):
Относительно местных слов, то есть тех, которые современный английский унаследовал от англосаксонского языка; имеет ли смысл уделять им повышенное внимание? Заметная обособленность остатков говора, который был в ходу до завоевания и довольно-таки сильно с тех пор изменился, на первый взгляд кажется вам достойной самого прилежного изучения: это же дыханье старины со всеми её причудами. Но какой прок в этих пережитках прошлого? неужели с их помощью вы лучше узнаете язык англичан? В дальнейшем — да, вполне может быть; но покамест, думается мне, полезнее усвоить отношения, которые существует между значениями слов — таковые, я полагаю, вам неизвестны — и внешней их обвязкой, если какое-либо из этих отношений касается словосочетаний. Насчёт выбора пути сказано выше, теперь говорю о группировке и исключениях из неё. Многие думают, что слово в языке подобно двум-трём другим, не более; но удвоим внимание: возможно, их тысячи и тысячи. Это же члены одной семьи, почему бы не выучить их все враз, не отвлекаясь на те, что сами по себе? а слова-единоличники усвоить порознь, если они, на ваш взгляд, пригодятся в дальнейшем. Разумеется, столь же увлекательным, насколько и полезным кажется второе; но торопиться с выводами не советую...
58
Заметим, что Малларме — и в этом проявляется взвешенный подход филолога — крайне осторожен в уточнении рамок своего предприятия: раскидистость языка не так требует строгой дисциплины учёного, прежде всего озабоченного созданием системы, как тонкого чутья поэта, прилагающего всё старание к тому, чтобы читатель прочувствовал игру внутренних сил языка:
То, что мы называем
игрой, в разумной мере необходимо для преуспеяния в этой одновременно сложной и простой работе: слишком большая строгость ведёт не к раскрытию тысячи явных и скрытых возможностей языка, а к удушению таковых в зародыше. Что может быть радостнее находки, вполне способной скрасить многие разочарования, чем осознание взаимосоответствия таких слов, как ‘house’,
дом, и ‘husband’,
муж, глава дома; между ‘loaf’,
каравай хлеба, и ‘lord’,
господин, обязанность которого — наделять этим хлебом бедняков; между ‘spur’,
шпора, и ‘to spurn’,
презирать; ‘to glow’,
сиять, и ‘blood’,
кровь; ‘well!’,
хорошо, и ‘wealth’, богатство; ‘trash’, площадка для молотьбы, и ‘threshold’,
порог, утрамбованный домочадцами? Придя, чтобы встретиться, издалека — из дальней дали, пусть будет так! — некоторые слова на первый взгляд не обнаруживают взаимосоответствия; но тут как бы диссонанс. Поворот значения может оказаться решительным до такой степени, что любопытен гораздо больше аналогии: так, ‘heavy’ внезапно избавляется от
тяжести, которую обозначает, чтобы стать ‘heaven’,
небесами, столь высокими, что слывут обителью богов. ‹...› Обратите внимание вот ещё на что: редко употребляемые слова зачастую служат неожиданными и ценными связующими звеньями для сопряжения двойных смыслов понятий отнюдь не заурядных.
59
Именно такого рода “гармонией” — столкновением благозвучия смысла и диссонанса звучания проникнуты умопостроения Малларме; больше, чем сами слова, его занимают “межсловия” — ощутимые пробелы между понятиями и звуковыми узорами. Вся доктрина (буде позволено применить столь строгий термин к подходу, и не пахнущему догмой), весь “способ производства” Малларме раскрывается в отрывке, где звукоподражание (ономатопея) представлено читателю как пример чудесного единства замысла и воплощения:
Связь между значением и формой слова, настолько совершенная, что кажется, будто иначе и быть не могло, имеет безоговорочный успех, как у рассудка, так и у слуха, это встречается часто; но особенно в том, что мы называем
ономатопеей. Поверите ли вы: эти слова, восхитительные своей свежестью, находятся, сравнительно с другим в языке (за исключением подобий глагола ‘to write’,
писать, имитирующего шорох пера готского ‘wrish’), в полном небрежении. И вот почему: отсутствие дворянских титулов и выслуги чинов; после нескольких столетий употребления такие слова, внеположные какому-либо сословию, кажутся младенцами двух дней отроду. Откуда вы взялись такие? мы спрашиваем их; а они только чаруют своим совершенством, и ничего более: однако не следует небрегать ими, поскольку в наших идиомах навеки запечатлено само творчество — может статься, в первобытном его виде. Эти вечно юные слова могут смутить всякого, кто хочет разделить язык на семьи: они сироты ещё до зачатия. Исторически это верно; логически рассуждая, именно поэтому многие понятия имеют более чем одно совпадение смысла и написания. Если отношения, подобные тем, которые скреплены единым алфавитом и тысячами значений слов, непременно предполагают определённое сходство их между собой, тем более справедливо полагать, что самое подходящее случаю слово давным-давно произнесены устами народа, который говорит на этом языке. Некоторые звукоподражания почти всегда можно выявить здесь, в “семьях”; изредка они встречаются среди слов-одиночек, ибо немногие из этих единоличников обходятся без какой-либо связи здесь или там: связь всегда найдётся.
60
По нашему мнению, в этом месте изложения “учебного курса” Малларме придаёт своему методу точность, делающую бессмысленной любую попытку сблизить его подход с убеждениями Хлебникова: если звукоподражательная работа, как он её определил выше, подразумевает именно поэта, культивирующего язык (ибо своими сочетаниями слов он строит „культуру”61 языка), учёный полагает пределом своих амбиций упорядочение номенклатуры посредством приёма группировки, который всецело принадлежит строгой науке. Поэт читает скрытые, потенциальные соответствия между сочетаниями смыслов, иногда посредством удачной стилистики создаёт новые звуковые узоры — короче говоря, он производит язык; учёный исхитряется в мнемонике. Предельно трезво — то есть не без толики сомнения — Малларме ставит во главу угла раскрытие наукой высшей тайны языка:
языка), учёный полагает пределом своих амбиций упорядочение номенклатуры посредством приёма группировки, который всецело принадлежит строгой науке. Поэт читает скрытые, потенциальные соответствия между сочетаниями смыслов, иногда посредством удачной стилистики создаёт новые звуковые узоры — короче говоря, он производит язык; учёный исхитряется в мнемонике. Предельно трезво — то есть не без толики сомнения — Малларме ставит во главу угла раскрытие наукой высшей тайны языка:
Уступит ли неукоснительное следование правилам современной лингвистики место тому, что мы называем
литературной точкой зрения или языком культуры; собственно говоря, здесь не о чем рассуждать: дело идёт о самой душе английского языка. Наша классификация иногда заходит слишком далеко; более того, оказывается никчёмной, стоит коснуться таких-то и таких-то секретов (банальных для любого, кто пишет по-английски). Поэту (как, впрочем, и профессору), благодаря влечению, в высшей степени свободному, свойственно сближать значения слов с тем бóльшим удовольствием, что этим он соревнуется с очарованием и музыкой языка; слова приходят как бы издалека, как бы случайно: это излюбленный приём северного гения, известнейшие стихи коего насыщены
аллитерацией. Столь виртуозное усилие воображения, стремящегося не только удовлетвориться ослепительными символами окружающего мира, но и установить связь между ними и словом, ответственным за их выражение, затрагивает одну из священных тайн: порой язык сам себе враг; будет разумнее дождаться того дня, когда наука, обремененная идиомами, включая никем ни разу не использованные, напишет буквы алфавита всех времён и народов, какой бы степени всеобщности ни было их значение — иной раз угаданное, а порой неизвестное даже самим творцам слов; увы, к тому времени уже не будет ни науки, которая обобщила бы весь этот громозд, ни одиночки, способного классифицировать самостоятельно. Однако довольно химер, предлагаю довольствоваться светом, который пролили на сей предмет наблюдательные умы: да, ‘sneer’ — это
насмешка, а ‘snake’ — ползучий гад,
змея, поэтому сочетание SN кажется английскому читателю зловещим, кроме, разве что, ‘snow’ и т.п. ‘Fly’,
полёт? ‘to flow’,
тонуть? но что более умиротворяет, чем ‘flat’,
плоский? Аналогии подобного рода студент, задумавший посвятить себя в дальнейшем литературной культуре английского языка, уловит и в семействах слов, и в словах-одиночках, которые он вытвердил; подождём, пусть он доверится своей памяти; и вот ему уже ничего не остаётся, как видеть в буквах, присвоенным группам слов, инициалы патронимии. Для того, чтобы чем-то разнообразить просматриваемый список, поневоле монотонный, а потом связать воедино два класса слов из каждого ряда, иной раз видим попытку приписать доминирующим согласным значение большее, нежели термин: это собрание итогов наблюдения, ценного как приближение к науке, но ещё вне таковой. Уделив минуту внимания одной из красот стиля, вернёмся к нашему скромному исследованию.
62
Выдвинутый Малларме принцип доминирования начального согласного, приказывающего слову, каким быть его “смыслу”,63 приводит на память знакомые нам по изысканиям Хлебникова ряды и удивляет сходством описания кинетических связей начального “звука” с другими частями слова. Так, у Малларме за изложением предлагаемого им способа усвоения английской лексики
приводит на память знакомые нам по изысканиям Хлебникова ряды и удивляет сходством описания кинетических связей начального “звука” с другими частями слова. Так, у Малларме за изложением предлагаемого им способа усвоения английской лексики
Значение, которое выглядывает из множества комбинаций, в пределах точного наблюдения оказывается единственным проводником сведéния этого разнообразия воедино, и опять-таки не за что, кроме как за начало слов, зацепиться: уместно добавить, что острие
атаки подлинного смысла на ложный (средняя гласная или дифтонг играют в северных языках незначительную роль, а конечные согласные, наблюдаемые в виде суффиксов, не всегда различимы) находится именно там, в начале слова.
64
следует рассмотрение различных групп слов, разнесённых по „инициалам патронимии”. Вот наиболее впечатляющие образчики пояснений к этим перечням:
— для В:
В представлена во множестве семей; в начале слова она предваряет любую из гласных, несколько дифтонгов и пару согласных
l и
r : всё это для обозначения самых разных и, тем не менее, потаенно связанных между собой понятий: производство, деторождение, плодовитость, размах, одутловатость, кривизна, хвастовство; кроме того, масса или кипение, а иногда благосклонность и благословение. За вычетом исключений, о которых мы поговорим отдельно, все перечисленные понятия более или менее соответствуют простым лабиальным.
65
— для Н:
Следует ли придавать
H, неизменно сопровождаемой гласной или дифтонгом, то же значение, что и любой другой согласной? да, поскольку, за редким исключением, эта буква в начале слова столь же отчётлива, как и прочие артикуляты алфавита.
Н обозначает, хотя и довольно расплывчато, прямое и простое движение вроде жеста взятия за руку, даже и поспешного; сердце или голову; то, что
скрыто позади, — да, но и то, что возвышается, и, наконец, власть и господство. Эти признаки чаще, чем где-либо, раскрываются в семьях; их крайне мало в словах наособицу.
66
— для L:
L, не будучи в состоянии присоседиться к
r или вздвоить себя как начальная согласная, всегда навлекает ударение на следующую за ней гласную; именно в начале слова она предстаёт во всём своём великолепии. Иной раз кажется, что эта буква сама по себе бессильна выразить что-либо, кроме предвкушения, медлительности, застоя, затягивания того, что предстоит или уже длится; однако она внезапно проявляет резвость в смыслах, соответствующих прыжкам, и, во всю прыть устремляясь туда, где слушают и любят, удовлетворяется группой от ‘loaf’ до ‘lord’: ещё раз обращаю внимание на связь и аналогию этих слов.
67
— для N:
С сохранением своего значения в чистом виде (поскольку эта буква, подобно
m и
l , не выносит соседства другой согласной)
N встречается гораздо реже, чем
m , отмеченная печатью полноты: можно счесть её выразительницей сокращения и чистки, поскольку она обозначает действие вырезания или выколупывания в семействах ‘nail’ и ‘nose’,
ноготь и
нос, следовательно, и
клюв. См. ‘near’,
близ, около, и ‘new’,
новый, вновь, — именно в этих словах, думается, наиболее полно раскрыто предназначение буквы: это состояние покоя, как для
l, а то и сближенность в пространстве или во времени. ‘Name’, ‘nasty’, ‘need’, внося разнообразие, представляются не менее значимыми.
68
Подобные примеры69 с лёгкостью находим у русского поэта:
с лёгкостью находим у русского поэта:
‹...›
я утверждаю, что:
1) В на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад.
2) Что Х значит замкнутую кривую, отделяющую преградой положение одной точки от движения к ней другой точки (защитная черта). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) Что Л значит распространение наиболее низких волн на наиболее широкую поверхность, поперечную движущейся точке, исчезание измерения высоты во время роста измерений широты, при данном объеме бесконечно малая высота при бесконечно больших двух других осях — становление тела двумерным из трёхмерного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14) Что Н значит отсутствие точек, чистое поле.70
Но вот что делает любую попытку сближения этих двух подходов неправомерной: там, где Малларме действует с трезвой расчётливостью учёного (и с прозорливостью поэта, разумеется!), Хлебников оказывается гностиком:71 его наука оборачивается верой нового типа, единообразно истолковывающей устройство мира (справедливости ради заметим, что эта вера исполнена обаяния: Хлебников — гениальный поэт, который, сам того не желая,72
его наука оборачивается верой нового типа, единообразно истолковывающей устройство мира (справедливости ради заметим, что эта вера исполнена обаяния: Хлебников — гениальный поэт, который, сам того не желая,72 поэтизирует науку, приобщая математику к искусству сочетания слов...); поэтому он уверенно73
поэтизирует науку, приобщая математику к искусству сочетания слов...); поэтому он уверенно73 заявляет:
заявляет:
‹...›
Таким образом Ч есть не только звук, Ч — есть имя, неделимое тело языка.
Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решён вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться че ноги, все виды чашек — че воды — ясно и просто. Во всяком случае хата значит хата не только по-русски, но и по-египетски; В в индоевропейских языках означает вращение. Опираясь на слова хата, хижина, халупа, хутор, храм, хранилище, — мы видим, что значение — черта преграды между точкой и движущейся к ней другой точкой. Значение В в вращении одной точки около другой неподвижной. Отсюда — вир, вол, ворот, вьюга, вихрь и много других слов. М — деление одной величины на бесконечно малые части. Значение Л — переход тела, вытянутого вдоль оси движения, в тело, вытянутое в двух измерениях, поперечных пути движения. Например, площадь лужи и капля ливня, лодка, лямка. Значение Ш — слияние поверхностей, уничтожение границ между ними. Значение К — неподвижная точка, прикрепляющая сеть подвижных. Таким образом заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей ‹...›
Итак, каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя.
74
Если Хлебников в своей теории языка не “маллармеец”, то уж тем более не “кратилианин”. А ведь хлёсткий приговор Тастевена (1914) по сию пору мелькает в статьях специалистов, что ещё раз доказывает, что параллели в области литературы — несмотря на всю эрудицию, которой при случае стремятся блеснуть — лишены ценности и даже смысла, если они выхватывают факты из произведения (или системы), в котором (в которой) они только и обретают свой смысл. Приведём несколько примеров.
Так, Сократ пытается доказать Гермогену, что смысл может быть передан сочетанием разных слогов, не теряя при этом своей внятности:
Пусть один и тот же смысл выражается тем или иным слогом, это не имеет значения; прибавлена буква или убрана, это тоже не имеет значения, пока налицо суть предмета, явленная в имени.
75
Когда доказательства (имена царей и полководцев) предъявлены, он подводит итог:
‹...› и, без сомнения, мы нашли бы множество других, где, хотя слышим разные звуки из слогов и букв, смысл, по сути, один и тот же.
76
Хлебников, обладавший в этом вопросе не меньшей чуткостью,77 придерживается иной точки зрения: что занимает его в первую очередь (и, напротив, никоим образом не волнует Сократа), так это сохранение в последовательности поименований определённых букв (звуков), которые, по его мнению, ясно доказывают постоянство изначального понятия, которое ему остаётся лишь отождествить с инвариантным “звуком”:
придерживается иной точки зрения: что занимает его в первую очередь (и, напротив, никоим образом не волнует Сократа), так это сохранение в последовательности поименований определённых букв (звуков), которые, по его мнению, ясно доказывают постоянство изначального понятия, которое ему остаётся лишь отождествить с инвариантным “звуком”:
‹...›
Мы говорим и открываем особую природу заглавного звука, звука имени, независимую от смысла слова, присваивая ей имя провода судьбы.
В первой согласной мы видим носителя судьбы и путь для воль, придавая ей роковой смысл.
Этот волевой знак иногда общ у разных имен: Англия и Альбион, Иберия, Испания.
78
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Важно отметить, что судьба звуков на протяжении слова не одинакова и что начальный звук имеет особую природу, отличную от природы своих спутников. Примеры упорства этого звука при перемене остальных: Англия и Альбион, Иберия и Испания.79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итак, природа первого звука, иная, чем остальных. А упорно стоит в начале названий материков — Азия, Африка, Америка, Австралия, хотя названия относятся к разным языкам. Может быть, помимо современности, в этих словах воскресает слог А праязыка, означавший сушу.
80
Умозрительный проект Сократа диаметрально противоположен: постоянство смысла, проявляется он одними и теми же “буквами” или нет, обеспечивает, по его мнению, то, что
существа, рождение которых произошло естественным образом, как раз таки поэтому и должны получать соответствующие имена.
81
Если это так, то какое угодно поименование вполне соответствует сущности того, что оно воспроизводит; именно эта адекватность ὄνομα и πρᾶγμα составляет предмет рассуждений Сократа.
Тастевен полагал, что именно в “этимологической” части «Кратила» сосредоточена лингвистическая “хлебниковщина”, явленная миру за двадцать три столетия до будетлянина.82 В действительности же Сократ занимается распутыванием этимологий и сближений,83
В действительности же Сократ занимается распутыванием этимологий и сближений,83 что “гилейским” поэтам отнюдь не свойственно. Вот широко известный пример объяснения поименований ψῡχή (душа) и σῶμα (тело):84
что “гилейским” поэтам отнюдь не свойственно. Вот широко известный пример объяснения поименований ψῡχή (душа) и σῶμα (тело):84
Сократ. Хорошо, давай без проволочек: вот как, может статься, рассуждали поименователи души (τήν ψυχήν): она то, что своим наличием поддерживает жизнь тела, наделяя его способностью дышать и освежая (ἀναψῦχον); как только этого освежающего начала недостаёт, тело иссыхает и гибнет; отсюда, по моему мнению, и поименование ψυχή, которым её наделили. Но это первое, что пришло мне в голову; теперь наберись терпения: кажется, я знаю более приемлемое для сторонников Евтифрона истолкование. Предыдущее они наверняка сочтут натянутым и отвергнут с негодованием. А вот посмотрим, как тебе понравится такое.
Гермоген. Я весь внимание.
Сократ. Тело живого существа, что, по-твоему, поддерживает его в рабочем состоянии, чтобы оно жило и двигалось? Разве не душа?
Гермоген. Разумеется.
Сократ. А сама животворящая природа? Разве ты не веришь вместе с Анаксагором, что именно душа распоряжается ей таким образом, чтобы поддержать в рабочем состоянии?
Гермоген. Ещё бы не верить.
Сократ. Но в таком случае следовало бы назвать ту силу, которая движет (όχεῖ ) и поддерживает (ἔχει ) природу (φύσις ), природоносительницей (φυσέχην ). Вероятно, так оно и было, пока это слово краткости ради не переврали в ψυχή.
Гермоген. Ну ты и причесал.
Сократ. Сущая правда. Переврали так, что нынче засмеют, если назовёшь душу единственно правильным именем, предустановленном ей.
Гермоген. И много ещё переврали?
Сократ. Тело (σῶμα ), ты хочешь сказать?
Гермоген. Вот именно.
Сократ. Уместны самые разные объяснения, а если сосредоточиться самую малость, то в высшей степени разные. Может показаться, что тело подобно могильной плите (σῆμα ) над погребённой заживо душой. Внимание: эта плита оказывается ещё и знаком (σῆμα ), то есть тем, чем душа себя изъясняет. Напрашивается вопрос: не лучше ли тело назвать блюстителем (σώχηται )? Отнюдь нет. Мне кажется, что скорее всего поименование установил кто-то из орфиков вот в каком смысле: душа терпит наказание — неведомо за что, но терпит, — а тело ей нужно затем, чтобы выстрадать самую себя, находясь в нём, как в застенке. Так вот, тело, скажем так, есть плоть (σῶμα ) души, пока та не расплатится сполна, и тут уж ни прибавить, ни убавить.
Гермоген. А ведь очень похоже на правду, Сократ.
Может показаться, что сократовские этимологизмы отзываются эхом у Хлебникова:
‹...›
В именах чисел мы узнаём старое лицо человека. Не есть ли число семь усечённое слово ‘семья’?
В именах числительных сквозят занятия родового быта, свойственные и доступные этому числу членов.
Числом семь называется общество из пяти зверёнышей и двух старцев, идущих на охоту; 8 образованное первым словом и предлогом во, указывает на нового неделимого, присоединившегося к их обществу.
Если первобытный человек не нуждался в чужой помощи во время еды, то число “единица” справедливо названо занятием именно этим делом. В нём зубами раскалывались берцовые кости добычи и кости трещали. Это говорит, что первобытный человек голодал. Сто означало общину, управляемую старым, синеглазым вождём племени (рыба, рыбарь, сто, старик).
Число пять можно выводить из слова пинки (распять, распинать), и означало наиболее презираемую часть семьи, на долю которой в суровом быте того времени доставались одни окрики и пинки; во время странствий она держалась за одежды старших.
Особой родовой единицей вызвано одинокое имя.
Существуют подобные пары слов: темь, тороки, зоркий — земля. Имя ‘сорок’ означало союз семей. Каждая семья вступала в отношения свойства с пятью новыми семьями по 7 членов; 35 людей и 5 первой семьи (кроме двух старшин) есть сорок. Именем числа стали названия занятий пращура в этом числе.85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Каким образом в со есть область сна, солнца, солода, слова, сладкого, соя, сада, села, сол, слыть, сын.
Сухой увеличивает связь со между частями и частицами. Вода растворяет, и льющаяся грязь делается, высыхая, сушей: в ней частицы вошли в со, став неподвижными. Слива или сладкая. Ясно значение сетей, как связывающих движение улова и являющихся со узами между охотником и добычей. Общая кровь потомков — сой, то есть люди общего племени связаны общими правдой и нравами и идут со. Село — место, где люди находятся в со с землёй или неподвижная ось людей, а сад — то же для растений. Слово есть своего рода посланник между людьми; слыть — значит быть посланным в слове; славить — создавать для других; слух — приемник слова, а слуга — исполнитель слова.
Если сухой тот, из кого вытекла вода, то судно, посудина, то, что мешает течь воде, непроницаемо для неё.
Если грязь — источник гор на дороге, князь — источник, водопад закона (кона), то связь — условие сов и сычей, то есть малоподвижных, неуклюжих движений сучков: людей неподвижных, молчаливых в обществе называют совами.
В то же время, так как сон есть состояние неподвижности, — со в самом себе, то cова есть и сонное животное. Соловый — готовый уснуть.86
Но сравнение тотчас обнаружит свою неправомерность, стоит вдуматься в предпосылки рассуждений Сократа
87
и Хлебникова. Сократ, дознаваясь единственно верных имён,
доказывает от противного нелепость этимологического подхода Евтифрона и его последователей. Все “этимологические” пассажи «Кратила» — развёрнутая пародия с целью показать плачевный исход лексических изысканий путём произвольных и почти всегда натянутых сравнений. В действительности Сократ не приемлет преимущественно поэтическое (“стилистическое”, по терминологии Малларме) сближение далековатых понятий, производимое на основании случайной близости звуковых узоров. А чем занимается Хлебников? Не столько оправдательной этимологией, сколько чистой абстракцией: он пытается выстроить, сопоставляя созвучные слова, их “родословную”. Его интересует исключительно “звуковое понятие”, а не философская проблема адекватности “вещи” её “имени”. Но в этом месте его рассуждений убедительнее, чем где-либо, возникает призрак “кратилианства”. Ибо Сократ тоже совершает ряд последовательных отсечений, стремясь дознаться первоначальных, неразложимых далее, воистину собственных имён сущностей. Изобразительная парадигма доминирует над всем предприятием: правильным названием будет то, которое лучше “подделывается” под сущность, которую поименовывает:
Сократ. ‹...› Ну, во-первых, мне кажется, что
ρ (ро) годится для передачи всех видов движения.
88
‹...› поэтому-то поименователь столь часто прибегал к ней, дабы воспроизвести подвижность. Наиболее очевидно это в словах
ῥεῖν (течь) и
ῥοή (ток, стремнина); затем
τρόμος (трепет),
τραχύς (обрывистый); кроме того, в глаголах
κρούειν (бить, ударять),
θραύειν (давить, крушить),
έρείκειν (рвать),
θρύπτειν (рыть),
κερματίξειν (дробить),
ῥυμβειν (вертеть) — все они весьма выразительны благодаря букве
ρ, ведь именно на ней язык не знает покоя, сильнейшим образом сотрясаясь; вот поименователь и воспользовался этим для отображения соответствующего действия. Теперь о тонком, способном даже и проницать: здесь ему понадобилась
ι (йота). Вот почему действие движения (
ιέναι ) и порыв (
ϊεσθαι ) воспроизведены именно с её помощью. Посредством же “выдыхательных”
ψ (пси),
σ (сигма) и
ζ (дзета) поименователь подражал леденящему (
ψυχρόν ), шипучему (
ξέον ), тряске (
σείεσθαι ) и колебанию как таковому; эти же звуки вводил он и при нарекании пенящегося. Сжатие языка при произнесении
δ (дельта) и упор при произнесении
τ (тау) полезно, думается, применить для выражения взнуздывания и остановки. Поскольку при произнесении
λ (ламбда) язык усиленно скользит, опускаясь вниз, то, пользуясь уподоблением, поименователь дал имена гладкому (
λεῖον ), скользкому (
ὀλισθάνειν ), лоснящемуся; (
λιπαρόν ), смолистому (
κολλωγες ) и прочим подобным вещам. Скольжению же языка на звуке ламбда, когда им выговаривают клейкое (
γλισχρόν ), сладкое (
γλυκύ ) и липкое (
γλοιῶδες ), препятствует звук
γ гамма. Заметив при звуке
ν (ню) в гортани нечто вроде эха, поименователь обозначил им внутреннее (
ἔνδον ) и потаенное (
ἔντός ). Альфу (
α ) он присвоил громадному (
μέγας ), эту (
η ) — величине (
μῆκος ), поскольку это долгие звуки. Для обозначения округлого (
γογγύλον ) ему понадобился о-микрон (
ο ), рассыпаемый в подобных именах с нарочитой щедростью. То же самое, подозреваю, и с другими понятиями: поименователь подбирал по буквам и слогам знак для каждой вещи и, таким вот образом, создавал имена. Имея некоторый запас готовых, он использовал его как подспорье для составления новых имён. Думается мне, Гермоген, в этом и заключается правильность поименований, хотя Кратил, здесь присутствующий, никогда с этим не согласится.
89
Перед нами целостная система поэта-лингвиста: “буквы алфавита” (в действительности, элементарные звуки языка, то есть фонемы языковой системы) есть имена собственные движений (ритмов), взаимодействия элементов истинного бытия (τά ὄντα ),90 тех самых “вещей”, которые на поверку оказываются связями, отношениями (знаки в любом случае обозначают отношения). Но разве не о том же писал Хлебников?
тех самых “вещей”, которые на поверку оказываются связями, отношениями (знаки в любом случае обозначают отношения). Но разве не о том же писал Хлебников?
He сохранились ли простейшие слова в нашем языке в предлогах?91
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бо — причина.
То — следствие.
Во — поверхность внутри очертания и разрыв очертания.
До — длина черты, перерезанной точкой.
Со — равенство расстояний двух движущихся точек.
По — движение выше поверхности.
Ко — уменьшение расстояния и объема при сохранении веса; направление движения.
Мо — распадение одного объёма на мелкие многочисленности.
Но — встреча сил.
Зо — область вне данного очертания.
Хо — нахождение объема в другом.92
Нет, не о том. Якобы очевидное совпадение систем Хлебникова и Сократа оборачивается их диаметральной противоположностью: то, что для первой является конечной целью, для второй — отправная точка. Своё исследование Сократ ведёт с гносеологических позиций: после “доказательства” (мы ставим это слово в кавычки, потому что высокоумного исследователя в «Кратиле» изображает ехидный пересмешник) соответствия между первобытными именами и “вещами” он сам принимается “поименовывать” — но лишь для того, чтобы показать всю нелепость этого занятия
93
и подвести собеседника к мысли о том, что язык не является надёжным орудием познания, поскольку точного соответствия “имён” “вещам” нет и быть не может. Но раз уж имена “правильными” не бывают, лучшее знание — это прямое постижение “отдельностей” бытия, без оглядки на их “прозвища”. Весь «Кратил» находится под знаком этого фундаментального в системе Сократа (и, соответственно, Платона) положения:
Κρατύλος ἤ περί ονομάτων ὀρθότητος (Кратил, или о правильности имён) гласит заглавие диалога.
Так вот, ничего подобного у Хлебникова нет. Его исследование изначально задумано как научное. Вопрос соответствия (или несоответствия) вещи её имени не ставится: проблема μίμησις Хлебникова не занимает ни в малейшей степени. Первичное звуковое понятие — это имя и вещь, искони наличествующие одновременно. Всё дело в звуке и наоборот. “Поименование” истаивает в полном слиянии бытия и имени. Аутосемия предполагает исчезновение знака как знака ; она незамедлительно входит в свои права, разрешая этим противоречие όν / ὄνομα : изначальное звуковое понятие есть δύναμις (сила). Хлебниковская заумь, таким образом, есть “движение мимо слов” к их умозрительной связи, некое трансвербальное умствование : первопричина окружающей действительности (вещей) тождественна игре “звуков” языка, причём обе оказываются силами, в высшей степени самовитыми. Дихотомия язык / бытие разрешается в их грандиозном сведении воедино, что делает язык частным случаем, разновидностью великой игры универсальных сил, которые, взаимодействуя и переплетаясь, непрерывно “ткут” текст мира. Таким образом, блестящий научный бред “физиолога языка” обустроил (мифическим, а потому в высшей степени поэтическим94 образом) переход от эпистемологического языка к онтологическому — переход, который греческий философ вверил диалектике. Открытие Хлебникова беспримерно по размаху и последствиям: поэзия95
образом) переход от эпистемологического языка к онтологическому — переход, который греческий философ вверил диалектике. Открытие Хлебникова беспримерно по размаху и последствиям: поэзия95 разлита во всём видимом и невидимом пространстве: вселенная обладает голосом, причём вменённый ей поэтом язык и оказывается мировым.
разлита во всём видимом и невидимом пространстве: вселенная обладает голосом, причём вменённый ей поэтом язык и оказывается мировым.
Прочитав (ибо речь идёт о прочтении), а затем уяснив до последней запятой этот “экуменический” (вселенский) текст-универсум, Хлебников выполнил задачу, поставленную себе в 1914 году: ‹...› через законы быта люда прорубил окно в звёзды.96 Иными словами, Вавилонская башня не просто возведена, а нанизывает на себя просторы вселенной. Свершилось и другое: научным по видимости предприятием исполнена заветная мечта “гилейцев” первого призыва: найден язык обители человечества, который непосредственно выражает простейшие силы, движущие людьми, — тот естественный (природный) язык, посредник между первобытной речью, голосами живых существ (птиц, например) и, как знать, даже богов. В «Зангези» находим образчики “речей” двух сообществ такого рода;97
Иными словами, Вавилонская башня не просто возведена, а нанизывает на себя просторы вселенной. Свершилось и другое: научным по видимости предприятием исполнена заветная мечта “гилейцев” первого призыва: найден язык обители человечества, который непосредственно выражает простейшие силы, движущие людьми, — тот естественный (природный) язык, посредник между первобытной речью, голосами живых существ (птиц, например) и, как знать, даже богов. В «Зангези» находим образчики “речей” двух сообществ такого рода;97 в обоих случаях эта заумь отнюдь не предназначена для перевода на бытовой язык: она выступает на равных со звукописью и заумным языком. Но боги в пьесе исчезают после своего краткого вторжения: человек, полноправный хозяин Логоса, замещает богов: „Боги улетели, испуганные мощью наших голосов. К худу или добру?” — вопрошают “зангезиане”.98
в обоих случаях эта заумь отнюдь не предназначена для перевода на бытовой язык: она выступает на равных со звукописью и заумным языком. Но боги в пьесе исчезают после своего краткого вторжения: человек, полноправный хозяин Логоса, замещает богов: „Боги улетели, испуганные мощью наших голосов. К худу или добру?” — вопрошают “зангезиане”.98
Заимствованное из физики “лучевое” понимание языка оказывается промежуточной ступенью к чисто “арифмологическим” умопостроениям: язык (вкупе с летописью человечества, что не менее важно) есть данная в ощущениях (звуковая) оболочка числовых отношений: слова суть лишь слышимые числа нашего бытия.99 Тем самым язык, этот избыточный источник застывших в письменности звуковых волн, поражается в правах при одновременном возвышении алгебры, что не блещет новизной (Лейбниц100
Тем самым язык, этот избыточный источник застывших в письменности звуковых волн, поражается в правах при одновременном возвышении алгебры, что не блещет новизной (Лейбниц100 и Паскаль101
и Паскаль101 уже рассматривали язык как систему алгебраических знаков), но имеет в сравнение с предшественниками колоссальное поэтическое преимущество: единообразие хронометрии и логометрии: Во времени, как и в звуке, боги числа живут как показатели степени и имеют их облик.102
уже рассматривали язык как систему алгебраических знаков), но имеет в сравнение с предшественниками колоссальное поэтическое преимущество: единообразие хронометрии и логометрии: Во времени, как и в звуке, боги числа живут как показатели степени и имеют их облик.102 Место языка заступает звукатая временель — “языко-число”: Числосети. Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах.103
Место языка заступает звукатая временель — “языко-число”: Числосети. Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах.103 Именно для сбережения расходуемых на речевое общение сил Хлебников призывает к сотрудничеству художников: они должны создать идеограммы, соответствующие каждому звуковому понятию азбуки мира, при необходимости связывая тот или иной цвет с тем или иным звуком:
Именно для сбережения расходуемых на речевое общение сил Хлебников призывает к сотрудничеству художников: они должны создать идеограммы, соответствующие каждому звуковому понятию азбуки мира, при необходимости связывая тот или иной цвет с тем или иным звуком:
Эта цель — создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населённой человечеством звезды, затерянной в мире. Вы видите, что она достойна нашего времени. Живопись всегда говорила языком, доступным для всех. И народы китайцев и японцев говорят на сотне разных языков, но пишут и читают на одном письменном языке. ‹...›
Пусть один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человека и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые начертательные знаки помирят многоголосицу языков.
На долю художников мысли падает построение азбуки понятий, строя основных единиц мысли, — из них строится здание слова. Задача художников краски дать основным единицам разума начертательные знаки. ‹...›
Задачей труда художников было бы дать каждому виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить на другие. Можно было бы прибегнуть к способу красок и обозначить М тёмно-синим, В — зелёным, Б — красным, С — серым, Л — белым и т.д. Но можно было бы для этого мирового словаря, самого краткого из существующих, сохранить начертательные знаки. Конечно, жизнь внесёт свои поправки, но в жизни всегда так бывало, что в начале знак понятия был простым чертежом этого понятия. И уж из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни.
104
Отсылки к письменности,105 коими пестрит приведённое выше высказывание (см. выделенное курсивом), недвусмысленно указывают на абстрактную природу хлебниковского число-языка. Упоминание восточной идеографии отнюдь не случайно: иным образом взаимосвязи, пронизывающие язык, не изобразить. Да, речь идёт не просто об “идеях”, а о графике их взаимосвязи. Капитальное значение хлебниковского математизма вполне раскрывается только при осмыслении всей его поэтической системы: то, чему Хлебников даёт здесь определение — нерв “логотехники”:106
коими пестрит приведённое выше высказывание (см. выделенное курсивом), недвусмысленно указывают на абстрактную природу хлебниковского число-языка. Упоминание восточной идеографии отнюдь не случайно: иным образом взаимосвязи, пронизывающие язык, не изобразить. Да, речь идёт не просто об “идеях”, а о графике их взаимосвязи. Капитальное значение хлебниковского математизма вполне раскрывается только при осмыслении всей его поэтической системы: то, чему Хлебников даёт здесь определение — нерв “логотехники”:106 взаимосогласованность смыслов (гармония, проще говоря). Достигается последний предел борьбы с привязкой ко времени в языке: математическая парадигма спасает дискурс от семантической дисперсии строгостью вневременной поэтико-математической формулы. “Эмпирическое” слово находит последний приют в изящной словесности, полностью освобождённой от любого рода концептуальной нагрузки: Слово остаётся не для житейского обихода, а для слова.107
взаимосогласованность смыслов (гармония, проще говоря). Достигается последний предел борьбы с привязкой ко времени в языке: математическая парадигма спасает дискурс от семантической дисперсии строгостью вневременной поэтико-математической формулы. “Эмпирическое” слово находит последний приют в изящной словесности, полностью освобождённой от любого рода концептуальной нагрузки: Слово остаётся не для житейского обихода, а для слова.107 Языки остаются для искусств и освобождаются от оскорбительного груза. Стих устал;108
Языки остаются для искусств и освобождаются от оскорбительного груза. Стих устал;108 поэзия становится наукой о законах свободного развития живых сил языка: Стихи должны строиться по законам Дарвина.109
поэзия становится наукой о законах свободного развития живых сил языка: Стихи должны строиться по законам Дарвина.109 Поэзия как продукт дискурса — логопоэзия — вновь обретает свою первоначальную “онтопоэтичность”, ибо представляет бытие. Античная дихотомия μίμησις / “реальность” переводится на более высокий, онтологический уровень. Эта предельная степень очищения слова указана, как желанная цель, во втором листе Досок судьбы: Можно быть недовольным убогостью словаря живых существ и приступить к существотворчеству.110
Поэзия как продукт дискурса — логопоэзия — вновь обретает свою первоначальную “онтопоэтичность”, ибо представляет бытие. Античная дихотомия μίμησις / “реальность” переводится на более высокий, онтологический уровень. Эта предельная степень очищения слова указана, как желанная цель, во втором листе Досок судьбы: Можно быть недовольным убогостью словаря живых существ и приступить к существотворчеству.110 Каково бы ни было устроение языка, он одного порядка с вещью, поскольку её же и создаёт. Поэзия производит бытие; отбросив легкомысленное краснобайство, напоминающее детскую игру в тряпичные куклы,111
Каково бы ни было устроение языка, он одного порядка с вещью, поскольку её же и создаёт. Поэзия производит бытие; отбросив легкомысленное краснобайство, напоминающее детскую игру в тряпичные куклы,111 она предстаёт во всём величии онтологического языка, создателя своего собственного мира.
она предстаёт во всём величии онтологического языка, создателя своего собственного мира.
Это нечто неизмеримо большее, нежели двусмысленный неоадамизм будетлянских дебютов.112 Адам, согласно библейскому преданию, нарекал имена готовым вещам, к созданию которых никоим образом не был причастен. Как пионер “поименования”, в западной литературной традиции он слывёт покровителем “поэтов от мира сего”, князем подражателей. “Футуризм” помещает Адама в сад Поэзии;113
Адам, согласно библейскому преданию, нарекал имена готовым вещам, к созданию которых никоим образом не был причастен. Как пионер “поименования”, в западной литературной традиции он слывёт покровителем “поэтов от мира сего”, князем подражателей. “Футуризм” помещает Адама в сад Поэзии;113 у Хлебникова сам Бог низвергнут восставшим Адамом, и поэт силой воображения коронует себя творцом Мира.
у Хлебникова сам Бог низвергнут восставшим Адамом, и поэт силой воображения коронует себя творцом Мира.
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1
1 См. «Труба Марсиан» (
СП V:154):
Предметы обсуждения.
„Улля, улля, Марсиане!”
1) Как освободиться от засилья людей прошлого, сохраняющих ещё тень силы в мире пространства, не пачкаясь о их жизнь (мыло словотворчества), предоставив им утопать в заработанной ими судьбе злобных мокриц. Мы осуждены завоевать мерой и временем наши права на свободу от грязных обычаев людей прежних столетий.
Манифест «Труба Марсиан», обнародованный в 1916 г. Хлебниковым и группой харьковских “хлебниковиан” (М. Синякова, Божидар, Г. Петников, Н. Асеев), продолжает “футуристскую” линию 1912–1913 гг., но в то же время демонстрирует явный поворот в сторону более радикальной оппозиции
будетлян “государствам пространства”. Хлебникова в манифесте маркирует вставка о закономерностях в истории.
См. «Пощёчина общественному вкусу»:
Мы приказываем чтить права поэтов:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) На непреодолимую ненависть к существовашему до них языку.
(Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 50–51)
 2
2 В связи с этим полезно ещё раз напомнить, что многие поэты-футуристы хорошо рисовали (Маяковский, Д. и Н. Бурлюки, Кручёных, Матюшин, Хлебников).
 3
3 То, что “футуристы” называли „самовитым словом”, следует понимать, как мы увидим далее, “внутренним дискурсом”.
 4
4 Слово как такое //
СП V: 247.
 5
5 Там же.
 6
6 Совершенно очевидно, что поэтическое произведение — это сам язык как
поэтическая речь, а не
форма репрезентации; последнее, кстати говоря, совершенно невозможно. Поэтическая речь не может быть разновидностью репрезентации: она лишь намекает на неё, существуя как стихотворение. Именно путаница двух подходов (показ материала и форма репрезентации одновременно) привела некоторых футуристов к художественной апории. Стихотворная форма не может быть аргументом самой себя.
 7 R. Jakobson
7 R. Jakobson. Fragments de ’la Nouvelle poesie russe //
R. Jakobson. Questions de poetique, op. cit., p. 24.
воспроизведено на www.ka2.ru 8
8 Опубликовано в «Дохлой луне» в 1913 г. (Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 77).
 9
9 Единого определения
зауми не существует. У каждого “футуриста” есть своё представление об этой особой форме языка. Очевидно и то, что с лингвистической точки зрения “трансментальный язык” научной идеей в строгом смысле не является. Для критики этой теории в дополнение к отрывку из работы Ю. Лотмана см.:
R. Jakobson. Fragments de ’la Nouvelle poesie russe //
R. Jakobson. Questions de poetique, op. cit., p. 23–24. К. Зелинский (Заумь как принцип и алхимия звука //
К. Зелинский. Поэзия как смысл.
М. 1929. С. 119–126) решительно отрицает эмоциональную ценность “звуков” “трансментального языка” (с. 121), делая исключение для новаций Хлебникова (там же, с. 124). Пример
систематического подхода к
зауми — превосходная статья
Б. Арватов. Речетворчество. (По поводу “заумной поэзии”) // ЛЕФ, апрель/май 1923, №2. С. 79–91.
воспроизведено на www.ka2.ruВпрочем, Б. Арватов своё определение
зауми даёт столь обобщённо, что не различает у Хлебникова разные пласты языка, маркируя единым понятием
заумь все разновидности таковой, какие только можно встретить у
будетлян. Хлебников, как покажем далее, вкладывал в слово
заумь вполне определённый смысл, и, по крайней мере, неразумно сваливать в одну кучу, как это делает Арватов, несовместимые между собой концепции Хлебникова и других “футуристов”.
 10
10 Как и в случае внедрения самого слова ‘футуризм’, вопрос об авторстве слова
заумь весьма деликатен. Слово ‘футуризм’ в России введено И. Зданевичем (см.: 50 annees du 41° // Notes inedites, 1968); возможно, величайший из “заумников” изобрёл и слово
заумь. Впрочем, препирательства на сей счёт большого значения не имеют. Решающим моментом в этом вопросе является ряд поэтических операций, резюмирующих этот неологизм. Известно, что под
заумью понимают принципиально разные практики. Слово-маркер в этом, как и во многих других случаях, вызывает иллюзию единства радикально разнородных явлений. Более уместным представляется изучать
заумь Кручёных,
заумь Хлебникова,
заумь И. Зданевича и т.д. Зданевич, на наш взляд, среди современных поэтов единственный, кто довёл до совершенства поэтическую систему “своей”
зауми в знаменитых кавказских “драмах”. Сложность “феномена Зданевича” в русской поэзии такова, что требует отдельного исследования.
 11
11 Новые пути слова // Трое.
Спб: Журавль. 1913
С. 22–37.
 12
12 Приём лирического “перевода”
зауми талантливо использовали Каменский и Н. Асеев. Их наивный “репрезентационизм” развился путём совершенствования символистских теорий о подражательной ценности звуков языка (см.:
К. Бальмонт. Поэзия как волшебство.
М. 1915. С. 17, 52–53, 56–57, 68, 70–71). Такое отступление от
зауми легко спутать с принципами подражательной гармонии не только у Каменского и Асеева, но иной раз и у Хлебникова (см. «Мудрость в силке»,
СП II: 180). В этом плане ценны показания И. Березарка:
Особенно он любил пение птиц. Умел подражать пернатым и считал, что птичьи голоса чем-то родственны поэзии.
И. Березарк. Встречи с В. Хлебниковым // Звезда, №12, 1965. С. 173.Воспроизведено на www.ka2.ruМаяковский, поэт современности, этого не одобрял:
Объяснив, кто я и что я тоже пишу и читаю стихи, что его стихи мне очень по сердцу, я был удивлён его вопросом не о том, как я пишу, а “про что” я пишу. Я не нашёлся, что ответить. То есть как про что? Про всё самое выажное. А что я считаю важным? Ну. природу, чувства, мир. Что же это — про птичек и зайчиков? Нет, не про зайчиков. А кого я люблю из поэтов? Я тогда увлекался Хлебниковым. Ну вот и значит — про птичек. „Бросьте про птичек, пишите, как я!”
Асеев Н. Стихотворения и поэмы. Л. 1967. С. 12.
И действительно, если бы
заумь осталась на уровне звукоподражания, первым “футуристом” оказался бы Аристофан, на что без малейшей иронии указывает Голлербах:
“Заумный” язык футуристов, образование слов, лишённых
логического смысла, но имеющих определённый
фонетический смысл, особенно часто подвергался высмеиванию и осуждению. Однако и тут нетрудно привести в защиту футуризма некоторые исторические примеры: напомним, хотя бы, о “птичьем языке” у Аристофана и о крике аристофановских лягушек, повторенном Гауптманом в «Потонувшем колоколе». По замечанию Иванова-Разумника, в футуризме язык пришёл „от физиологии к эстетике, от слова-разума к звуку-чувству, от слово-логики к слово-эстетике, от слово-смысла к слово-звуку”. Заслуга футуризма — в утверждении прав самоценного слова. Не следует, впрочем, забывать, что подлинная поэзия, т.е. поэзия, построенная на мастерском сочетании смысла и звука, никогда не проходила мимо фонетики. Это обстоятельство говорит с одной стороны за то, что футуризм не “открыл Америку” (а только широко рекламировал эту “страну”), с другой — о том, что его “открытиями” нельзя пренебрегать, нельзя считать их ничем не оправданным “вздором”. Если что и можно поставить футуризму в упрёк, так только то, что он довёл культ “слово-звука” до крайности, утратил равновесие между смысловой и звуковой ценностями слова, ополчился на “слово-смысл” и, тем самым, обесценил “слово-звук”.
Э. Голлербах. Поэзия Д. Бурлюка. Нью-Йорк: Издание М.Н. Бурлюк. 1931. С. 19.Воспроизведено на www.ka2.ruСпору нет, “батракологическую” или “орнитологическую”
заумь находим у греческом комедиографа в двух его пьесах:
• «Лягушки» (vv. 209–210):
„ Βρεκεκεκεξ κοαξ κοαξ κοαξ,
Βρεκεκεκεξ κοαξ κοαξ ”
• «Птицы» (vv. 227–228):
„ Ἐποποποῖ ποποῖ, ποποποποῖ; ποποῖ
ìὡ ìὡ ἴτω ἴτω ”
vv. 260–262:
„ τοροτοροτοροτοροτιξ
κικκαβαυ κικκαβαυ
τοροτοροτορολιλιλιξ ”
Но Голлербах, полагая, что выявил исторический прецедент “орнитологической”
зауми некоторых “футуристов”, впадает в ту же ошибку редукции-ассимиляции, что и К. Чуковский, который сводит футуризм к уитманизму. Язык птиц — явление для Аристофана случайное. У “футуристов” же он, хотя ни в коей мере не представляет всеохватной
зауми, оказывается частью поэтического проекта, который к аристофановым звукоподражательным рядам никакого отношения не имеет.
 13
13 Так, он заявляет:
‹...› Слово (и составляющие его — звуки) не только куцая мысль, не только логика, но, главным образом, заумное (иррациональные части, мистические и эстетические) ‹...›
(Новые пути слова // Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 66)
Там же, p. 66–67:
Русские читатели привыкли к оскоплённым словам, и уже видят в них алгебраические знаки решающие механически задачу мыслишек, между тем всё живое надсознательное в слове, всё, что связывает его с родниками, истоками бытия – не замечается.
Там же, р. 67:
Обуреваемые религиозным вдохновением (а вдохновение всегда возвышенно) они заговорили на языке “духа святаго” (по собственному их великолепному выражению), пили “живую воду”.
И вот получилось новое слово, которое уже не ложь, а истинное исповедание веры, „обличение вещей невидимых”.
„намос памос багос” ‹...›
„герезон дроволмире здрувул
дремиле черезондро фордей”
(из речи хлыста Шишкова)
Замечательно, что некоторые сектанты (особники) из простых крестьян, начинали вдруг говорить не только на таком заумном языке, но и на многих иностранных языках до того им неизвестных!
И вот мимо таких воистину пророков исследователи языка (критики тож) проходят мимо!... Но не думайте, что мы являемся лишь подражателями обособников.
Между фонетическим мистицизмом Кручёных и К. Малевича существует бесспорная аналогия, см.
Malévitch K. Le Miroir Suprématiste.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1977. P. 73–82: „Высшим взлётом духа поэта я считаю минуты говорения без слов, когда бессмыслица, которую нельзя понять ни посредством языка, ни с помощью разума, слетает с его уст.
Речь поэта, ритм и каденция определяют интервалы, разделяют звуковую массу и сам жест тела, исчерпывающе всё поясняя.
Когда поэта охватывает пламя, он встает, поднимает руки, изгибает своё тело так, чтобы оно показалось зрителю воплощением всего живого, подлинного, небывалого.
Ни о каком мастерстве художника, ни о какой артистичной манере здесь не может быть речи, всё должно казаться тяжёлым, приземлённым, обременённым другими ощущениями и целями.
Oullê Ellé Lêl Li Unié Kon Si Ane
Onone Kori Ri Koasambi Moiéna Lièj
Sabno Oratr Toulloj Koalibi Blestorié
Tivo Oriéné Alij
Вот и всё, чем поэт прославил свой подвиг, и эти слова невозможно воспроизвести, и никто не сможет им подражать” (Там же, p. 81–82). (Цитирую отрывок из перевода его статьи, опубликованной в «Изобразительном искусстве», №1.
Пг. 1919. С. 31–35). Близость концепций Кручёных а и К. Малевича подметил Матюшин в своих воспоминаниях «Русские кубофутуристы» (Rossija/Russia, 1974, №1. P. 139):
Никто из поэтов не поразил меня своим творчеством так непосредственно, как Кручёных. Мне и Малевичу были близки его идеи, запрятанные в словотворческие формы.
Весьма любопытно в изложении Матюшина “объяснение” смысловых сдвигов в опере «Победа над солнцем», написанной Кручёных едва ли не полностью на
зауми: Я помню слова Кручёных, обращённые ко мне на одной из репетиций:
— Дорогой Матюшин, объясните студентам-исполнителям суть непонятных слов.
Дело в том, что студенты, исполнявшие роли, и хор просили им объяснить содержание оперы. За словесными сдвигами они не видели смысла и не хотели исполнять, не понимая. Я сказал приблизительно следующее:
— Мы не замечаем перемены в языке, живя в своём времени. Язык же и слова постоянно изменяются во времени. Если культура народа велика и активна, то она сокращает, выбрасывает лишние слова и даже целые предложения и заменяет новыми.
Далее я прочёл стихотворение величайшего русского поэта XVIII века Державина и сказал:
— Я думаю, что это стихотворение Державина вам так же непонятно, как и наша опера. Я нарочно ставлю вас между двумя эпохами, новой и старой, чтобы вы убедились, как сильно меняется способ выражения. Но условиться о чём-либо — значит понять. Читая Хемницера, Хераскова, вы должны с ними условиться о понимании, так же точно и здесь вы должны понять, что такое новое слово.
(Там же, p. 139–140)
Удивительно, что этот опыт Матюшина относится скорее к приёмам хлебниковского искусства (к его методу “смысловых смещений”), чем к
зауми Кручёных; и, мне кажется, по этому поводу уместно привести тонкое определение хлебниковской
зауми Мандельштама (Заметки о поэзии // Собрание сочинений. т. II.
N.Y.: Interlanguage Literary Associates. 1966. С. 305):
Он наметил пути развития языка, переходные, промежуточные, и этот исторически небывший путь российской речевой судьбы, осуществлённый только в Хлебникове, закрепился в его зауми, которая есть не что иное, как переходные формы, не успевшие затянуться смысловой корой правильно и праведно развивающегося языка.
Воспроизведено на www.ka2.ruОтметим, что принцип живописной композиции, который Малевич назвал “алогизмом”, применён им в серии полотен 1913–1914 гг. (например, «Гвардия», «Портрет М.В. Матюшина», «Женщина у рекламного столба», «Англичанки из Москвы», см.:
Camilla Gray. L’Avant-garde russe dans l’art moderne, 1863–1922.
Lausanne: L’Age d’Homme. P. 154–155), представляющих собой транспонирование в области живописи композиционных процессов, применяемых, например, в “трансментальной” поэзии — заслуживающий упоминания пример “обратного влияния” поэзии на живопись в системе принципов композиции. Движение туда-сюда между живописью, поэзией и музыкой вписывается в традицию модерна в том виде, какой мы её себе представляем: представление о гомологии структур в различных областях искусства (эта традиция, через Аполлинера, Макса Жакоба, Пикассо, Брака, Бодлера и Делакруа восходит к «Очеркам живописи и наблюдениям Дидро в Салоне живописи» 1765 года).
Образование новых слов обусловлено уже существующим структурированным материалом, т.е. строго определёнными фонематическими схемами (Б.Л. Уорф продемонстрировал эту структурную предопределённость на частном случае образования односложных слов в английском языке, см.:
B.L. Whorf. Language, Thought and Reality.
M.I.T. Press. 1974. P. 220–232), задача
заумника состоит в том, чтобы изобрести новую фонематическую систему, разрывающую оковы фонематической структуры языка оригинала (в данном случае, русского). Однако наличие в языке оригинала совокупности схем, заранее исключающих определённые сочетания, заложено в сознании автора, как естественного носителя этого языка, совокупностью путей, отклониться от которых он может, только выйдя за пределы языковой матрицы. Не удивительно, что “глоссолалия” Кручёных была решительно отвергнута: невозможно отказаться от фонематического значения, которое уже предвосхищает это выражение. Фанатизм, словесный напор Кручёных и других “разрушителей языка”, по выражению Тастевена, могут быть объяснены только раздражением, испытываемым
заумником перед невозможностью предельного переживания. Чего не увидели Кручёных и другие экстремисты
зауми (за исключением И. Зданевича, поэтическая система которого уникальна), так это того, что только форма поэтического высказывания допускает ту свободу, то творческое дистанцирование от языка, которое они тщетно добивались воспрепятствованием любой форме этого высказывания. И наоборот, Хлебников преодолел искушение “брутального лиризма”
зауми особым приёмом, благодаря которому ему удалось измерить в поэтическом дискурсе разницу между “аутотелией” и “аутоматией”: первая обеспечивает свободу поэтического языка, вторая — расширяет его возможности, обновляя бессознательный автоматизм речи. Истинный “отход” от языка возможен только в процессе произнесения звуков, который допускает “аутотелия”; стихотворение — это “язык прибытия”, то есть матричный (“отправной”) язык, преобразованный формой поэтического высказывания. В “аутоматии” поэт захвачен директивными структурами языка, от которых он не может абстрагироваться и вынужден сводить к минимуму единственный инструмент, который позволил бы ему отделаться от этих структур: поэтическую форму. Так, Кручёных, сравнивая в «Тайных пороках академиков» счёт из прачечной со строкой «Евгения Онегина», заявляет о превосходстве первого, не замечая, что всё-таки сохраняет поэтическую форму, но на “инфрапоэтическом” уровне сочетания одних лишь фонем, независимо от других реляционных рядов (семантических, синтаксических, ритмических и т.д.),
взаимодействие которых и составляют форму стихотворения. См.:
А. Кручёных. Избранное.
München: W. Fink. 1973. P. 176:
От Триумфальных ворот прачешная
счёт г-ну Ющинскому:
1 простыня . . . . . . . . . . . . 5 к.
2 крахм. рубахи . . . . . . . . . 20 к.
5 воротников . . . . . . . . . . 30 к.
2 пары манжет . . . . . . . . . . 20 к.
3 наволочки . . . . . . . . . . . 9 к.
1 фуфайка . . . . . . . . . . . . . 5 к.
если сравнить эти строки с 8-ю строчками из «Онегина» —
в тоске безумных сожалений и т.д.
то окажется: стиль их выше Пушкинского! в самом деле: на восьми строчках счёта мы видим такие редкие и звучные буквы русичей: ы, щ, ф, ю, ж... (и так редки они в романе) вообще тут больше звуков чем у Пушкина и нет ся – ся, те – те и проч.
Тут видим и цифры — что даёт зрительное разнообразие.
И если стиль писателя определяется количеством слов, то должен мериться и количеством букв — буква то же слово (звук форма и образ).
 14
14 См. статьи «Слово и слово» и «К теории „слова как такого” и „буквы как такой”», в №№ 7,8 «Откликов». См. также воспоминания В. Шкловского о лекциях Бодуэна де Куртенэ и его размышления о “глоссолалии” (Жили-были // Собрание сочинений в 3-х томах.
М. 1973–1974. Т. 1. С. 100–101).
 15 Ю. Лотман
15 Ю. Лотман. Анализ поэтического текста.
Л. 1972. С. 67.
 16
16 Знаменитое стихотворение, начинающееся словами
Дыр, бул, щыл, было опубликовано в сборнике «Помада» (начало 1913).
 17
17 Св. Павел, 1-е послание к Коринфянам (XIV, 7–12). Цитата из святого Павла тем более уместна в контексте “глоссолалии” (или „говорения на языках”), что апостол тоже сталкивался с проблемой экстатиков, говорящих на “языках” (по общему мнению, “иностранных”!). Не подвергая сомнению искренность “богодухновенных”, Павел выступал за умеренность в такого рода лингвистических упражнениях и советовал пользоваться услугами толмача, когда это возможно. Девятнадцать веков спустя Кручёных, ссылаясь на опубликованную в 1908 году в «Богословском вестнике» статью Д. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве», приводит в качестве примера “трансментальный” язык (
заумь), передающий самую непостижимость Бога, о которой эти верующие свидетельствуют в буквальном смысле. Тем не менее, Кручёных в той же статье («Новые пути слова») спешит уточнить, что футуристы эпигонами сектантов отнюдь не являются... (Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 67). Добротный анализ особенностей
зауми Кручёных см.:
К. Чуковский. Футуристы.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1976. P. 49, 55. Автор справедливо подчёркивает инфантильный, дикий, варварский и “восточный” аспект
зауми такого рода. А вот его анализ хлебниковской
зауми грешит неоднократно проявленной склонностью к интерпретативному редукционизму (там же, р. 50; см. об этом в нашем предыдущем замечании о языке птиц у
будетлян и Аристофана). Чуковский, цитируя знаменитое
Бобэоби пелись губы (которое он отождествляет с
заумью! ), ссылается на отрывок из «Песни о Гайавате» Лонгфелло:
Down the rivers, over the prairies,
Came the warriors of the nations
Came the Delawares and Mohawks,
Came the Choctaws and Camanches,
Came the Shoshonies and Blackfeet,
Came the Pawnees and Omahas,
Came the Mandans and Dacotahs,
Came the Hurons and Ojibways ‹...›
(cм.: The complete poetical Works of H.W. Longfellow. Student’s Cambridge edition.
Boston, Houghton: Mifflin Company. 1893. P. 115), Чуковский допускает ту же методологическую ошибку, что и при выискивании в «Зверинце» вырванных из контекста строк Уитмена, чтобы доказать связь, которую он решил установить между русским “футуризмом” (в частности, “футуризмом” Хлебникова) и поэтической системой Уитмена.
 18
18 В годы активности тифлисских поэтов-заумников (группа «41°») Кручёных систематизировал свои первоначальные воззрения, но без существенного новаторства, см.: Декларация заумного языка // Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 179–180. Если для одних (Зданевич, Матюшин, Малевич, Д. Бурлюк, Закржевский) Кручёных — наиболее типичный и самый радикальный из
будетлян, то другим он представляется поэтом (Пастернак) и даже исторической фигурой (Б. Лившиц) сомнительного качества в сравнение с Хлебниковым. В любом случае, творчество А. Кручёных до сих пор остаётся
σημεῖον ἀντιλεγόμενον современной критики.
 19 Г. Тастевен
19 Г. Тастевен. Футуризм. (На пути к новому символизму).
М. 1914.
 20
20 Там же, с. 32. Более точных указаний Тастевен не даёт, но, вероятно, имеются в виду слова Малларме из «Divagations» (главным образом «Crise de vers» и «le Mystère dans les Lettres»).
 21
21 Там же, с. 25. Тастевен прямо отсылает к диалогу «Кратил». Далее мы рассмотрим это сближение подробно и поставим под сомнение правомерность его применительно к хлебниковской
зауми. Ссылка на Малларме оправдана несколькими его текстами: упомянутым выше эссе «Divagations» и, особенно, «Les Thèmes anglais». Удивительно, если не сказать больше, что Ц. Тодоров серьёзно отнёсся к экскурсу Г. Тастевена, воспроизведя обе упомянутые ссылки в демарше, направленном на сведение базиса хлебниковской системы к “кратилианскому” бреду и неуклюжим перепевам французского поэта-символиста (
Tz. Todorov. Le nombre, la lettre, le mot // Poetique, 1970, n° 1. P. 105–109).
 22
22 Там же, с. 37. Читаем: „Таким образом, задачи поэзии футуристы хотят ограничит импрессионистской передачей ощущения. Нетрудно заметить, что этим путём создаётся чрезвычайно тенденциозная эстетика, которая также имеет свою „вещь в себе” — пресловутое динамическое ощущение. Футуристы создают какую-то имманентную метафизику”.
 23
23 Хотя Тастевен не утруждает себя приведением конкретных примеров, некоторые из них обнаружить нетрудно. Так, в статье «Буква как такая» (совместный проект Хлебникова и Кручёных,
СП V: 248–249) читаем (курсив мой):
Есть два положения:
1) Что настроение изменяет почерк во время написания.
2) Что почерк, своеобразно изменённый настроением, передаёт это настроение читателю, независимо от слов. Так же должно поставить вопрос о письменных, зримых или просто осязаемых, точно рукою слепца, знаках. Понятно, необязательно, чтобы речар был бы и писцом книги саморунной, пожалуй, лучше если бы сей поручил это художнику. Но таких книг ещё не было. Впервые даны они будетлянами, именно: «Старинная любовь» переписывалась для печати М. Ларионовым, «Взорваль» Н. Кульбиным и др., «Утиное гнездышко» О. Розановой. Вот когда можно наконец сказать: „Каждая буква — поцелуйте свои пальчики”.
Странно, ни Бальмонт, ни Блок — а уже чего казалось бы современнейшие люди — не догадались вручить свое детище не наборщику, а художнику...
Вещь, переписанная кем-либо другим или самим творцом, но не переживающим во время переписки себя, утрачивает все те свои чары, которыми снабдил её почерк в час „грозной вьюги вдохновения”.
Kручёных, «Взорваль», цит. по: Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 61 (курсив мой):
Переживание не укладывается в слова (застывшие понятия) — муки слова — гносеологическое одиночество. Отсюда стремление к заумному свободному языку (см. мою декларацию слова), к такому способу выражения прибегает человек в важные минуты. Вот образец — речь хлыста В. Шишкова: носоктос лесонтос футр лис натруфунтру кресерефире кресентре ферт чересантро улмири умилисантру — здесь подлинное выражение мятущейся души — религиозный экстаз.
Kручёных, «Декларация слова как такового», цит. по: Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 63 (курсив мой):
4) МЫСЛЬ И РЕЧЬ НЕ УСПЕВАЮТ ЗА ПЕРЕЖИВАНИЕМ ВДОХНОВЕННОГО, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определённого значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (Пример: го оснег кайд, и т.д.).
Там же, р. 68:
Мы первые сказали, что для изображения нового и будущего нужны совершенно новые слова и новое сочетание их.
Таким решительно новым будет сочетание слов по их внутренним законам, кои открываются речетворцу, а не по правилам логики или грамматики, как это делалось до нас.
Современные живописцы постигли ту тайну 1) что движение даёт выпуклость (новое измерение) и что обратно выпуклость даёт движение;
и 2) неправильная перспектива даёт новое 4-е измерение (сущность кубизма).
Современные же баячи открыли: что неправильное построение предложений (со стороны мысли и гранесловия) даёт движение и новое восприятие мира и обратно — движение и изменение психики рождают странные “бессмысленные” сочетания слов и букв.
Поэтому мы расшатали грамматику и синтаксис, мы узнали, что для изображения головокружительной современной жизни и ещё более стремительной будущей — надо по-новому сочетать слова и чем больше беспорядка мы внесем в построение предложений — тем лучше.
Там же, р. 70 (курсив мой):
Нам не нужно посредника — символа, мысли, мы даём свою собственную новую истину, а не служим отражением некоторого солнца (или бревна?).
 24
24 Там же, с. 46.
 25
25 Там же, с. 47.
 26
26 В силу постоянной маркировки “русским футуризмом” обособленных групп и неуклонного стремления представить “русских футуристов” эпигонами итальянских футуристов.
 27
27 У Тастевена это весьма расплывчатый термин, применяемый и к “футуристам”, и к “эго-футуристам”.
 28 Б. Лившиц
28 Б. Лившиц. Освобождение слова // Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 73–77.
 29
29 И, в конкретном, интересующем нас случае, искусства речи или логотехники. С тех пор как Платон впервые сформулировал этот философский вопрос, вереница ответов, данных философами, художниками или поэтами, составляет историю того, что традиционно называют “философией искусства”; возможно (но это, несомненно, при нынешнем состоянии исследований уже было бы философской позицией, во всяком случае весьма полемической), в последовательности ответов следовало бы прочитать появление позиции нового осознания: философия постепенно развивалась бы как
sui generis искусства, своего рода “особый образ” искусства. Тогда ситуация была бы перевёрнута с ног на голову: столкнувшись с моделью логотехники, философия попыталась бы определить себя как логотехнику особого рода. Это прогрессивное изменение соответствующих позиций философии и искусства (особенно логотехники) характерно для мысли Хайдеггера и для всего “постхайдеггеровского” (если не чисто хайдеггеровского) течения мысли (см.:
J. Derrida. La Vérité en peinture.
Paris: Flammarion. 1978;
E. Martineau. Malévitch et la philosophie.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1977 [coll. Slavica]).
 30
30 Возможное направление ответа прослежено в:
E. Auerbach. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Другое, более точное, поскольку ограничено поэтическим текстом, см.:
M. Riffater. Le poème comme représentation // Poetique, 1970, n° 4. P. 401–418.
 31
31 “Эстетизм” следует понимать во всей полноте этого слова. В
зауми Кручёных акцент намеренно делается на перцептивности как способности непосредственного постижения иначе невыразимой духовной “реальности” (вспомним цитированную выше экстраординарную фразу Кручёных о “глоссолалии” сектантов, которая ясно показывает метафизическую сущность его
зауми ): „И вот получилось новое слово, которое уже не ложь, а истинное исповедание веры, “обличение вещей невидимых” (Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 67); последние слова предложения являются переводом послания апостола Павла:
„ Ἔστω δè πίστις ἐλπιξομένων ὑπόστασις, πραγματων ἕλεγχος οὐ βλεπομένων ” (к Евреям, 11, 1).
Заумь, таким образом, есть лирический, эмоциональный выход за рамки вразумительного языка, это чистая лирическая “абстракция”, раскрывающая брутальную, первобытную силу лиризма, о чём великолепно сказал Б. Пастернак в «Охранной грамоте»:
Если бы при знаньях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятьях — на понятии силы и символа. Я показал бы, что в отличье от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохожденьи сквозь неё луча силового. Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берёт его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о её голосе, о её присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознанья сила называется чувством.
Пастернак Б. Сочинения в 4-х томах.
Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1961.
Но, если Пастернак не прочь построить свою эстетику на символе чисто голосовой силы, эта же сила разрушает искусство, ибо “словесная конструкция” у Кручёных упраздняет синтаксис и расчленяет слова, оставляя одни только следы катастрофы: “материя” победила “форму”. Анализ понятия силы, перенесённой из области физики в область лирики — в частности, в эстетику, намеченный Пастернаком, см.:
J. R. Döring. Die Lyrik Pasternaks in den Jahren 1928–1934.
München. 1973. P. 31–33; эта фундаментальная концепция современной физики восходит к «Началам» Ньютона, который секуляризовал „скрытые симпатии и антипатии” оккультной традиции, придав ей строго научный статус количественной измеримой материи и движения.
 32
32 Весьма любопытно в этом плане короткое замечание Хлебникова, воспроизведённое А. Кручёных (Записная книжка Велимира Хлебникова.
М. 1925. С. 11):
‹...› В кавычках следуют слова поэтессы Н. Саконской, математическим комментарием к которым и является запись Хл-а:
0 — 0= 1 = размножение, выход
из владений ничего
„о великий ничто позволь мне
размножиться”
выход из ничего путём ничего
= деление
В.X. 28 X 21
 33
33 Если для многих “футуристов” живопись указывала путь к полной независимости от внешней модели в искусстве, то поэзия не замедлила отреагировать и на это. Мы упоминали „алогичные” композиции Малевича; П. Филонов не только разработал оригинальную доктрину в живописи (см. его тезисы: Идеология аналитического искусства // Филонов.
Л. 1930. С. 41–42), но и попробовал себя в области словесной
зауми (Пропевень о проросли мировой.
Пг. Типография тов-ства «Наш век»). Вот образчик этого буйного словоизвержения:
Запевало:
матерела пенно-кружлива ночами снегиня
желальна танца протанцеваньем неуловливым
в оранжерее балерин
жеребую мету немного жутью любимою венчить
Подголосок:
чарнтел чар инотьмою озарятел темью бросн
расцветатель адово смолой
первью головной провален в смрадный рот
что хитронемо жрёт.
Ванька Ключник:
поворочень в смелость профиля любыне жён
суалован тайностраньем живобого
Евой под деревом знанья смертным безумьем целован
по зарям зарям рассветным
Богоборно двоенежн умучен
Богоравьем дев умучен в нежави дютавной
молочное мясо нежное бровей выведен ровноокий.
Словесные процедуры здесь аналогичны
словотворчеству ранних стихотворений Хлебникова в прозе («Песнь мирязя», «Искушение грешника» и др.). Речь идёт не столько о
зауми в строгом смысле, сколько о грамматическом лиризме, реализуемом за счёт интенсивной словесной деривации и значительного расширения нормативного синтаксиса.
 34
34 «Слово как такое» (Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 57) вышло отдельным изданием осенью 1913 года за подписью Кручёных и Хлебникова. Известен ещё один манифест Хлебникова и Кручёных того же названия, оставшийся в черновом виде и опубликованный только в 1930 г. (
СП V: 247).
 35
35 Зангези //
СП III: 344.
 36
36 Из записных книжек //
СП V: 269.
 37
37 Там же, с. 276.
 38
38 Зангези //
СП III: 344.
 39
39 Отклики, №7–8 (1914).
 40
40 Из записных книжек //
СП V: 275. К вопросу о природе звуков/цветов или форм букв, обозначающих изоморфные гласные/объекты с их цветовыми характеристиками у Рембо см.:
Rimbaud. Œuvres complètes.
Paris: Gallimard. 1976. [Bibliothèque de la Pléiade]. P. 899–901.
 41 А. Белый
41 А. Белый. Глоссалолия — Поэма о звуке.
Берлин. 1922. Книга написана около 1917 года, издана пятью годами позже. Этимологически заглавию более соответствует написание «Глоссолалия» (от
греч.
γλωσσολαλία), но, судя по всему, Белый не хотел, чтобы его эпопею о языке соотносили с “Вавилоном экстатиков”, осуждённым св. апостолом Павлом в 1-м послании к Коринфянам, которое Белый часто цитирует.
 42
42 “Материализм” Хлебникова следует понимать как единый способ естественного объяснения мира. В годы жизни, когда “материя” воплощалась им в математические формулы, было бы, по меньшей мере, неосмотрительно сводить хлебниковский рационализм к вульгарному и устаревшему истолкованию материализма как философского понятия.
 43
43 Свояси //
СП II: 9.
 44
44 Разговор двух особ //
СП V: 185.
 45
45 Неизданная статья //
СП V: 187.
 46 СП
46 СП V: 270.
 47
47 Скуфья скифа //
СП IV: 82.
 48
48 Художники мира! //
CП V: 216.
 49
49 О стихах //
СП V: 225–226.
 50 СП
50 СП V: 235.
 51
51 Эго-футуристы и кубо-футуристы // Шиповник, №22. 1914.
 52
52 Наша основа //
СП V: 235–136.
 53
53 Там же, с. 236.
 54
54 Учитель и ученик //
СП V:172.
 55
55 Художники мира! //
CП V: 219.
 56
56 Опубликовано в
СП V: 408.
 57 Mallarmé
57 Mallarmé. Œuvres complètes.
Paris: Gallimard. 1945. P. 901 [Bibliotheque de la Pléiade]. (Здесь и ниже даю текст оригинала. —
прим. перев.)
Qu’est-ce que le Langage, entre les matériaux scientifiques à étudier? A chacun d’eux, le Langage, chargé d’exprimer tous les phénomànes de la Vie, emprunte quelque chose ; il vit : et, comme (pour aider 1’enfance a saisir) force est que le monde extérieur prête ses images, toute figure du discours, relative à une manifestation quelconque de la vie est bonne à employer à propos du langage. Les mots, dans le dictionnaire, gisent, pareils ou de dates diverses, comme des stratifications : vite je parlerai de couches. Ou le développement en a lieu selon telle ou telle loi inhérente à leur croissance, les faisant dépendre d’une souche ou de plusieurs : je groupe en rameaux, que parfois il faut élaguer de quelques rejetons ou même greffer, ce vocable enté ; sur cet autre ; ou bien un afflux se détermine dans un sens, irruption et débordement, simple courant. A toute la nature apparente et se rapprochant ainsi de 1’organisme dépositaire de la vie, le Mot présente, dans ses voyelles et ses diphtongues, comme une chair; et, dans ses consonnes, comme une ossature delicate à dissequer. Etc., etc., etc. Si la vie s’alimente de son pro pre passé, ou d’une mort continuelle, la Science retrouvera ce fait dans le langage : lequel, distinguant I’homme du reste des choses, imitera encore celui-ci en tant que factice dans 1’essence non moins que naturel ; réfléchi, que fatal ; volontaire, qu’aveugle.
 58
58 Там же, р. 918.
Relativement aux mots de terroir, e’est-à-dire aux vocables issus, pour 1’Anglais actuel, du seul Anglo-Saxon ; qu’y a-t-il à faire apràs les citer ? Toute distinction à noter, entre des traces antérieures dans la langue qui vecut jusqu’à la Conquête et se transforma depuis, représente de prime abord à vos yeux quelque chose d’intéressant, mais de spécial comme un caprice historique. Le profit ? reconnaîtrez-vous mieux 1’Anglais pour cela : plus tard, soit ; mais ce dont il sied de se rendre compte, à présent, me paraît le rapport qui existe entre le sens des mots que je vais croire inconnu de vous, et leur configuration extérieure: et si quelqu’un de ces rapports concerne plusieurs vocables. Citer, disais-je tout-à-l’heure ; je dis maintenant grouper et éliminer. Tous les mots d’une langue ne sont pas au nombre de deux ou de trois ; mais peut-être non plus de mille et mille. Ceuxde meme famille, pourquoi ne pas les considérer ensemble ; et d’autres, solitaires, les discerner un a un quand ils présentent quelque curiosité ? Captivante autant qu’utile, certes, voici 1’unique investigation ; mais 1’esprit admet plus d’une réflexion préliminaire...
 59
59 Там же, р. 919.
Ce qu’on nomme du jeu, il en faut, dans une mesure raisonnable, pour réussir quelque chose comme ce travail complexe et simple : trop de rigueur aboutissant à transgresser, plutôt que des lois, mille intentions certaines et mystérieuses du langage. Quelle plus charmante trouvaille, par exemple, et faite même pour compenser mainte déception, que ce hen reconnu entre des mots comme house, la maison, et husband, le mari qui en est le chef ; entre loaf, un pain, et lord, un seigneur, sa function étant de le distribuer ; entre spur, éperon, et to spurn, mépriser ; to glow, briller, et blood, le sang ; well !, bien, et wealth, la richesse ou encore thrash, l’aire à battre le grain et threshold, le seuil, tassé ou uni comme un dallage ? Venus de plus loin se rencontrer, même de trop loin, soit ! certains vocables ne montrent pas cette conformité d’impression ; mais alors comme une dissonance. Le revirement dans la signification peut devenir absolu au point, cependant, d’intéresser à l’égal d’une analogic véritable : e’est ainsi que heavy semble se débarrasser tout-à-coup du sens de lourdeur qu’il marque, pour fournir heaven, le ciel, haut et suhtil, considéré en tant que séjour spirituel. (...) Remarquer ce fait que les mots les moins usités servent souvent de conducteurs, inattendus et précieux, entre une double acception distante de deux termes considérables.
 60
60 Там же, р. 920.
Un lien, si parfait entre la signification et la forme d’un mot qu’il ne semble causer qu’une impression, cede de la réussite, à 1’esprit et à 1’oreille, c’est fréquent ; mais surtout dans ce qu’on appelle les onomatopées. Le croirait-on : ces mots, admirables et tout d’une venue, se trouvent, relativement aux autres de la langue (exceptons ceux comme to write, écrire, imité du bruissement de la plume dàs le Gothique writh), dans un état d’infériorité. Pourquoi : faute de titres nobiliaires et immémoriaux ; après plusieurs siècles d’existence, de tels vocables,qui ne sont point d’une race quelconque, paraissent nés d’hier. Vos origines ? leur demande-t-on ; et ils ne montrent que leur justesse : il faut ne pas les humilier, cependant, car ils perpétuent, dans nos idiomes, un procéde de création qui fut peut-être le premier de tous. Ces tard-venus causent, à qui veut distribuer une langue en families, quelque embarras : car de fait ils n’appartiennent à aucune Famille. Historiquement, c’est vrai ; logiquement, point cependant : et voici pourquoi les autres vocables montrent, eux aussi, plus d’une analogic du sens à la forme. Si de tels rapports que ceux fournis par un alphabet unique et des milliers de significations offrent nécessairement entre eux certaine similitude, à plus forte raison avec un mot juste, issu tout fait de 1’instinct du peuple même qui parle la langue. Quelques onomatopées se trouveront donc presque toujours rangées ici dans les Families ; rarement dans les Mots Isolés, car peu existent sans quelque liaison ici оu là : la liaison se fera attache.
 61
61 Выражение принадлежит Г. Винокуру, который применил его к творчеству поэтов-“футуристов”. См.:
Г. Винокур. Футуристы — строители языка // ЛЕФ, №1, март 1923 г.
М. С. 207:
Футуристы не руководились готовым образцом, они преодолевали тот массовый, разговорный язык, откуда черпали материал для своего языкового творчества. В этом-то и заключается наибольший интерес русского футуризма для лингвиста. Культура языка — это не только организация, как указывалось выше, но вместе с тем и изобретение.
 62 Mallarmé
62 Mallarmé. Œuvres complètes.
Paris: Gallimard. 1945. P. 920 [Bibliotheque de la Pléiade].
La stricte observance des principes de la linguistique contemporaine cédera-t-elle devant ce que nous appelons le point de vue littéraire, ou de la langue une fois cultivée ; rien, à proprement parler, de semb table ici : qu’il s’agit de 1’âme même de 1’Anglais. Notre classification quelquefois s’étend fort loin ; mais elle se perdrait et s’effacerait, admis tels et tels secrets (banals pour quiconque écrit 1’Anglais). Au poète, ou même au professeur savant, il appartiendra, par un instinct supérieur et libre, de rapprocher des termes unis avec d’autant plus de bonheur pour concourir au charme et à la musique du langage, qu’ils arriveront comme de lointains plus fortuits : c’est la ce procédé, inhérent au génie septentrional et dont tant de vers célèbres nous montrent tant d’exemples, l’allitération. Pareil effort magistral de l’Imagination désireuse, non seulement de se satisfaire par le symbole éclatant dans les spectacles du monde, mais d’établir un lien entre ceux-ci et la parole chargée de les exprimer, touche à 1’un des mystères sacrés où périlleux du Langage ; et qu’il sera prudent d’analyser seulement le jour ou la Science, possédant le vaste répertoire des idiomes jamais parlés sur la terre, écrira l’histoire des lettres de 1’alphabet à travers tous les âges et quelle était presque leur absolue signification, tantôt devinée, tantôt méconnue par les hommes, créateurs de mots : mais il n’y aura plus, dans ce temps, ni Science pour résumer cela, ni personne pour le dire. Chimère, contentons-nous, à présent, des lueurs que jettent à ce sujet des écrivains magnifiques : oui, sneer est un mauvais sourire et snake un animal pervers, le serpent, SN impressionne donc un lecteur de 1’Anglais comme un sinistre diagramme, sauf toutefois dans snow, neige, etc. Fly, vol ? to flow, couler ? mais quoi de moins essorant et fluide que ce mot flat, plat. Des analogies de ce genre que 1’étudiant, ambitieux de se livrer plus tard à la culture littéraire de 1’Anglais, saisira dans les families de Mots, comme dans les Mots Isolés, qu’il les confie à ses souvenirs : et attende ; maintenant il ne fait autre chose sinon de considérer les lettres, sous lesquelles viennent se ranger des groupes de vocables, comme des initiales patronymiques. Que pour rompre par quelque causerie une liste, monotone à qui doit la parcourir, ainsi que pour relier entre elles deux classes de mots fournis contenus dans chaque série, tantôt apparaisse ici une tentative d’expliquer par la Consonne dominante la Signification de plus d’un vocable : c’est là un recueil de notes, fournies par 1’observation, utiles à quelques efforts de la Science, mais ne relevant pas d’elle encore. Noblement distraits tout à 1’heure par une des beautés du style, revenez à notre investigation modeste.
 63
63 В главе, посвящённой деривации, Малларме, приведя некоторые примеры сопровождающих её мутаций согласных или гласных, пишет: „Что показывают эти примеры? Прежде всего, то, что, хотя начальный согласный остаётся неизменным (поскольку в нём заключена радикальная сила, нечто вроде фундаментального значения слова), происходит — чтобы обозначить эту его функцию в дискурсе — изменение, иногда в средней гласной или суффиксе, иногда в согласных окончания слова” (там же, с. 965).
 64
64 Там же, р. 926.
Le sens qui peut résulter de mainte combinaison, voici, dans les limites de 1’observation exacte, 1’objet seul des Notes accompagnant cette Nomenclature, et encore rien ne se passe-t-il qu’au commencement des vocables : mais il sied d’ajouter que c’est là, à l’attaque, que réside vraiment la signification (la voyelle ou la diphtongue médianes prenant dans les langues du Nord une importance médiocre et les consonnes finales apparaissant à 1’état de suffixes point toujours discernables).
 65
65 Там же, р. 928–929.
В fournit de nombreuses Families ; et s’appuie au commencement de chacun des mots, sur toutes les voyelles, peu d’entre les diphtongues et les seules consonnes l et r : cela pour causer les sens, divers et cependant liés secrètement tous, de production ou enfantement, de fécondité, d’amplitude, de bouffissure et de courbure, de vantardise ; puis de masse ou d’ébullition et quelquefois de bonté et de bénédiction (malgré certains vocables dont plus d’un va isolément défiler ici) ; significations plus ou moins impliquées par la labiale élémentaire.
Примечание переводчика:
Малларме, вопреки обыкновению, перечисляет потаенно сопрягаемые, на его взгляд, понятия на родном ему и „студенту” языке, опуская английский перевод, хотя суть его предприятия состоит именно в нём:
enfantement — birthing;
bouffissure — bombast;
courbure — bend
masse — body;
ébullition — boiling;
bonté — benignity;
bénédiction — blessing;
vantardise — bragging.
 66
66 Там же, р. 955.
Doit-on accorder à H, appuyee forcément sur une voyelle ou sur une diphtongue, la meme valeur qu’à toute autre consonne ; oui, puisqu’à de rares exceptions près, cette lettre s’aspire au commencement des mots aussi distinctement qu’éclate ou se prolonge toute autre articulation de 1’alphabet. H traduit, quoique avec quelque vague, un mouvement direct et simple comme le geste de tenir avec la main, hâtivement même ; et le cœur ou la tête, ce qui se cache derrière, oui, mais ce qui s’élève très haut, enfin puissance et domination. Ces caractàres, ici plusque jamais, se révèlent dans les Families ; pour disparaître un peu dans les Mots Isolés.
Очевидно, и здесь “преподаватель” полагается на достаточную осведомлённость “студента”:
main — hand;
hâtivement — hastily;
cœur — heart;
tête — head;
derrière — behind;
haut — high.
 67
67 Там же, р. 957–958.
L, ne pouvant s’unir à 1’autre liquide r, ni en tant que consonne initiate se redoubler, frappe au commencement des mots, toujours une voyelle ; et apparaît done là dans toute son intégrité. Cette lettre semblerait parfois impuissante à exprimer par elle-même autre chose qu’une appetition point suivie de résultat, la lenteur, la stagnation de ce qui traîne ou git ou meme dure ; elle retrouve, cependant, de la spontanéité dans des sens comme sauter et tout son pouvoir d’aspiration avec ceux d’écouter et d’aimer, satisfait par le groupe de loaf à lord : noter aussi liaison et analogie.
 68
68 Там же, р. 961–962.
Avec sa valeur gardeé pure (car, pas plus qu’m et l, cette lettre ne supporte le voisinage d’une consonne) N est beaucoup moins fréquent qu’m, marquée au sceau de la plénitude : jugez-la plutôt incisive et nette, comme dans 1’acte de tailler ou dans les sens exprimés par les Families de nail et de nose, ongle et nez, d’où bec. Voir near, près, et new, nouveau, où semblerait se révéler 1’intention même de la lettre : celle d’un état simple comme pour l, avec proximité dans 1’espace ou dans le temps. Name, nasty, need, très divers, ne restent pas moins significatifs.
 69
69 Знаком ли был Хлебников с «Les Mots anglias»? Ответ на этот вопрос существа дела не меняет. Если даже и знаком, он никоим образом не “подражает” Малларме; если книга не попадала ему руки — не изобретает заново, ибо интуитивное прозрение французского символиста становится “научной доктриной” русского поэта.
 70
70 Художники мира! //
CП V: 217–218. Мы могли бы умножить примеры:
• Разложение слова //
СП V: 198–202;
• Перечень — Азбука ума //
CП V: 207–209;
• О простых именах языка //
CП V: 203–206;
•
НП: 325–329;
•
НП: 330–331;
• З и его околица //
НП: 346–347.
 71
71 Арифмологическая система Хлебникова является, по сути, разновидностью гностической системы в той мере, в какой исторический Гнозис (Знание) выступал как тотальная наука, рациональное и исчерпывающее объяснение всего мироздания. См.:
Henri-Charles Puech. En quête de la gnose, t. I. La Gnose et le temps.
Paris: Gallimard. 1978. P. 259. Профессиональные математики и физики гораздо скромнее: они поручают поэзии исследование “областей” Вселенной, которые наука не может “освоить” (см.:
W. Heisenberg. Physique et philosophic.
Paris: Albin Michel. 1971. P. 130–133). Но Хлебников — поэт во всём величии этого слова: он дерзает распространить законы поэзии на всё Мироздание.
 72
72 Хлебников искренне верил в научность своей системы.
 73
73 Оговорку относительно универсальности теории всё-таки находим (
СП V: 236):
Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решён вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться че ноги, все виды чашек — че воды: ясно и просто.
приводя при этом весомый, как ему кажется, аргумент в пользу справедливости своей теории (
СП V: 236; курсив мой):
Во всяком случае хата значит хата не только по-русски, но и по-египетски; В в индоевропейских языках означает вращение. Опираясь на слово хата, хижина, халупа, хутор, храм, хранилище, — мы видим, что значение — черта преграды между точкой и движущейся к ней другой точкой. Значение В в вращении одной точки около другой неподвижной.
В «Художники мира!» (1919) приведены образчики изъяснения на будущем
мировом языке (
СП V: 220–221):
Предлагаю первые опыты заумного языка, как языка будущего, с той оговоркой, что гласные звуки здесь случайны и служат благозвучию.
Вместо того, чтобы говорить:
„Соединившись вместе, орды гуннов и готов, собравшись кругом Атиллы, полные боевого воодушевления, двинулись далее вместе, но встреченные и отраженные Аэцием, защитником Рима, рассеялись на множество шаек и остановились и успокоились на своей земле, разлившись в степях, заполняя их пустоту” — не следовало ли сказать:
„Ша+со гуннов и готов, вэ Атиллы, ча по, со до, но бо+зо Аэция, хо Рима, со мо вэ+ка со, ло ша степей, ча”. Так звучит с помощью струн азбуки первый рассказ.
Или:
„Вэ со человеческого рода бэ го языков, пэ умов вэ со ша языков, бо мо слов мо ка разума ча звуков по со до лу земли мо со языков, вэ земли”.
То есть:
д„умая о соединении человеческого рода, но столкнувшись с горами языков, бурный огонь наших умов, вращаясь около соединенного заумного языка, достигая распылением слов на единицы мысли в оболочке звуков, бурно и вместе идёт к признанию на всей земле единого заумного языка”.
Конечно, эти опыты ещё первый крик младенца, и здесь предстоит работа, но общий образ мирового грядущего языка дан. Это будет язык “заумный”.
 74 СП
74 СП V: 236–237.
 75
75 См.:
Platon. Œuvres complètes, t. V, 2
е partie
Cratyle.
Paris: Les Belles Lettres. 1969. P. 65.
 76
76 Там же, р. 67.
 77
77 См.:
CП V: 188:
‹...› слова Италия, Таврида, Волынь (земля волов), будучи разными словесными жизнями, суть одно и то же — рассудочная жизнь, бросающая тени на поверхности наречий и государств.
СП V: 191:
Вообще слово лицо с низко надвинутой шляпой. Мыслимое в нём предшествует словесному, слышимому. Отсюда “Беотия, Италия, Таврида, Волынь” — тени, брошенные “землёй волов” на звук.
 78 СП
78 СП V: 188.
 79
79 Там же, с. 191.
 80
80 Там же, с. 192.
 81 Platon
81 Platon. Œuvres complètes, t. V, 2
е partie
Cratyle.
Paris: Les Belles Lettres. 1969. P. 67.
 82
82 Упорным критикам хлебниковского “футуризма” в его
первом отношении к слову (
корнесловие — см.
СП II: 9, оно же “ризология”) неплохо бы углубиться в историю вопроса от Сократа из «Кратила» к египетским жрецам Верхнего Царства, многие богословские умопостроения которых основывались на взаимодействии “звуковых узоров” (см.:
F. Daumas. La Civilisation de l’Égypte pharaonique.
Paris: Arthaud. 1965. P. 301). Может быть, именно в этом они найдут “объяснение” подспудной тяги Хлебникова к Египту?
Впрочем, если потребуется во что бы то ни стало заняться археологией хлебниковского “футуризма”, необходимость возвращения к первобытному Адаму сразу бы отпала: поэзия Рембо — куда лучшее поле для сопоставления, нежели рассуждения Сократа или “взгляды” Малларме, ибо “рембизм” как поэтическая система сродни хлебниковской (слитность поэзии и действия; всемогущество науки; подобие науки и поэзии; неприятие освящённых традицией поэтических форм и т.д.). И всё же (ходя из всех координат, связывающих Рембо и Хлебникова, «Хлебников
и Рембо» — наименее произвольна), Хлебников не вторит Рембо, ибо тот никогда не пытался возложить на поэзию бремя науки. Сциентизм Рембо ещё не зашёл так далеко, чтобы рассматривать поэзию как модель тотального объяснения мира. Для Хлебникова то же самое “солнце”, Солнце разума (знаменитый солнечный диск Эхнатона — см.
СП II: 7–8 и
СП V: 457), которое столь часто повторяется у него как навязчивая метафора, освещает науку, поэзию и религию.
 83
83 При всём “наитиии”, заставляющем его безудержно “этимологизировать”, Сократ ведёт себя более как вдохновенный поэт, нежели холодный “ономаст” (поименователь). Гермоген в шутку намекает Сократу на мистическую подоплёку его “софизмов” (от
σοφία : высшее знание или “мудрость”): „Дело в том, Сократ, что ты убедил меня в истинности своего вдохновения, только начав прорицать” (
Platon. Œuvres complètes, t. V, 2
е partie
Cratyle.
Paris: Les Belles Lettres. 1969. P. 70). Иначе говоря, Сократ — дельфийский оракул! Утончённый философ вторит дружескому подтруниванию собеседника, чтобы безжалостно высмеять шарлатанство “вдохновенных”: „Да, Гермоген, именно Евтифрону, вершине Проспалта, я приписываю свою способность рассуждать. С восхода солнца и допоздна я внимал его словам. Быть может, вдохновение, возбуждавшее его, не только наполнило мои уши этой божественной мудростью, но и овладело моей душой. Вот как, мне кажется, нам следует поступить: сегодня воспользоваться им, довершив то, что ещё предстоит изучить по именам; завтра же, если ты согласишься на это, мы изгоним это вдохновение, найдя человека, искусного в этом виде очищения, — либо жреца, либо софиста” (там же, р. 70). Весь диалог — сплошное издевательство, что ставит под сомнение серьёзность словесной эквилибристики Сократа.
 84 Platon
84 Platon. Œuvres complètes, t. V, 2
е partie
Cratyle.
Paris: Les Belles Lettres. 1969. P. 75–77.
 85 СП
85 СП V: 184–185.
 86 НП
86 НП: 332–333.
 87
87 Мы не рассматриваем сложный вопрос
μίμησις Сократа: действительно ли Сократ (историческая личность) говорил то, что пишет Платон? Этот вопрос важен для истории философии, но не имеет большого значения для нашего предприятия. Так что всю ответственность за речи Сократа мы возлагаем на него самого.
 88
88 Сократ предварительно делает оговорку: слово, означающее движение (
κίνησις ), по-видимому, лишает доказательной силы тезис, который он сейчас предлагает...
 89 Platon
89 Platon. Œuvres complètes, t. V, 2
е partie
Cratyle.
Paris: Les Belles Lettres. 1969. P. 115–117.
 90
90 То, что по-гречески пишется
τà ὄντα, на этом языке означает приблизительно ‘вещь’, ‘предмет’, ‘элемент’. Для эллина это слово эквивалентно
τà πράγματα. Таким образом, перевод его как ‘étant’, единственным достоинством которого является буквальное соблюдение оригинала, на целевом языке (французском) совершенно неадекватен: существительное ‘étant’ (
рус. существующее. —
В.М.) неизвестно французской лингвистической системе. Более того, этот переводческий трюк странным образом отражает хайдеггеровскую логомахию.
 91 СП
91 СП V: 172.
 92 НП
92 НП: 345.
 93
93 См.:
Platon. Œuvres complètes, t. V, 2
е partie
Cratyle.
Paris: Les Belles Lettres. 1969. P. 127 и далее.
 94
94 Областью применения законов языка Хлебников полагает весь мир. Ощущение этой фундаментальной “метафоры” и составляет мифический характер его системы: хлебниковская сказка о вселенной столь же истинна, столь же обязательна для объяснения мироустройства, что и умопостроения т.н. первобытных народов. Нетрудно понять увлечённость Хлебникова великими космогоническими мифами, особенно восточными. Обе системы истолкования функционируют одинаково: космогонический миф персонифицирует фундаментальные действия, хлебниковский миф их “приземляет”. И вселенная предстаёт поприщем непрерывной борьба “букв”, бесконечной грамматомахии... Там, где древний человек “антропоморфизировал”, поэт Хлебников “грамматизирует”.
 95
95 Возможно, именно Кручёных точнее других выразил суть хлебниковской
зауми : Может быть от корней слов всё-таки не уйдёшь, но тогда придётся считать корнем каждую букву, как то и пытался делать В. Хлебников!
Сдвигология русского стиха. М. 1922. С. 35.
Именно благодаря своей теории
заумного языка Хлебников считал себя вправе рассматривать слово как “микростихотворение”, которое должно быть выстроено начальной согласной в соответствии с ограничениями столь же строгими, как и те, что структурируют стихотворение в обычном его понимании. Как тут не вспомнить о прекрасном анализе „словесного постоения” у Мандельштама:
Самое удобное, и в научном смысле правильное, рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим путём устраняется вопрос о форме и содержании, буде фонетика — форма, всё остальное — содержание. Устраняется и вопрос о том, чтó первая значимость — слово или его звучащая природа. Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, “система”. Значимость слова можно рассматривать, как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре.
О. Мандельштам. О природе слова» // Собрание сочинений. т. II.
N.Y.: Interlanguage Literary Associates. 1966. С. 297–298.
Возникает необходимость систематически практиковать такое „словесное постоение”, которое прежде казалось случайным и непонятным. Распространение законов стихотворения на мельчайшие единицы речи, как если бы каждая из них заключала в себе вселенную, придаёт им благоустроение и вразумительность: метод Хлебникова предельно “диакосметичен”. Мир этого
будетлянина оказывается “космосом” (порядком) именно потому, что таковой с начала и до конца овевает один и тот же дух:
Мир как стихотворение.
 96
96 Автобиографическая заметка //
НП: 352.
 97
97 Зангези //
СП III: 318–320.
 98
98 Там же, с. 339.
 99 НП
99 НП: 321.
 100
100 См. в: Langue et langages de Leibniz à l’Encyclopédie (
Paris: Union générate d’éditions. 1977) две статьи:
Y. Belaval. Sur la langue universelle de Leibniz (p. 45–68) и
M. Jalley. Remarques sur le projet de langue universelle de Leibniz (p. 69–96). См. также:
H. Ishiguro. Leibniz’s Philosophy of Logic and Language.
Duckworth. 1972. P. 35–51. В «Dissertatio de Arte Combinatoria» (1666) Лейбниц ратует за всеобщую математизацию мира, понимаемого как совокупность проявлений мыслительной деятельности человека (метафизика, литература, музыка, живопись и др.). В области литературы им научно обоснована комбинаторика возможных конфигураций художественного текста, своего рода стохастика применительно к принципам композиции. В панарифметизме Хлебникова по сути то же, что и в поэтическом языке, интуитивное постижение как “материи”, так и “мира” (не только физической вселенной, но и человеческой истории),
порождаемых математической формулой. Важнейшее свидетельство тому — признание поэта Т. Вечорке во время пребывания в Баку (Записная книжка Велимира Хлебникова.
М. 1925. С. 26. Курсив мой):
Когда одолеть все слова в схеме —
то займешься музыкой или математикой, нет, пожалуй, рисованием — ведь поэты рисуют. А стихи станут баловством.
Потому что зная, как сочетать слова — можно писать наверняка. Смотрите — я уже мало перечёркиваю — хотя стоит увидеть что-нибудь свое, хоть маленькое — я не переписываю — не могу, а дорисовываю, окружаю со всех сторон — чтобы стало ещё яснее, пока не надоест. Самое важное окружить подобающе. А рифмы ерунда.
воспроизведено на www.ka2.ru Сближение имён Лейбница и Хлебникова вполне допустимо: первый смотрел на мир вообще и на поэзию в частности как математик, второй рассматривал мир и математику с точки зрения поэта, при этом суть обоих подходов едина: и поэзия, и математика воссоздают мир как систему взаимозависимостей.
 101
101 „Языки суть числа: не буквы превращаются в буквы, но слова в слова, так что неизвестный язык можно расшифровать” (
Pascal. Pensées, Section I, n° 45 // Classiques Hachette. Éd. de L. Brunschvieg. 1967. P. 337–338.
 102
102 Отрывок из досок судьбы, лист 2-й (
СП V: 488).
 103
103 Письмо два японцам //
СП V: 157.
 104
104 Художники мира! //
СП V: 216–219.
 105
105 Письмо всегда казалось более “абстрактным”, чем речь. Аристотель в «Поэтике» рекомендует судить о качествах трагедии путём чтения “про себя”, исключая этим воздействие жестикуляции (Poétique, 1462a, 10–11–12, p. 74, ed. Les Belles Lettres, 1969).
 106
106 См. гл. «Хлебников и поэзия».
 107
107 Письмо двум японцам //
СП V: 157.
 108
108 Предложения //
СП V: 158.
 109
109 Из записных книжек //
СП V: 270. Шестой
парус «Детей Выдры» не означает отказа от дарвинизма в целом (
СП II: 172–175). Что не приемлет Хлебников, так это превращения воззрений Дарвина (и Маркса) в примитивные догмы, в философию для приготовишек. В своих заметках он превозносит естественность поэтического развития, научную модель которой видит в теории Дарвина.
 110
110 Отрывок из Досок судьбы, лист 2-й (
SPM III: 504). Мы ещё вернёмся к этому неслучайному совпадению обнародования “законов судьбы” в виде
досок с введением “табличной формы” как новой структуры дискурса, см. гл. «Хлебников и поэзия».
 111
111 Отсюда понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке, — участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы — просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово — звуковая кукла, словарь — собрание игрушек.
(Наша основа, СП V: 234)
 112
112 А. Кручёных, одержимый идеей первозданности, действительно написал в «Декларации слова, как такого»:
‹...› СЛОВА УМИРАЮТ, МИР ВЕЧНО ЮН. Художник увидел мир по-новому, и, как Адам, даёт всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота востановлена.
(Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 63)
Хлебников в письме Кручёных от 31 августа 1913 г. не преминул отметить неосторожность ссылки на Адама (Н
П: 367):
‹...› Я согласен с тем, что ряд аио, еее имеет некоторое значение и содержание и что это может в искусных руках стать основой для вселенского языка. Еуы ладит с цветком. Быстрая смена звуков передаёт тугие лепестки изогнутого цветка. Пылкие слова в защиту Адама застают вас вдвоём вместе с Городецким. В этом есть смысл: мы пишем после “Цусимы”. Но Адамом нужно быть, а сурьма и белила не спасут обманщиков. Строго? Кто молод, тот отче людей. Но быть им большая заслуга и кто может — пусть им будет.
Иными словами, “поворот к Адаму” заставляет подозревать подспудную связь с “адамизмом” акмеистов (упомянутый в письме С. Городецкий и Н. Гумилёв некоторое время колебались в выборе названия своего движения между “адамизмом” и “акмеизмом”). Без сомнения, оба они имели в виду знаменитый отрывок из Книги Бытия: „И человек (Адам, чьё имя по-еврейски означает ‘человек’) дал имена всем домашним животным, птицам небесным и всем зверям полевым...” (Бытие. II, 20). Высказывания Хлебникова двусмысленны, по меньшей мере: с одной стороны, оговорки сформулированы весьма дипломатично:
это может в искусный руках, с другой — налицо нечто вроде согласия
Еуы ладит с цветком. Быстрая смена звуков передаёт ‹...›. Мы уже указывали на двойственность его позиции по отношению к
зауми в 1913 году. Следовательно, имеем возможность оценить дистанцию от 1913 до 1920–1922 гг. в совершенствовании теории языка в целом и поиске новых форм в логотехнике.
 113
113 Со всеми оговорками из предыдущего примечания, поскольку “эпифора имён” вполне применима лишь к
звукатой зауми того же Кручёных, поэт, по сути, даёт имя “вещи” (лирической силе), которая существует независимо от языка, вне его. Иными словами, поэт вербализует (или пытается вербализовать) принципиально внеязыковый опыт. Адамическая реставрация, как для “футуристов”, так и для “адамистов”, означает восстановление исконных прав поэта называть то, что он хочет, так, как он хочет. См. «Пощёчина общественному вкусу» (Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 50):
Мы приказываем чтить права поэтов:
1) На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (Словоновшество) ‹...›
Но при этом говорится всё-таки о “вещах”.
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 51–74; 291–307.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию
Продолжение 




 зыскания Хлебникова в области языка совпали с кризисом, который в начале XX века поколебал — как в России, так и на Западе — устоявшиеся этические и эстетические нормы, не говоря о науке и политике. “Кризис изящной словесности” — не более чем рябь на волне идеологического цунами, чреватого революциями 1917 года. Оскорбляющие судей и обывателя “пощёчины” группы “гилейцев” (позже переименованных в “кубофутуристов”), включая Хлебникова, и всё их будетлянство есть прежде всего поиск языка, чуждого заветам “умеренности и аккуратности”.1
зыскания Хлебникова в области языка совпали с кризисом, который в начале XX века поколебал — как в России, так и на Западе — устоявшиеся этические и эстетические нормы, не говоря о науке и политике. “Кризис изящной словесности” — не более чем рябь на волне идеологического цунами, чреватого революциями 1917 года. Оскорбляющие судей и обывателя “пощёчины” группы “гилейцев” (позже переименованных в “кубофутуристов”), включая Хлебникова, и всё их будетлянство есть прежде всего поиск языка, чуждого заветам “умеренности и аккуратности”.1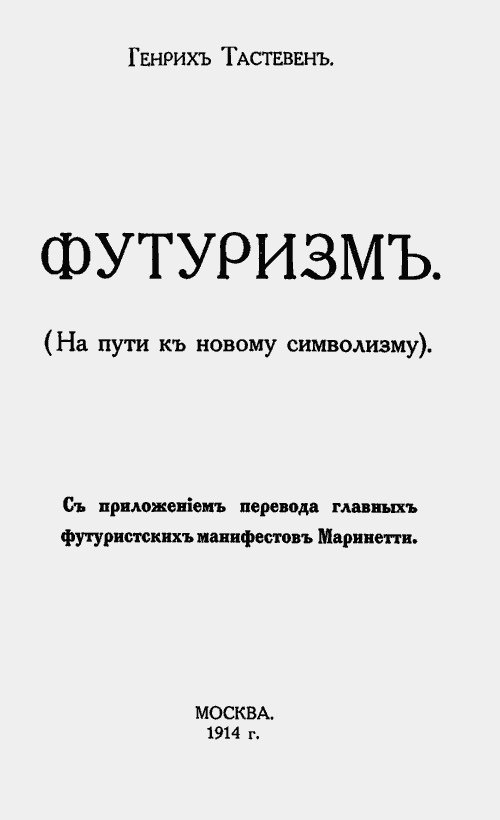 По мнению критика, “футуристы” (к которым Тастевен, помимо Кручёных, причисляет поэтов Василиска и Гнедова!) своим „словотворчеством и мистикой слов” 21
По мнению критика, “футуристы” (к которым Тастевен, помимо Кручёных, причисляет поэтов Василиска и Гнедова!) своим „словотворчеством и мистикой слов” 21![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()