

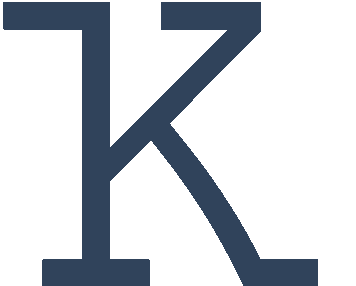 ак много у поэта экипажей! Кабриолеты, фаэтоны, ландо! И какие великолепные, пышные! Уж не герцог ли он Арлекинский? Мы с завистью читаем в его книгах:
ак много у поэта экипажей! Кабриолеты, фаэтоны, ландо! И какие великолепные, пышные! Уж не герцог ли он Арлекинский? Мы с завистью читаем в его книгах:Я приказал немедля подать кабриолет ‹...›
Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах ‹...›
Элегантная коляска в электрическом биенье эластично шелестела по шоссейному песку ‹...›
И мелькают в его книге слова: “Моторное ландо” ... “Моторный лимузин” ... “Графинин фаэтон” ... “Каретка куртизанки” ...
И даже когда он умрет, его на кладбище свезут в автомобиле, — так уверяет он сам, — другого катафалка он не хочет для своих шикарных похорон! И какие ландо, ландолетты потянутся за его фарфоровым гробом!
Это будут фешенебельные похороны. За фарфоровым гробом поэта потекут в сиреневом трауре баронессы, дюшессы, виконтессы, и Мадлена со страусовым веером, и синьора Za из «Аквариума». О, воскресни, наш милый поэт! Кто, если не ты, воспоет наши будуары, журфиксы, муаровые платья, экипажи? Кто прошепелявит нам, как ты, галантный, галантерейный комплимент?
— Вы такая эстетная, вы такая бутончатая! — шептал ты каждой из нас. — Властелинша планеты голубых антилоп!
И даже когда мы в гостиной —
В желтой гостиной из серого клена с обивкою шелковой, —
угощали визитеров кексом, у тебя, как у Данте, в душе возникали сонеты. Ты один был нашим менестрелем, и как грациозно-капризны бывали твои паркетные шалости! Как мы жемчужно смеялись, когда однажды ты заказал в ресторане мороженое из сирени (мороженое из сирени!) и в лилию налил шампанского. Или подарил нам боа из кудрявых цветов хризантем! Гордец, ты любил уверять, что у тебя, в твоей родной Арлекинии, есть свой придворный гарем:
У меня дворец пятнадцатиэтажный,
У меня принцесса в каждом этаже.
И странно: тебе это шло, тебе это было к лицу, как будто ты и вправду инкогнито-принц, и все женщины — твои одалиски, и это ничего, что у рябой коровницы ты снимал в Козьей Балке дачу: эту дачу ты звал коттеджем, а её хозяйку сиятельством; дворник у тебя превращался в дворецкого, кухарка Маланья в субретку, и даже мы, белошвейки, оказались у тебя принцессами:
— Я каждую женщину хочу опринцессить! — таков был твой гордый девиз.
Но что же делать принцессам без принца? О, воскресни, наш милый принц!
Тут непременно случится великое чудо. Из гроба послышится жуткий и сладостный голос того, кого мы так горько оплакиваем:
“Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о'клок!” — и шикарный денди-поэт, жеманно и кокетливо потягиваясь, выпрыгнет из фешенебельного гроба: — Шампанского в лилию! Шампанского в лилию! — И закричит шоферу-похоронщику:
Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!
За чем же дело стало? — К буфету, черный кучер!
Многие, конечно, догадались, что герой этой странной повести наш фешенебельный, галантный поэт, лев сезона, Игорь Северянин.
Я только вчера прочитал его книгу, и теперь в душе осколки его строф:
Ножки пледом закутайте, дорогим ягуаровым ‹...›
Виконт сомневался в своей виконтессе ‹...›
Вы прислали с субреткою мне вчера хризантемы ‹...›
Дворецкий ваш... на мраморной террасе ‹...›
Mingon с Escamillio! Mingon с Escamillio! Шампанское в лилии святое вино!
О, лакированная, парфюмерная, будуарно-элегантная душа! Он глядит на мир сквозь лорнет, и его эстетика есть эстетика сноба. О чем бы он ни говорил: о Мадонне, о звездах, о смерти, я читаю у него между строк:
Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о'клок.
Его любимые слова: фешенебельный, комфортабельный, пикантный... Не только темы и образы, но и все его вкусы, приемы, самый метод его мышления, самый стиль его творчества определяются веерами, шампанским, ресторанами, бриллиантами. Его стих, остроумный, кокетливо-пикантный, жеманный, жантильный, весь как бы пропитан этим воздухом бара, журфикса, кабарэ, скетинг-ринга. Характерно, что он ввел в нашу поэзию паркетное французское сюсюканье и стрелку называет пуантом, стул — плиантом, молнию — эклером и даже русскую народную песню озаглавливает «Chanson Russe». Фиоль, шале, буше, офлёрить, эксцессерка, грезёрка, сюрпризёрка — на таком жаргоне оп пишет стихи, совсем как (помните?) мадам де Курдюков:
Вам понравится Европа.
Право, мешкать иль не фо па,
А то будете малад,
Отправляйтесь-ко в Кронштадт.
Же не вё па, же нире па,
Же не манж па де ла репа.
И не странно ли, не изумительно ли, что все же, несмотря ни на что, его стих так волнующе-сладостен! Дух дышит, где хочет, и вот под вульгарною личиною сноба сильный и властный поэт. Бог дал ему, ни с того ни с сего, такую певучую силу, которая, словно река, подхватит тебя и несет, как бумажку, барахтайся сколько хочешь: богатый музыкально-лирический дар. У него словно не сердце, а флейта, словно не кровь, а шампанское! Сколько бы ему ни было лет, ему вечно будет восемнадцать. Все, что увидит или почувствует, у него претворяется в музыку, и даже эти коляски, кабриолеты, кареты, — ведь каждая в его стихе звучит по-своему, имеет свой собственный ритм, свой собственный стихотворный напев, и мне кажется, если б иностранец, не знающий ни слова по-русски, услышал, например, эти томные звуки:
Я в комфортабельной карете на эллипсическпх рессорах
Люблю заехать в златополдень на чашку чаю в женоклуб, —
он в самом кадансе стиха почувствовал бы ленивое баюкание эластичных резиновых шин. И какой сумасшедшей музыкой в его стихотворении «Фиолетовый транс» отпечатлен ураганный бег бешено ревущего автомобиля. Как виртуозно он умеет передать самой мелодией стиха и полет аэроплана, и качание качелей, и мгновенно мелькнувший экспресс, и танцы, особенно танцы:
И пала луна, танцевавшая в море!
Даже свои поэзы он означает, как ноты: соната, интермеццо, berceuse. Про какую-то женщину он говорит:
Она передернулась, как в оркестре мотив!
Конечно, он нисколько не Бах и не Вагнер, скорее всего он Массне, салоннейший из композиторов, коего благоговейно воспевает. Один критик даже рассердился: можно ли воспевать такого сноба, — но кого же и воспевать поэту-снобу! Он верен себе во всем. Давайте решим на минуту, что снобизм, пшютизм, как и все остальное, имеют право излиться в искусстве и что от художника нам нужно одно: пусть он полнее, пышнее, рельефнее выявит пред нами свою душу, не все ли равно какую. Мелодекламация дамски-альбомных романсов нашего галантного поэта и какие-нибудь гимны Ра, псалмы Ксочиквецали — перед лицом Аполлона равны.
Эта салонность поэзии как будто и неуместна теперь. Светозарный Игорь Северянин, милый принц, он явился как будто не вовремя. Ведь нынче в моде, напротив, пещерность, звериность, дикарство; поэты из сил выбиваются, как бы позверинее рявкнуть. Кто же поймет и полюбит теперь
[Его] волшебные сюрпризы,
[Его] ажурные стихи!
Нынче даже тонкие эстеты, парнасцы, как, например, Гумилев, вдруг записались в Адамы: основали секту адамистов, первобытных, первозданных людей.
— Как адамисты, мы немного лесные звери! — уверяют эти господа. — Сбросим же с себя "наслоения тысячелетних культур"! Все эти адамисты, как и эгофутурист Игорь Северянин, — живут в Петербурге и порождены Петербургом.
А московским кубофутуристам нечего больше и сбрасывать. Они уже все с себя сбросили: грамматику, логику, психологию, эстетику, членораздельную речь, — визжат, верещат по-звериному:
Сарча кроча буга на вихроль!
Зю цю э спрум!
Беляматокияй!
“То было и у диких племен”, — поясняет их апостол Кручёных. Вот воистину модный девиз для всех современных художеств: “то было и у диких племен”. Тяга к дикарю, к лесному зверю, к самой первобытной первобытности есть ярчайшая черта нашей эпохи; сказать про творение искусства: “то было и у диких племен”, нынче значит оправдать и возвысить его. Пусть Игорь Северянин, как хочет, жеманничает со своими кокотессами-принцессами в желтой гостиной из серого клена с обивкою шелковой, — на него со всех сторон накинутся с бумерангами, дубинами, скальпами кубисты, футуристы, бурлюкисты: сарча, кроча, буга на вихроль! — и, не внемля его французскому лепету, затопчут бедного поэта, как фиалку. Долой финтифлюшки, и в той же гостиной на всех шифоньерках расставят явайских, малайских, нубийских кривоногих пузатых идолов, по-шамански завопят перед ним: зю цю э спрум! Беляматокияй!
“Сбросим с себя наслоения тысячелетиях культур!” — таков бессознательный лозунг новейших романов, поэм, философий, статуй, танцев, картин.
“О, большие черные боги Нубии!” — взывает один кубофутурист и, свергая Аполлона Бельведерского, славит “криво-чернявого идола”!
“Вашему Аполлону пора умереть, — пишет он в альманахе «Союз молодежи». — У вашего Аполлона подагра, рахит. Мы раздробим ему череп. Вот вам другой Аполлон, криво-чернявый урод!”.
Даже Венеру Милосскую они обратили в дикарку, сослали её в тундру, в Сибирь, и бедная неутешно рыдает в поэме московского Хлебникова:
Игорь Северянин явился не вовремя, бонбоньерочный, фарфоровый, ажурный. Добро бы к такому дикарству влеклись одни московские футуристы. Бог бы с ними! Но нет. Это всеобщая тяга. Джек Лондон отнюдь не футурист, а ведь вся Европа влюбилась в него именно за эти призывы к первобытности, звериности, стихийности. Стихийность! Что же и славят теперь нынешние модные философы. Антиинтеллектуализм господствует нынче повсюду. Ratio, Logos — нынче у нас не в фаворе, — дорогу слепым, но вещим озарениям стихийной души. Интуитивное постижение мира, темный звериный нюх, шаманский экстатический бред мудрее вашей бедной рассудочности. “Сбросим же с себя наслоения тысячелетних культур! ”
И ведь дошло до того, что даже он, даже Игорь Северянин, от кокоток, кушеток, файв о'клоков, гарсонов тоже вместе со всеми устремляется в тундру, в первобытные дебри дремучих лесов. Сидит со своими гризетками где-нибудь в отдельном кабинете или
В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,
Где под пудрой молитвенник, а на нем Поль де Кок, —
и вдруг заявит ни с того ни с сего:
“Иду в природу, как в обитель...”, “По природе я взалкал”, “Бегу оленем к дебрям финским...”, “И там в глуши, в краю олонца... Моя душа взойдет, как солнце”.
Повторяю, теперь это мода, и, право, прелестна его виконтесса, которая прямо из ложи театра угодила на Северный полюс:
Я остановила у эскимосской юрты
Пегого оленя, — он поглядел умно...
А я достала фрукты
И стала пить вино.
И в тундре — вы понимаете? — стало южно...
В щелчках мороза — дробь кастаньет...
И захохотала я жемчужно,
Наведя на эскимоса свой лорнет.
Тундры, юрты, олени делают особенно пикантным гривуазно-кокоточный тон этой очаровательной пьески. Шампанское — в тундре! Эскимос и — лорнет! О, виконтесса осталась в восторге от диких экзотических стран, — там такие пылкие любовники:
Задушите меня, зацарапайте,
Предпочтенье отдам дикарю!..
Вот в какие неожиданные формы вылилась эта жажда стихийности, чуть только она докатилась до “желтой гостиной из серого клена, с обивкою шелковой”, хотя дело, конечно, не в формах; знаменательно, что и будуарные души воздыхают нынче по пещерам и тундрам.
“Гнила культура, как рокфор!” — восклицает Игорь Северянин.
“Я с первобытным неразлучен... Душа влечется в Примитив”.
Трогательно наблюдать Игоря Северянина на лоне того Примитива, к которому он так страстно влечется. Он и в поля и в леса вносит те же паркетные вкусы. Вот пролетела перед ним стрекоза. “Грациозная кокетка!” — кричит он ей вслед. Сирену он называет водяной балериной, а деревья ему кажутся маркизами. Он требует, чтобы на берег моря, на дикий прибрежный песок, ему принесли клавесины, он сыграет попурри из Амбруаза Тома, а его адъютантесса покуда защитит его зонтом от солнца. Таково его слияние с природой! Полосы спелой пшеницы для него золотые галуны, в весеннем шелесте листьев он слышит зеленые вальсы, и даже в тундре олений бег кажется ему бальным вальсированием.
Нынешняя жажда первобытного привела современных людей к детям, к детской душе. Художники, особливо кубисты, изучают детские рисунки, пробуют им подражать; поэты благочестиво печатают образчики детских стихов. Николай Кульбин в своих лекциях о грядущем искусстве читает стихи семилеток.
Игорь Северянин тоже льнет и влечется к малюткам, но опять-таки как-то по своему:
Ласковая девонька! Крошечная грешница!
Ты еще пикантнее от людских помой, —
говорит он какой-то крошке, очевидно, с Невского проспекта, —
Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки.
Алогубы-цветики жарко протяни...
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!
И здесь он верен себе. Но если бы эти стихи как-нибудь удручили читателя, затемнили светозарный лик поэта, право, мне очень легко снова вернуть к нему сердца. Стоит только мне переписать иные его певучие строфы, например, плясовую, камаринскую — такую утреннюю, молодую, заразительную, или эту его милую "диссону", в которой многих, я уверен, прельстит такая острая пряность игривых и пикантных ассонансов:
Ваше Сиятельство, к тридцатилетнему — модному — возрасту
Тело имеете универсальное... как барельеф...
Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте,
Очень удобную для проституток и для королев...
Впрочем, простите мне, Ваше Сиятельство, алые шалости.
Ирония, претворенная в лирику, — здесь Игорь Северянин настоящий маэстро, и я думаю, сам Обри Бердслей удостоил бы его "диссону" гротеском.
Здесь я, в сущности, мог бы и кончить. И правда, не пора ли расстаться с этой исчерпанной книгой? Но в самом её конце, на одной из последних страничек, я внезапно с удивлением увидел неожиданное слово: футуризм.
Странно. Неужели и он футурист? Вот никогда не подумал бы. В чем же его футуризм? Может быть, в этих кексах, журфиксах? Или в русско-француаском жаргоне? Но тогда ведь и мадам Курдюкова, которой восьмой десяток, такая же футуристка, как он. Однако мадам Курдюкова никогда не говорила о себе: “Я литературный Мессия... Моя интуитивная школа — вселенский эгофутуризм”; это говорил о себе господин Северянин. В его книге мы беспрестанно читаем, что он триумфатор, новатор:
Я гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен, —
и когда любимая женщина усомнилась в его победе, он чуть не задушил её за это:
Немею в бешенстве, — затем, чтоб не убить!
Издевайтесь над ним, хохочите, — вы скоро все поклонитесь ему, так уверяет он сам. “Новатор в глазах современников — клоун, в глазах же потомков — святой!” У него есть ученики и апостолы, есть даже, как увидим, Иуда, и в разных газетах и журналах, они возглашают о нем: “Отец Российской эгопоэзии. Ядро Отечественного футуризма! Её Первосвященник, Верховный Жрец!”
А мы перелистали его книгу, — и где же были наши глаза? — ничего такого но увидели. В ней откровения грядущих веков, а нам мерещились какие-то романсы! Пред нами пророк, а мы думали: оперный тенор. Мы думали, что он шантеклер, а он, смотрите, стоит на Синае с какими-то скрижалями в руках. И на этих скрижалях начертано:
“Вселенский эгофутуризм... Грядущее осознание жизни... Интуиция... Теософия... Призма стиля — реставрация спектра мысли... Признание эгобога... Обет вселенской души”, — и так дальше, в таком же роде, а мы, перечтя его книгу и раз, и другой, и третий, так-таки ни в одной запятой никакого футуризма не нашли! О, критики, слепые кроты! Футуристы отвергают нас недаром. “Вурдалаки, гробокопатели... паразиты!” — иначе они нас и не зовут.
Вникнем же как можно почтительнее в эти их катехизисы, заповеди, декларации, манифесты, доктрины, скрижали, постараемся без желчи, без хихиканья понять эту загадочную секту.
Я готов даже попробовать и сам сделаться на время футуристом, на неделю, на две, не больше, чтобы точнее, доскональнее узнать и потом поведать всему миру, что же это, в сущности, такое. Критик так и должен поступать, иначе к чему же и критика! И если он сам, например, хоть на час не становился Толстым или Чеховым, что он знает о них! Клянусь, я уже был в свое время и Сологубом, и Белым, и даже Семеном Юшкевичем. Нужно претвориться в того, о ком пишешь, нужно заразиться его лирикой, его ощущением жизни.
Итак, с настоящей минуты я — уже не я, а Бурлюк. Или нет, — Алексей Кручёных!
“Сарча кроча буга на вихроль!”
Но лучше подожду еще минуту и постараюсь хоть бегло, хоть в нескольких строчках побыстрее досказать о Северянине.
Есть два стана русских футуристов: петербургские и московские. Петербургские не просто футуристы, а с прибавкою слова эго. Северянин — эгофутурист. Эго — по-гречески: я. Не оттого ли в его стихах так выпячено надменное я:
Я даровал толпе холопов
Значенье собственного я.
“Я изнемог от льстивой свиты...”, “Я гений, Игорь Северянин...”, “Я коронуюсь утром мая...”, “Мне скучен королевский титул, которым бог меня венчал”, — не оттого ли он вечно чувствует свою коронованность, избранность, единственность? И все его адъютанты за ним. Даже какой-то Олимпов и тот говорит: я гений.
Иначе нельзя, помилуйте, на то они эгопоэты. Ведь и бог у них не бог, а эгобог: если он сотворил человека по образу своему и подобию, значит, он такой же эгоист, как и мы, — рассуждают эти господа и зовут нас поклониться эгобогу.
Но к чему же сочинять стихи, ежели я — эгобог? И к чему вообще слова, если я во всем мире один? — рассуждает эгофутурист Василиск Гнедов. — Слова нужны лишь "коллективцам", "общежителям". И он создает знаменитую поэму без слов: белый, как снег, лист бумаги, на котором ничего не написано. Эта бессловесная поэма озаглавлена «Поэма конца», и как хорошо, что Гомер и Вергилий держались иных убеждений.
Эгофутуристы мечтают о таком же эготеатре, где не будет ни актеров, ни зрителей, а только мое или ваше единое я. Это у них называется "эговый анархизм", и я мог бы легко доказать, что отсюда логически следует то всеосвящение, всеоправдание мира, о котором возвещает их мессия: “Виновных нет, все люди правы... не знаю скверных, не знаю подлых...”, “Я славлю восторженно Христа и Антихриста!.. Голубку и ястреба!.. Кокотку и схимника!..”
Но где же здесь, ради бога, футуризм? Это старый, отжитой, запыленный «Календарь модерниста» за 1890 или 91-й год. Там, где-нибудь на дырявой страничке, замызганной тысячами пальцев, вы найдете всю эгопоэзию от первой строки до последней. “Люблю я себя, как бога”, — писала там Зинаида Гиппиус... “И господа и дьявола хочу прославить я”, — писал там Валерий Брюсов, и даже этот соллипсический эготеатр выкроен по старой статье Сологуба. Право, не стоило всходить на Синай для такой отрыжки вчерашнего.
Впрочем, есть у этих петербуржцев и новые скрижали. На последней, например, странице в их альманахе «Стеклянные цепи» я с восторгом прочитал такое:
“Константин Олимпов носит воротники “торреадор”.
И дальше:
“В имении директора газеты «Петербургский глашатай» И.В. Игнатьева... состоялся оживленный стерляжий раут”.
И дальше: “И.В. Игнатьев изволил одобрить Американские Горы в “Луна-парке”.
Там же Игорь Северянин сообщает: “20-го июня уезжаю на мызу княгини Л.А. Оболенской”.
Это у них самобытное. Рауты, мызы, княгини и, главное, воротнички “торреадор”, — здесь единственная их подоплека, сколько бы они ни лепетали об эгобоге или эгопоэзии. Розовая пудра! голубые флакончики! золотые духи! “Ах, хотел бы я быть элегантным маркизом и изящно играть при дворе с королями в фаро!” — вздыхает один из них, должно быть, на Песках или в Подъяческой. “Луна просвечивала сквозь облако, как женская ножка сквозь модный ажур,” — пишет эгофутурист Шершеневич и доходит до такой галантерейности, что даже могильных червей, торопящихся к свежему трупу, величает франтами во фраках, с гвоздикой в петлицах, спешащими на званый обед.
Из гостиной или из Гостиного двора вышли эти господа в литературу? Этакие Оскары Уайльды, они словно состязались друг с другом, — особенно в первые годы — кто кого пережеманничает, кто кого переманерничает, кто покартавее крикнет: “Гарсон, сымпровизируй блестящий файв о'клок”.
Всех перекартавил Северянин, но и остальные не ударили в грязь. Я никогда, например, не забуду их эгоконцерт футуризма, с гондолами, принцессами, ликерами, в парке, у мраморных урн, при Охотничьем дворце Павла Первого. Я тоже получил приглашение. Правда, все оказалось мечтой, и не было ни принцесс, ни ликеров, ни мраморных урн, не было даже концерта, но как характерна такая мечта для эгофутуризма с Подъяческой. Форели, свирели, вина князя Юсупова! — в этой милой утопии так ясно сказалась та среда, где сформировался талант Северянина, где возникли наши Маринетти, и хотя теперь Северянин от них отошел и все они друг с другом перессорились, хотя будуарно-парфюмерный период петербургского эгофутуризма закончился, драгоценно отметить для будущего С.А. Венгерова, что именно в этой среде петербургский эгофутуризм зародился впервые...
“В женоклубе бальзаколетний картавец эстетно орозил вазы. Птенцы желторотят рощу. У зеркалозера бегают кролы. В олуненном озерзамке лесофеи каблучками молоточат паркет”.
На таком языке изъясняются между собой футуристы. Эгофутуристы, петербургские. Здесь они, действительно, новаторы. “Осупружиться”, “скалониться”, “офрачиться”, “онездешиться”, “поверхпоскользие”, “дерзобезумие” — таких слов еще не слыхало русское ухо. Многие даже испугались, когда Игорь Северянин написал:
Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден.
Лишь один не испугался — Юра Б. Он и сам такой же футурист. Озерзамками его не удивишь. “Отскорлупай мне яйцо”, — просит он. “Лошадь меня лошаднула”. “Козлик рогается”. “Елка обсвечкана”. И если вы его спросите, что же такое крол, он ответит: крол — это кролик, но не маленький, а большой.
Этому эгофутуристу в минувшем июле исполнилось уже четыре года, и я уверен, что для Игоря Северянина он незаменимый собеседник. Пусть только поэт поторопится, пока Юре не исполнилось пять; тогда в нем словотворчество иссякнет.
Это не укор Северянину, а большая ему похвала.
Хочется нам или нет, такие слова неизбежно нагрянут, ворвутся в нашу закосневшую речь. Нам, в сутолоке городов, будет некогда изъясняться длительно-многоречиво, тратить десятки слов, где нужны только два или три. Слова сожмутся, сократятся, сгустятся. Это будут слова-молнии, слова-экспрессы. Кто знает, что сделала Америка с английской речью за последние два десятилетия, тот поймет, о чем я говорю: что янки расскажет в минуту, по-русски нужно рассказывать втрое дольше. Трата словесной энергии страшная, а нам необходима экономия: "некогда" — это нынче всесветный девиз; он-то и преобразит наш неторопливый язык в быструю, "телеграфную" речь. Тогда-то такие слова, как окалошиться, осупружиться, экстазить, миражитъ, станут полноправны и ценны. Здесь именно дело в стремительности: хочется, например, побыстрее сказать, что некто, обливаясь слезами, подобно грешнице Марии Магдалине, кается и молит о прощении, — и вот единственное герценовское слово: магдалинится. У Северянина мне, например, понравилось его прехлесткое слово бездарь. Оно такое бьющее, звучит как затрещина и куда энергичнее вялого речения без-дар-ность:
Вокруг — талантливые трусы и обнаглевшая бездарь...
Право, нужно было вдохновение, чтобы создать это слово: оно сразу окрылило всю строфу. Оно не склеенное, не мертворожденное: оно все насыщено эмоцией, в нем бьется живая кровь. И даже странно, как это мы до сих пор могли без него обойтись.
А московский Кручёных говорит: наплевать!
— То есть позвольте: на что наплевать?
— На все!
— То есть как это: на все?
— Да так!
Это не то что Игорь. Тот такой субтильный, тонконогий, все расшаркивается, да все по-французски; этот — в сапожищах, стоеросовый, и не говорит, а словно буркает:
Дыр бул щыл Ха ра бау.
И к дамам без всякой галантности. Петербургские — те комплементщики, экстазятся перед каждой принцессой:
Вы такая эстетная, вы такая бутончатая.
Я целую впервые замшу ваших перчат.
А этот беспардонный московский Кручёных икнет, да и бухнут:
У женщин лица надушены как будто навозом!
И почешет спину об забор. Такая у него парфюмерия. Этот уж не станет грациозиться. Ведь написал же итальянский футурист Маринетти, что он не видит особенной разницы между женщиной и хорошим матрацем. “Из неумолимого презрения к женщине в нашем языке будет только мужской род”.
Вот какая широкая бездна между петербургским футуризмом — и московским. Игорь Северянин — типичнейший представитель эгофутуристов петербургских, Кручёных столь же характерный представитель кубофутуристов московских.
Петербургские эгофутуристы — романтики: для них какой-нибудь локончик или мизинчик, кружевце, шуршащая юбочка — есть магия, сердцебиение, трепет: “оттого, что груди женские — тут не груди, а дюшес”, — слюнявятся они в своих поэзах, а Кручёных только фыркнет презрительно:
Эх вы, волдыри, эгоблудисты!
И про этот самый дюшес выражается:
Никто по хочет бить собак
Запуганных и старых,
Но норовит изведать всяк
Сосков девичьих алых!
В то время, как эгофутуристы в мечтах видят себя юными принцами на каких-то бриллиантовых тронах, Кручёных о себе отзывается:
Как ослы на траве, я скотина.
Эгофутуристам мерещится, что среди виконтесс-кокотесс на ландышевых каких-то коврах они возлежат в озерзамке, но у Кручёных другие мечтания:
Лежу и греюсь близ свиньи
На теплой глине,
Испарь свинины
И запах псины,
Лежу добрею на аршины.
Свиньи, навоз, ослы — такова его тошнотная эстетика. Он и книжечку свою озаглавил: «Поросята»; не то что у Игоря — «Колье принцессы», «Элегантные модели», «Лазоревые дали».
Когда Кручёных хочет прославить Россию, он пишет в своих «Поросятах»:
В труде и свинстве погрязая,
Взрастаешь, сильная родная,
Как та дева, что спаслась,
По пояс закопавшись в грязь.
И даже заповедует ей, чтобы она и впредь, свинья-матушка, не вылезала из своей свято-спасительной грязи, — этакий, простите меня, свинофил!
Всякая грация, нежность, приветливость, всякая задушевность и ласковость отвратительны ему до тошноты. Если бы у него невзначай сорвалось какое-нибудь поэтично-изящное слово, он покраснел бы до слез, словно сказал непристойность. Такие они все, эти московские: Петрарки навыворот, эстеты наизнанку. Срывы, диссонансы, угловатости, хаотическая грубость и неряшливость — только здесь почерпают они красоту. Оттого-то для них так прельстителен дикарский истукан-раскоряка, черный, как сапожная вакса, и так гадок всемирный красавец, снежно-мраморный бог Аполлон.
Я верю: это не поза, не блажь, а коренное, подлинное чувство. Дисгармония, диссиметрия, диспропорция н вправду обаятельна для них.
В знаменитой своей «Декларации слова» они недаром восхваляют какофонию.
“[Нужно], чтоб читалось туго... занозисто и шероховато!” — пишут они снова и снова.
Как же им не гнать из чертогов поэзии женщину, Прекрасную Даму, любовь? Мы видели: они даже Beнеру Милосскую сослали куда-то в тайгу.
Эротика, этот неиссякающе-вечный источник поэзии, от «Песни песней» до шансонет Северянина, в корне отвергается ими. Когда Северянин поет, что паж полюбил королеву и королева полюбила пажа, Кручёных эту королеву ведет к прокаженному на поганое и смрадное гноище.
К черту обольстительниц-прелестниц, все эти ножки, ланиты да перси, и вот красавица из альбома Кручёных:
Посмотри, какое рыло,
Просто грусть.
Все это, конечно, называется бунтом против канонов и заповедей былой, отжитой красоты, и, как мы ниже увидим, нет ни единого пунктика в нашей веками сложившейся жизни, против коего не бунтовал бы Кручёных.
Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащелкает еще десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дегтем, хомутами, тараканами — все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки. Берет, например, страницу, пишет на ней слово шиш, только одно это слово! — и уверяет, что это стихи, но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не смешно. Кажется, только российская глушь рождает таких унылых и скучных людей, — под стать своим заборам и осинам. Вот уж, подлинно, российский Маринетти! У другого вышло бы забубенно и молодо, ежели бы он завопил:
Беляматокияй!
Сержамелепета!
А у этого-даже скандала не вышло: в скандалисты ведь тоже не всякий годится, это ведь тоже призвание! Он, конечно, очень старается: берет, например, страницу — зеленую или даже оранжевую, и выводит на ней с закорючками:
Читатель, не лови ворон.
Фрот фрон ыт,
Алик, а лев, амах.
Но и сам деревенеет от скуки. Как будто его подрядили, чтобы он во что бы то ни стало выделывал эти тусклые фокусы, и вот теперь поневоле он цедит сквозь зубы унылое:
Те гене
рю ри
ле лю,
бе
тльк
тлько
хомоло
рек рюкль
крьд крюд
нтри
нркью
би пу, —
а сам вздыхает и думает: "И когда это кончится, господи?" — но нет, выжимай из себя без конца эту несмешную канитель.
Право, мне его по-человечески жалко. Предо мною почти все его книжки: «Взорваль», «Помада», «Возропщем», «Мир с конца», «Бух лесиный», «Игра в аду», «Поросята» — и мне кажется, что у меня на столе какая-то квинтэссенция скуки, тройной жестокий экстракт, как будто со всей России, из Крыжополя, Уфы и Перми, собрали эту зевотную нуду и всю сосредоточили здесь. Уже одни их заглавия наводят на меня ипохондрию, а казалось бы, книжки пестрые — желтые, зеленые, пунцовые! — но, боже мой, как печальна наша действительность, если в роли пионера, новатора, дерзителя и провозвестника будущего она только и умела выдвинуть вот такую беспросветную фигуру, которая мигает глазами и безнадежно бормочет:
Те гене
рю ри
ле лю
бе...
Хорошо, если он добормочется до такого, например анекдота:
“27 апреля в 3 часа пополудни я мгновенно овладел в совершенстве всеми языками. Таков поэт современности. Помещаю свои стихи на японском, испанском и еврейском языках”.
По это редко, раз в год, а обычное его состояние — те гене рю ри ле лю, и я боюсь, как бы от нуды, от тоски, от зевоты он чего-нибудь над собою не сделал. Этак ведь и удавиться недолго.
...Впрочем, не будем смеяться над ним, не забудем, что у него были знаменитые предки: например, тот убогий остряк приживальщик из тургеневской «Лебедяни», который, помните, сделал карьеру такими же тарабарскими выкриками:
Кескесэ
Жемса.
Не ву горяче па.
Рррракаллиооон!
Но пусть другие смеются над ним, для меня в нем пророчество, символ наших будущих дней. Иногда мне кажется, что если бы провалились мы все, а остался бы один только он, вся наша эра до ниточки сбереглась бы для грядущих веков.
Ничего, что сам по себе он мелкая н тусклая фигурка, но как симптом он огромен. Ведь и вибрионы холерные мелочь, да сама-то холера не мелочь. Как в конце шестнадцатого века в елизаветинской Англии по мог не возникнуть Шекспир, так в Москве в начале двадцатого века не мог не появиться Кручёных. А с ним и другие такие же, и все они кричат о себе:
“Только мы лицо нашего времени”.
“Мы новые люди новой жизни!”
И правы, непререкаемо нравы: пусть вопиюще чудовищны эти их невозможные книжки, они не ими одними написаны, а и мною, и каждым из нас.
Когда мы смеёмся над ними, не смеёмся ли и сами над собой? «Дохлая луна», «Ослиный хвост», «Поросята», «Пощечина», «Требник троих», «Мир с конца», «Бух лесиный», «Садок судей», ведь понадобились же они именно нам, а не другим поколениям, ведь задели же в наших сердцах что-то самое живое и кровное, ведь не может же быть, чтобы здесь был только скандал, только бред, чтобы вся эта обширная секта зиждилась на одном хулиганстве!
Секты хулиганством не создашь, вообще ничего не создашь без веры, сердцебиения, и трепета. А если бы и одно хулиганство, то ведь хулиганство бывало и прежде, откуда же его внезапный союз с русской литературой и живописью, с русской передовой молодежью, с русской, наконец, интеллигенцией?
Сказав: безумие, бред — вы еще ничего не сказали, ибо что ни век, то и бред, и в любом общественном безумии есть своя огромная доля ума.
Где же смысл этого бессмыслия, где же логика этого бреда? Почему не вчера и не третьего дня, а именно нынче, сейчас, какая-то нечеловеческая сила заставила современных художников, выразителей наших жe дум, нашего же мироощущения, завопить сплошной “рррракаллиооон”, сплошное “зю цю э спрум”, возлюбить уродство, какофонию, какие-то шиши и пощечины, какие-то ослиные хвосты, сочинять стихи из одних запятых, а картины из одних только кубиков, где же, ради бога, разгадка этой странной и страшной загадки?
Здесь я говорю исключительно о кубофутуристах московских. Милые эгопоэты, петербургские гении, Игорь Северянин, Дмитрий Крючков, Вадим Шершеневич, Павел Широков, Рюрик Ивнев, Константин Олипов, конечно же, здесь ни при чем.
Они очень приятные писатели, но футуристами лишь притворяются. Рахитичные дети небывалых салонов, принцы-королевичи, здесь мы с ними должны распрощаться. Для всякого ясно, надеюсь, что это последыши вчерашних модернистов, разве что немного подсахарившие наскучивший модерн отцов. Они и сами не скрывают своей связи с модерном и любят игриво указывать, кто из них подражает Бальмонту, а кто Александру Блоку.
Скоро они сами признаются, что футуризм их игра, их бильбоке, их крокет, — и почему же в юности не шалить, не кокетничать, не сочинять манифестов и не пройтись порой на голове!
Игра оказалась во благо; мы видели, сколь плодотворны были их словесные сальто-мортале. Но теперь они все разбежались, да и будуариться, кажется, бросили; эгофутуризм уже кончился, и теперь в покинутых руинах озерзамка хозяйничает Василиск Гнедов, личность хмурая и безнадежная, нисколько не эгопоэт, в сущности, переодетый Кручёных, тайный кубофутурист, бурлюкист, ничем и никак не связанный с традициями эгопоэзии.
Это очень показательно и важно, что, чуть эгофутуризм исчерпался, его пожрал, проглотил целиком кубофутуризм, бурлюкизм. Иначе и быть не могло: бурлюкисты кряжистый народ, а эгопоэты эфемерны и хрупки.
Странно, что русские критики могли эти два направления смешать и, посвятив им большие статьи, так-таки до конца не заметили, что петербургские эгофутуристы одно, а московские кубофутуристы другое. У эгофутуристов во всем, в структуре стиха, в языке и в сюжетах, — пусть и смешная! — утонченность, переизысканность, перекультурность, а кубофутуристы против чего же и ратуют!
Эти два направления полярны. Одни сжигают именно то, чему поклоняются другие.
А если случайно встречаются в них какие-нибудь общие черты, то лишь оттого, что поначалу оба эти заклятых врага нарядились в одинакие мундиры, сшитые одним и тем же портным — из Парижа и Рима, — Маринетти; казалось, что они рядовые одного и того же полка.
Снять бы с них эти чужие мундиры; каковы они окажутся без них? Об этом я теперь и хлопочу. Попытаюсь хоть отчасти вскрыть ту подлинную внутреннюю сущность, что скрывается в русском футуризме под его показными девизами.
Начнем раньше всего с их языка. Попробуем, например, вчитаться хотя бы в такие речения: фолдырь онифей, фолдырь мефи царимей, царьмафами цаларей! Вы думаете, это Кручёных? Нисколько. Это гимн, религиозный псалом карских, кажется, сектантов, прыгунов. Бегают по радельной избе и кричат до последней усталости: “Фенте ренте финитифунт, фенте ренте финитифунт, фенте ренте финитифунт”, — пока не упадут, как полумертвые. Какая-нибудь корявая духиня Матренка подберет повыше подол, закатит глаза и, кружась в экстатическом плясе, вопит свою ритмическую чушь.
Именно о таком языке, экстазном, оргийно-бредовом и мечтают москвичи-футуристы. Всякую осмысленную речь они считают лживой и бессильной, ею все равно не передашь, что ощущает поэт, давайте же со звяком зубов прыгать, как скопцы, шелапутинцы, и в трансе, в священном безумии выкрикивать финитифунт. Только такими словами ты по-настоящему выразишь свою творчески мятущуюся душу! Этот язык футуристы именуют вселенским, свободным, заумным, то есть перешедшим за грани ума, и в минуты высших своих вдохновений, отвергнув всякую привычную речь, сложившуюся в тысячелетней культуре, прибегают только к нему. Кручёных благоговейно цитирует сектанта хлыста Шишкова:
Насохтос лесонтос
Футр лис натруфуитру,
и будь его воля, он, кажется, сжег бы все словари, уничтожил бы все вещие, меткие, насыщенные мыслью слова, которые в течение веков накопила мудрость человечества, и остался бы при одном насохтосе.
Что же! Быть может, поэзия и вправду нуждается только в таких экстатических выкриках. Разве они лишены выразительности? Разве ими не властен поэт передать свои аффекты, эмоции? Ведь и рев тоскующей коровы, и вой неврастеника-пса суть такие же заумные речи, а как проникают они в душу, — лучше всяких лириз и поэз. “О, если б без слова сказаться душой было можно!” — вздыхал когда-то тончайший из лириков, и вот наконец совершилось: мы действительно можем без слова, одними лишь заумными воплями, излить свою душу в поэзии!
Профессор А.Л. Погодин в своей нововышедшей книге о психологических и социальных основах творчества речи указывает, что есть такая — низшая — ступень экстатического возбуждения, когда наблюдается страсть к сочинительству новых, неслыханных слов, и что эти слова у дикарских шаманов, идиотов, слабоумных, маньяков, скопцов, бегунов, прыгунов почти всегда одинаковы: отмечаются общими признаками, как и всякая заумная речь.
Жаль, что при этой оказии профессор обошел футуристов.
Но вот что главнее всего: этот заумный язык ведь, в сущности, и совсем не язык; это тот доязык, докультурный, доисторический, когда слово еще не было логосом, а человек — Homo Sapiens'om, когда не было еще бесед, разговоров, речей, диалогов, были только вопли и взвизги, и не странно ли, что наши будущники, стодь страстно влюбленные в будущее, избрали для своей футурпоэзии самый древний из древнейших языков? Даже в языке у них то же влечение сбросить с себя всю культуру, освободиться от тысячелетней истории.
Да и темы у них, как нарочно, такие же древние, есть даже из старокиевской жизни, — ах ты, гой еси Владимир Красно Солнышко! — хотя пристало ли поэзии будущего пятиться за сюжетами к скифам, на пятнадцать столетий назад?
Не удивительно ли, что под ярлыком футуризма эти будущники печатают повесть из эпохи каменного века — об урочищах первобытных племен, об их идолах, шестоперах, жрецах!
Даже эгопоэты подсмеиваются: московская "фракция Будущего" есть "фракция Давнопрошедшего".
И это фатально, им иначе нельзя. Здесь для них неустанный магнит. Сколько бы они ни вещали, что взирают на наше ничтожество с высоты каких-то небоскребов, сколько бы они ни притворялись певцами машин, городов, афиш, аэропланов, трамваев, дредноутов, всей новой грядущей фабрично-площадной цивилизации, сколько бы они ни пели о шустовских коньячных заводах, о витринах магазинов Аванцо, об автомобильных гаражах и о газетных киосках, все это "так", для блезиру, только по долгу службы, потому что иначe нельзя, а дай им настоящую волю, так они в тот же миг ото всех небоскребов, киосков, моторов, ото всяких проблесков будущего побегут в свои пещеры на карачках — к скифским бабам, к каменному веку: сбросим же с себя наслоения тысячелетних культур!
Для футуристов итало-французских фабрики, небоскребы, вокзалы — главная суть. Они каждым нервом чувствуют, что настало новое, неслыханное, что, обмотав, как клубок, всю планету стальными нитями рельсов, одолев притяжение земли аэропланным пропеллером, победив пространство и время экспрессами, кинематографами, кабелями, мы ныне должны воспевать, конечно же, не Розу Эдема, не Лауру, не Беатриче, а керосино-калильную лампу, бензинный мотор, туннели, “новое дрожание арсеналов и верфей; мосты, перешагнувшие чрез реки, подобно гимнастам-гигантам; фабрики, привешенные к тучам на скрученных лентах своих дымов, автомобили с цилиндрическими ящиками”, и все это, конечно, превосходно, но нашим суздальским, виндаво-рыбинским, московским, где же им в Шуе, в Уфе соорудить хоть один небоскреб?
Зарядили, бедные, одно: монопланы, аэропланы, бипланы, но как равнодушно, формально, словно чужое, заученное. Явно, пафос их жизни не здесь. Пусть они твердят без конца:
И мы желаем лучших совершений,
Затем что есть теперь аэроплан! —
пусть даже самые поэзы свои нарекут они аэропланными, это, повторяю, в них не главное, это даже не третьестепенное: их основа не здесь.
Отнимите от Маринетти аэропланы, моторы, авто — и от Маринетти ничего не останется. А Кручёных и без мотора — Кручёных. Из всех российских футуристов еле-еле нашелся один урбанист. Я, конечно, говорю о Маяковском. И, конечно, я люблю Маяковского, но (шепну по секрету!) Маяковский им чужой совершенно, он среди них случайно, и сам же Кручёных не прочь порою похихикать над ним. К тому же город для него не восторг, не пьянящая радость, а распятие, голгофа, терновый венец, и каждое городское видение — для него словно гвоздь, забиваемый в сердце:
Кричу
Кирпичу,
Слов иступленных вонзаю кинжал
В неба распухшего мякоть.
Хорош урбанист, певец города, — если город для него застенок, палачество!
Я одинок, как последний глаз
У идущего к слепым человека!
Уйти бы ему отсюда — на поляны, в леса! Где же ему петь небоскребы, автомобили, тротуары, кафе, лифты, водосточные трубы! Ведь он и сам кричит среди рыданий:
“Идите голые пить на солнцепеке... Бросьте города, глупые люди!”
Для них для всех культ будущего почему-то постылая роль, которую сыграть бы поскорее, чтоб заняться любимым, своим. Футуризм для них, несомненно, чужое: они служат ему кое-как, без азарта, спустя рукава, лишь бы отмахнуться, — больше на словах, чем на деле.
Вот в альманахе «Союз молодежи», откровенно проклинают Европу, весь её “научный аппарат” и предлагают индийскую, персидскую живопись, древнекитайскую лирику, “не знающую научной рассудочности”. Это в первой книжке, а в третьей нас уже позвали в Нубию, к корявым богам-раскорякам нубийцев. Странный, согласитесь, футуризм — ассиро-вавилоно-египетский, весь устремленный к архивную древность.
Похоже, что и этот футуризм только притворился футуризмом, а на деле он что-то другое. Что? Мы сейчас увидим.
Там, в глубине, пробивается какое-то другое течение, — коренное, нутряное, "расейское", но столь мало себя осознавшее, что даже клички себе не нашло настоящей, носит покуда чужую, пробавляется чужими лозунгами и само еще не вполне догадалось, в чем его главная суть.
Это чужое, напяленное рвется, раздирается по швам, и оттуда, изнутри, из-под спуда, все чаще выглядывает нечто подлинное, столь неожиданное, не похожее ни на какой футуризм, что, я думаю, сам Маринетти ахнул бы, если б увидел.
Забудем же о всяком футуризме. Ясно, что наш футуризм, в сущности, есть антифутуризм. Он, не только не стремится вместе с нами на верхнюю ступень какого-то неотвратимого будущего, но рад бы сломать и всю лестницу. Все сломать, все уничтожить, разрушить и самому погибнуть под осколками — такова его, по-видимому, миссия.
Но я должен рассказать по порядку.
Русскому (московскому) футуризму три года. Он начался накануне войны очень мило, как-то даже застенчиво, даже, пожалуй, с улыбочкой, хоть и с вызовом, но с таким учтивым, что всем было весело и никому не обидно.
В 1910 году в несуразном альманахе «Студия» некто никому неизвестный напечатал такие стихи:
Смехачи, действительно, смеялись, но, помню, я читал и восхищался. И ведь действительно прелесть. Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь!
Иной, прочитав эти строки, станет допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или журчанье лесного ручья?
Ведь сколько раз наши поэтики из себя выходили, божились, что смысл поэзии будто ничто, а главное будто бы — словесная магия, обаяние напевов и звуков, однако никто не додумался до таких смехачей и смехунчиков! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей, — в самом деле, вы только подумайте, сколько лет, сколько веков, тысячелетий поэзия была в, плену у разума, у психологии, у логики, слово было в рабстве у мысли, и вот явился рыцарь, меченосец, герой, Виктор Хлебников и без всякого Крестового похода, мирно и даже с улыбочкой, разрушил эти вековые оковы, прогнал от красавицы Поэзии её пленителя Кащея — Разум.
О, рассмейся надсмеяльно — смех усмейных смехачей! Ведь слово отныне свободно, можете с ним делать, что хотите, хоть венки из него сплетайте, словесные гирлянды, букеты, — о, как упивался Хлебников этой новой свободой слова в первые медовые дни после тысячелетнего плена, какие создавал он узоры, орнаменты из этих вольных, самоцветных слов!
Слушаешь, бывало, упиваешься. И вправду, до чего грациозно. Если на клочке полотна в каком-нибудь живописном этюде для нас так восхитительны краски, что мы и не замечаем сюжета, то почему же не восхищаться такою же словесною живописью, хотя бы и бессюжетною, хотя бы только орнаментальною.
Смехунчики еще и тем хороши, что, не стесняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать их в какую хочу окраску. Я могу читать их зловеще, и тогда они внушают мне жуть, я могу читать их лихо-весело, тогда мне чудится, что пасха, весна и что мне четырнадцать лет. Тогда смехунчики, смешики — как весенние воробушки, как бегущие малые тучки. Нет, действительно, без разума легче, да здравствует заумный язык, автономное, свободное слово!
“Уничтожим же устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, симметричную логику!” — так постановили футуристы на последнем своем съезде в Финляндии.
Разум свергнут, весь мир безразумен, но, конечно, им и этого мало. Свобода — так свобода до конца! Рушить — так рушить!
Неужели, свергнув иго Разума, мы останемся в оковах Красоты? Не свергнуть ли и красоту заодно? Довольно над нами владычествовали Петрарки, Бетховены, Рембрандты! Красота поработила весь мир, и Кручёных — первый поэт, спасший нас от её вековечного гнета.
Оттого-то корявость, шершавость, слюнявость, кривоножие, заикание, смрад так для него притягательны, и в последней своей поэме он поет собачью конуру, где грязный блохастый пес давит губами насекомых, — именно в виде протеста против наших эстетических уставов! Ему и смехунчики гадки, ведь и в них еще осталась красота. Смехунчики есть бунт лишь против разума, а дыр бул щыл зю цю э спрум есть бунт и против разума, и против красоты. Здесь высшее освобождение искусства.
Прежние поэты, например, так любили воспевать луну и звезды, “звезды ясные, звезды прекрасные”, “огненные розы мироздания”, — и что делал бы Фет без звезд! Бурлюки же именно поэтому: к черту звезды, к черту небеса!
Небо —
труп!! не больше!
Звезды —
черви, пышые туманом...
Небо —
смрадный труп!!
Звезды —
черви (гнойная, живая) сыпь! —
восклицает Давид Бурлюк в своей книге «Дохлая луна», и огромная область эстетики тем самым уничтожена, зачеркнута.
Но, изъяв из поэзии разум, отняв у неё красоту, они пошли по этой дороге и дальше. Как бы еще оголиться, что еще с себя такое сбросить, чтобы уже ничего не осталось: только бы на голой земле голые с голыми душами!
Какой-то желторотый было выкрикнул:
Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание!
А другой подхватил нерешительно:
Нами уничтожены знаки препинания!
Но знаки препинания пустяки, тут только что разбунтовались, разошлись, хочется еще и еще. Накинулись всей оравой на Пушкина:
Пушкин непонятнее иероглифов!
Зачем Пушкин не сжег Онегина!
Пушкин был ниже Тредьяковского!
Сбросим Пушкина с Парохода Современности!
И даже Игорь Северянин вместе с ними:
Для нас Державиным стал Пушкин!
Но у Северянина это блажь, модный галстучек, да и как же Северянину без Пушкина? Поминутно цитирует Пушкина, выбирает эпиграфы из Пушкина и даже пишет стихи под Пушкина, а кубофутуристы и вправду: сбросить, растоптать, уничтожить:
— Сбросить Достоевского, Толстого, чтоб они не портили нам воздух! — выкрикнул недавно Кручёных.
— Я тоскую по большому костру из книг! — пишет меланхолически Хлебников.
И характерно: когда Василиск Гнедов на минуту, по какому-то капризу, стал писать внезапно по-украински, он и там закричал: долой!
Перша эгофутурня пiсня
На украiньской мовi:
Усiм набридли Тарас Шевченко
Та гопашник Кропiвницькiй —
то есть всем надоел и величайший поэт, и величайший актер Украины. Какой ни коснутся культуры, всякую норовят уничтожить.
Вот оно — то настоящее, то единственно подлинное, что так глубоко таилось у них подо всеми их манифестами, декларациями, заповедями: сбросить, растоптать, уничтожить!
Разве здесь не величайший бунт против всех наших святынь и ценностей? Тут бунт ради бунта, тут восторг разрушения, и уж им не остановиться никак. Так и озираются по сторонам, что бы им еще ниспровергнуть. Всю культуру рассыпали в пыль, все наслоения веков, и уже до того добунтовались, что, кажется, дальше и некуда, — до дыры, до пустоты, до нуля, до полного и абсолютного nihil, до той знаменитой поэмы знаменитого Василиска Гнедова, где нет ни единой строки: белоснежно чистый лист бумаги, на котором ничего не написано!
Вот воистину последнее освобождение, последнее оголение души. Это бунт против всего без изъятия, нигилистический, анархический бунт, вечная наша нечаевщина, и это совершенная случайность, что теперь она прикрылась футуризмом.
Не нужно нам никаких Маринетти, у нас и своих преизбыточно, — сарынь на кичку, трабабахнем, сожжем! Маринетти еще не родился, а уж Савва Леонида Андреева на Волге, на Урале восклицал:
“Уничтожить все... старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство... Третьяковская галерея и другие, поважнее которые.. Нужно, чтобы теперешний человек голый остался на голой земле. Нужно оголить землю... Мы сделаем хороший костерчик и польем его керосином...”!
Вот где истинный духовный отец российского квазифутурнзма. Тут тот же порыв, тот же пафос! наконец-то мы набрели на ту настоящую сущность, что скрывается в этом течении, какими бы посторонними лозунгами ни пыталось оно прикрываться.
Италии, как ей не кричать: к черту Данте, к черту Рафаэля! Ведь из-за своих грандиозных покойников она чуть не вся превратилась в музей, ведь этими тяжелыми музейными ценностями придавлено в ней молодое растущее, ведь ей словно кто запретил жить настоящим и будущим, а дозволил только прошедшее.
Она хочет быть юной невестой, а должна быть траурной вдовой. Как же ей иной раз и не проклясть своих роковых мертвецов!
Но мы, новорожденные, когда же мы успели изведать эту тиранию прошедшего, этот гнет преданий и предков? Ведь только что начали снова и снова завязываться слабенькие узелочки культуры, какие-то законы, каноны, уставы, как вот уже рявкнула дикарская глотка: сарынь на кичку, трабабахнем, сожжем!..
Но все же хоть и голая, хоть нищая, а осталась же у них душа! Все же хоть заумным языком, хоть хрюканьем, хоть храпом, а могут же они её излить пред такими же оголтелыми, как сами! Пусть они отказались от разума, пусть им не нужна красота, но эмоции, хоть и пещерно-звериные, все же им, надеюсь, доступны, — слепые, безразумные движения слепой, безразумной души!
Но к тому-то я теперь и веду, что в своем зловещем порыве к нулю, к пустоте эти бедные поэты-взорвалисты — не только задушевное, душевное, но и самую душу истребили, убили вконец. Психика, психея, психология — то, что чуется сердцем в каждой убогой царапине на какой-нибудь свайной постройке, — впервые за тысячи веков уничтожена, отвергнута ими. Дыра так уже дыра, — прорва прорвой!
“Тайны души не для нас, — гордо похваляются они. — К черту человеческую душу! Мы прогнали Психею прочь, она захватана, затаскана другими, она уже умерла в одиночестве, без Психеи нам гораздо привольнее!” (Ср. «Слово как таковое», стр. 11.)
И вот без души, оскопленные, без красоты, без мысли, без любви — с одним только нулем, с пустотой — сидят в какой-то бездонной дыре и онанируют заумными словами:
“Кукси кум мук и скук!..”
“Мороватень Широкан... Виноватень Великан!”
Свободны, как никто во всем мире, но спрашивается, почему же они плачут? А они все до единого плачут. Или и вправду так жутко жить дырою, нулем, пустотой? И вправду разве невозможно нигилизмом питать человеческий дух? Будь хоть Смердяков, хоть Передонов, а секундочки не проживешь лишь одним наплевать! Всмотритесь в этих крикунов, бунтарей, взорвалистов, ведь как бы они ни форсили, какая страшная бездонная тоска слышится в их гиканье и свисте. Жутко им нагишом, обездушенным! Мы видели, как угрюм и коричнево-скучен Кручёных. Я попробовал было читать Бурлюков: плакальщики, самоубийцы, могильщики, Так и зарябило в глазах.
“Мы изнеможенные, оцепенелые! Я вялый и ничтожный!”
“Отравленная скука”, “вялый, тусклый, скучный ум”, “серое, дождливое утро”, “чахлая гвоздика”, “завянувший цветок”, “увядающая зелень”...
Это серое небо —
Кому оно нужно?
Осеннее небо
Старо и недужно! —
таковы преобладающие образы у этих громил-разрушителей, образы увядания, усталости, умирания, скуки.
Нигилизм отчаянной удали всегда есть нигилизм отчаянной устали, и прислушайтесь: за всеми их бунтарскими ревами вы услышите тихие, старые, вечные русские жалобы:
Затянулось небо парусиной.
Сеет долгий дождик.
Пахнет мокрой псиной.
Нудно. Ох, как одиноко-нудно.
Серо, бесконечно серо...,
На другом окошке дремлет
Одинокая, как я,
Сука старая моя.
Сука — “Скука”.
Это напечатано в первом же футуристическом сборнике, в знаменитом «Садке судей», и не правда ли, это — коренное, родное, решительно ни у кого не заимствованное!
С какой же предсмертной тоской, с безнадежной унылостью творят они свое страшное дело, и, конечно, только из жалости мы можем называть их футуристами.
Моя статья растрепалась, постараюсь её сконцентрировать хоть в нескольких последних строках. Её главная мысль такая: если позабыть о Северянине и вообще о всех петербургских эгопоэтах, которые с этим новым течением связаны чисто внешне, в качестве последышей символизма, то мы придем к убеждению, что в российской футурпоззии наблюдаются три тенденции.
Первая — к урбанизму, к той могучей машинно-технической, индустриально-промышленной культуре, которая, изменив человеческий быт, захватывает понемногу всю вселенную. Это направление не новое: на Западе ему уже за семьдесят, да и у нас модернисты, особливо Валерий Брюсов, так полно и богато отразили его в своих урбанистических стихах, издавна воспевая автомобили, трамваи, рестораны, электричество, аэропланы.
Вторая тенденция — с первого взгляда есть тенденция противоположная, несовместимая с первой: к отказу от культуры, к пещерности, троглодитству, звериности. Но, конечно, их противоречие — иллюзия: они обе лишь дополняют друг дружку, и одна без другой невозможны.
Именно машинно-технический быт, покоряя нас все больше и больше, побуждает нас бежать от него.
Чем больше человечество будет идти к небоскребам, тем страстнее в нем будет мечта о пещерах. Значит, мы и вправду шагаем куда-то вперед, если вот нас зовут назад! В железобетонный век так естественны грезы о каменном.
Обе эти тенденции присущи теперь всей мировой литературе. Вспомним Кнута Гамсуна, Киплинга, Джека Лондона, Сэттона Томсона, Октава Мирбо и прочих всемирных певцов первобытного, звериного, дикого.
Но третья тенденция — самобытная, наша, и больше ничья, и её-то я стремился здесь выявить. Это воля к анархии, к бунту, к разрушению всех канонов и ценностей — воля слепая, стихийная, почти бессознательная, но тем-то наиболее могучая. Словно все бунтарские силы, которые нынче есть в каждом из нас, долго искали исход, и вот наконец прорвались — в невиннейшем литературном течении, которому органически чужды. Страна, где последний забулдыжный пропойца, что лежит в канавной крапиве, и первый государственный муж исповедуют единое credo, единый девиз: "наплевать!" — не могла не породить Кручёных...
И все эти тенденции осуществляются под знаком будущего. Будущее, будущее, — это у них как психоз; непременно стать небывалыми, новыми, пусть и плохими, но будущими, словно будущее само по себе, будущее как самоцель, может служить мерилом наших духовных ценностей. Конечно, этот культ новизны объясняется тем же бешеным темпом тротуарной мелькающей жизни, но, за исключением робких куплетцев все о тех же моторах, аэропланах, витринах, — что же истинно нового, будущего таит в себе русский футуризм? Ничего, ни единой черты. Как они ни гнались за будущим, будущее ускользнуло от них. И когда я всматриваюсь в этих новаторов, в их надрывную нервическую скачку за какой-то завтрашней секундой, — хотя секунда есть только секунда, — мелькнула, и вот её нет! — я вспоминаю другого поэта, любимого моего Уолта Уитмена, библейски величавого барда, циклопического старца-пророка, который много десятилетий назад сподобился встать пред миром, как первый поэт-футурист, первый предвестник грядущего, — не грядущих секунд, а веков! — и отпечатлел в своем творчестве молитвы, чаяния, страсти и верования будущей неотвратимой эпохи, воплотив её всю в изумительном единственном слове, о котором почему-то позабыли наши эго- и кубопоэты, — в титаническом слове: демократия. Демократия! только в ней наш удел, только в ней наше неизбежное будущее, наш истинный футуристический быт.
Но, конечно, его футуризм возник не в шелковой желтой гостиной, а в сутолоке демократических толп, где нет ни озерзамков, ни бриллиантовых тронов, ни виконтесс-кокотесс!
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 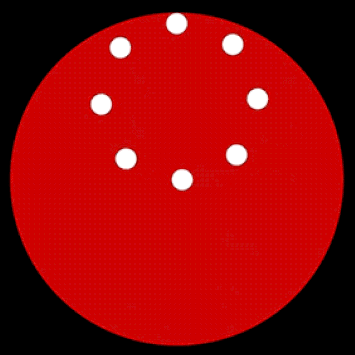 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||