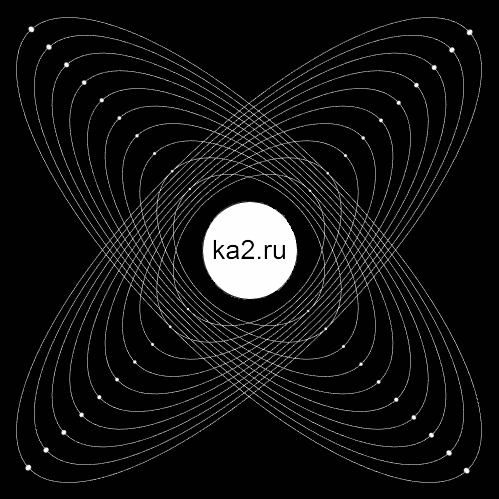Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Продолжение. Предыдущая глава: 
Глава I
Поэтическая система в действии
Двойное движение в системе
а) теория → поэзия
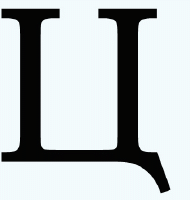
ель этой главы не в анализе компонентов системы: этому были посвящены главы о языке и времени как основным её осям. Речь пойдёт о взаимодействии поэтической теории и практики, т.е. о состоянии системы в том виде, в каком она функционирует, ибо сама она и есть соединение теории и практики. Тынянов был, разумеется, прав, отвергая произвольные сопоставления Хлебникова с не весьма отчётливыми явлениями или с отдельно взятыми поэтическими личностями: «Хлебников и футуризм», «Хлебников и заумь», «Хлебников и Маяковский» и т.д.
1
Такого рода сопряжения размывают ведущего сочлена пары. Но Тынянов, думается, напрасно жертвует всяким сопоставлением ради цельности поэтического впечатления: феномен Хлебникова кроется именно в союзе ‘и’, но не между Хлебниковым и кем-то (чем-то), а между Хлебниковым и Хлебниковым: этот союз оказывается знаком связи, с очевидным усилием устанавливаемой над внутренним разделением. Ибо суть хлебниковской поэзии — в трудном примирении поэта с самим собой. Тынянов же трагедию этой частицы, которую Хлебников пытался встроить между своей поэзией и теоретическими построениями, сводит к нулю.
Внутренняя двойственность Хлебникова оказывает на его поэтическую систему воздействие двоякого рода. Мы видим, с одной стороны, теоретическую мысль в её потугах разрешиться поэзией:
• таков, например, “возвышенно-бессвязный бред” о связи чисел и слов
В именах числительных сквозят занятия родового быта, свойственные и доступные этому числу членов.
Числом семь называется общество из пяти зверёнышей и двух старцев, идущих на охоту; 8 — образованное первым словом и предлогом ‘во’, указывает на нового неделимого, присоединившегося к их обществу.
Если первобытный человек не нуждался в чужой помощи во время еды, то число “единица” справедливо названо занятием именно этим делом. В нём зубами рассказывались берцовые кости добычи, и кости трещали. Это говорит, что первобытный человек голодал. Сто означало общину, управляемую старым, синеглазым вождём племени (рыба, рыбарь, сто, старик).
Число пять можно выводить из слова пинки (распять, распинать) и означало наиболее презираемую часть семьи, на долю которой в суровом быте того времени доставались одни окрики и пинки; во время странствий она держалась за одежды старших. Особой родовой единицей вызвано одинокое имя 40.
Существуют подобные пары слов: темь, тороки, зоркий – земля.
Имя сорок означало союз семей. Каждая семья вступала в отношения свойства с пятью новыми семьями по 1 членов; 35 людей и 5 первой семьи (кроме двух старшин) есть сорок. Именем числа стали названия занятий пращура в этом числе. (Разговор двух особ)2
• или “научная теория” главного звука, “пра-понятия” для целого ряда слов, подпадающих под одну и ту же звуковую рубрику, самым естественным образом порождающая тавтограмматическую (или пантограмматическую) поэзию;3
• или, что несколько сложнее, лингвистическое объяснение борьбы между звучанием слова и понятием, порождающее двойную растительную и солнечную метафору
Слово живёт двойной жизнью.
То оно просто растёт как растение, плодит друзу звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живёт самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идёт на службу разуму, звук перестает быть “всевеликим” и самодержавным; звук становится “именем” и покорно исполняет приказы разума; тогда этой второй вечной игрой цветёт друзой подобных себе камней.
То разум говорит „слушаюсь” звуку, то чистый звук — чистому разуму.
Эта борьба миров, борьба двух властей, всегда происходящая в слове, даёт двойную жизнь языка: два круга летающих звёзд.
В одном творчестве разум вращается кругом звука, описывая круговые пути, в другом звук кругом разума.
Иногда солнце — звук, а земля — понятие; иногда солнце — понятие, а земля — звук.
Или страна лучистого разума, или страна лучистого звука. И вот дерево слов одевается то одним, то другим гулом, то празднично, как вишня, одевается нарядом словесного цветения, то приносит плоды тучных овощей разума. Нетрудно заметить, что время словесного звучания есть брачное время языка, месяц женихающихся слов, а время налитых разумом слов, когда снуют пчёлы читателя, время осеннего изобилия, время семьи и детей.4
• иной раз именно пояснение научной теории на примере раскрывает, без намерения автора, его поэтическую лабораторию, основополагающим принципом которой является ассоциация гомеокатактических слов, вариант “звуковой головы” (в отличие от гомеотелеутов, чья роль имеет важнейшее значение для рифмы и способствует семантической последовательности путём фонетических ассоциаций в конце слова, принцип сходства в начале слов устанавливает своего рода перевернутую рифму).5 В той же статье «Наша основа» Хлебников раскрывает ещё один свой поэтический приём: словообразование по аналогии
В той же статье «Наша основа» Хлебников раскрывает ещё один свой поэтический приём: словообразование по аналогии
Также возможны слова нравитель, нравительство — здесь мы пэ заменили буквой н. Слову боец мы можем построить поец, ноец, моец. Именам рек Днепр и Днестр — поток с порогами и быстрый поток — можем построить Мнепр и Мнестр (Петников), быстро струящийся дух личного сознания и струящийся через преграды ‘пр’, красивое слово Гнестр — быстрая гибель; или волестр: народный волестр, или огнепр и огнестр, Снепр и Снестр — от сна, сниться. Мне снился снестр. Есть слово я и есть слово во мне, меня. Здесь мы можем возродить Мои — разум, от которого исходит слово. Слову вервие мыслимо мервие и мервый, умирающий; немервый — бессмертный. Слово князь даёт право на жизнь мнязь — мыслитель и лнязь и днязь. Звук, похожий на звук. Звач тот, кто зовёт. Правительство, которое хотело бы опереться только на то, что оно нравится, могло бы себя назвать нравительством. Нравда и правда. Слову ветер отвечает петер от глагола петь: „это ветра ласковый петер...”. Слову земец соответствует темец. И обратно: земена — земьянин, земеса; слово бритва даёт право построить мритва, орудие смерти. Мы говорим: он хитёр. Но мы можем говорить: он битёр. Опираясь на слово бивень, можем сказать хивень. Хивень полей — колос... Возьмём слово лебедь. Это звукопись.6
• наконец, поэзия может возникнуть из арифмософской концепции истории7 (в данном случае действует тот же принцип звуковой ассоциации гомеокатактики)
(в данном случае действует тот же принцип звуковой ассоциации гомеокатактики)
Свобода приходит под знаком — 2? Даёшь? — дай дорогу два.
Власть под знаком 3 — труд, труп, Тот.
Самосожжение? где тоже выросло звериное число.
Даёшь? Дай дорогу два,
Дай длинный дол добра,
День, дело, дети,
Три — третья точка в разговоре — те.
Три, тень и туча,
Тропа, где трудно,
Три немцев Тот,
Три тятя, и тётя и тёща,
Что властвует, приказывает, где крови нет прямой.
Два дева с глазами будущего.
Два — это думы.
А то таит, то тын.
Нет большей свободы, чем в прямом двуугольнике.
Нет большей темницы, чем треугольник — замкнутый простор
Толичие и доличие,
Точка и дочка,
Где дует два по долу,
И трудно тренью трёх.
Туда дуда для двух,
И дышит добрый дух
В свирель из двух.8
б) поэзия → теория
С другой стороны, мы видим поэзию конституированную, “сделанную” (то, что называется “стихотворение”), навязывающей себя теории, которая сводится к восприятию бессознательных векторов поэтической мысли:
• так, например, Хлебников в своём стихотворении «Крылышкуя золотописьмом...», обнаруживает пятеричную структуру автотелического дискурса и, шире, мира:
‹...›
Я изучал образчики самовитой речи и нашёл, что число пять весьма замечательно для неё; столько же, сколько и для числа пальцев руки. Вот частушка из «Пощёчины общественному вкусу»: «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик...» и т.д. В ней, в 4 строчках, помимо желания написавшего этот вздор, звуки ‘у, к, л, р’ повторяются пять раз каждый, ‘з’ по ошибке шесть раз.9 Мы говорим: остров мысли внутри самовитой речи, подобно руке, имеющей пять пальцев, должен быть построен на пяти лучах звука, гласного или согласного, сквозящего сквозь слова, как чья-то рука. То есть правило пяти лучей как изысканное строение звонкой речи с 5 осями. Так «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил» («Пощёчина общественному вкусу») образует чётные строчки; первые построенные на к, л, р, у — по пяти (сроение пчелиных сот). „Мы, не умирающие, смотрим на вас, умирающих” построены пять м. Довольно примеров и пятиосного строения морских звёзд нашей речи.10
Мы говорим: остров мысли внутри самовитой речи, подобно руке, имеющей пять пальцев, должен быть построен на пяти лучах звука, гласного или согласного, сквозящего сквозь слова, как чья-то рука. То есть правило пяти лучей как изысканное строение звонкой речи с 5 осями. Так «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил» («Пощёчина общественному вкусу») образует чётные строчки; первые построенные на к, л, р, у — по пяти (сроение пчелиных сот). „Мы, не умирающие, смотрим на вас, умирающих” построены пять м. Довольно примеров и пятиосного строения морских звёзд нашей речи.10 Олег: Кроме случаев уродства, рука имеет пять пальцев. Не следует ли отсюда, что и самовитое слово должно иметь пять лучей своего звукового строения гривы коня Пржевальского?
Олег: Кроме случаев уродства, рука имеет пять пальцев. Не следует ли отсюда, что и самовитое слово должно иметь пять лучей своего звукового строения гривы коня Пржевальского?
Казимир: Возьми и посмотри.
Олег: Вот «Пощёчина общественному вкусу» (стр. 8).
„Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
Пинь-пинь тарарахнул зинзивер —
О лебедиво —
О озари!”
Устанавливаю, что в них от точки до точки 5 к, 5 р, 5 л, 5 у. Это закон свободно текущей самовитой речи. Шёпот, ропот, неги стон (стр. 52) построено на 5 о; Мы, не умирающие, смотрим на вас, умирающих построено на 5 м (стр. 31). Есть много других примеров. Итак, самовитое слово имеет пятилучёвое строение и звук располагается между точками, на остове мысли, пятью осями, точно рука и морские звёзды (некоторым).11 («Разговор Олега и Казимира»)
(«Разговор Олега и Казимира»)
• в том же стихотворении вдруг появляются дополнительные смыслы:
«Крылышкуя и т.д.» потому прекрасно, что в нём, как в коне Трои, сидит слово ушкуй (разбойник). “Крылышкуя” скрыл ушкуя деревянный конь.12
Это открытие следует связать с письмом Хлебникова Каменскому:
Сколько городов вы разрушили — красный ворон? В вас кипит кровь новгородских ушкуйников, ваших предков ‹...›
13
Прочтение поэтом собственных произведений выступает как металингвистический дискурс внутри общей поэтической системы; благодаря этому второму прочтению поэт видит одну из основных фигур своей поэзии, ассонанс, который почти всегда перерастает в парономасис, а также — и это самое главное — парономастическая аллитерация обнаруживает глубокий смысл этого, казалось бы, беспричинного явления: “подсознательные структуры”,
14
бессознательную эротику его поэзии.
Поэзия системы
В результате этого двойного движения, которое, казалось, неотвратимо приведёт к расхождению двух составных элементов системы, развилась поэзия системы: поэзия модулирует научную мысль
15
по своим собственным меркам, не отклоняясь, однако, от строгих требований хлебниковской “научной теории”; затем мы становимся свидетелями возникновения научной (или систематической), зашифрованной поэзии,
16
по своей природе требующей двойного прочтения, причём наиболее удачным примером такой “стихотворной системы” оказывается энциклопедия хлебниковской поэзии и “науки”
сверхповесть «Зангези».
Мысль Хлебникова целиком сосредоточена на борьбе с разделением, самым вопиющим следствием которого является вид. Чувственный мир, в котором с необходимостью мы пребываем, является миром разделения, множественности только потому, что человек сам привносит туда разделение и множественность через работу мысли, которая ограничивает реальность единственным её проявлением.17 Реальный мир един, непрерывен, и всё предприятие Хлебникова сводится к восстановлению этого утраченного единства путём борьбы с разграничением пространства, времени и языка. В этой последней области „гранесловие”18
Реальный мир един, непрерывен, и всё предприятие Хлебникова сводится к восстановлению этого утраченного единства путём борьбы с разграничением пространства, времени и языка. В этой последней области „гранесловие”18 отождествляется с правилами грамматики, с “кусками” мысли, с устоявшимися словами, отделёнными друг от друга границами,19
отождествляется с правилами грамматики, с “кусками” мысли, с устоявшимися словами, отделёнными друг от друга границами,19 столь же условными, как и те, которые свойственны “пространству”. Последствие восстановления языкового континуума как единственной реальности, с которой приходится иметь дело поэту, имеет для Хлебникова громадное значение: фактически упразднение жёстких форм (в этом и состоит цель разложения слова20
столь же условными, как и те, которые свойственны “пространству”. Последствие восстановления языкового континуума как единственной реальности, с которой приходится иметь дело поэту, имеет для Хлебникова громадное значение: фактически упразднение жёстких форм (в этом и состоит цель разложения слова20 ) и границ в языке, непосредственное ощущение единства языкового материала (а, следовательно, и искусственности условностей и норм, кодифицированных грамматиками), приводит к созданию весьма своеобразной по своим целям и приёмам поэтики. Исходя из понимания языка как системы, находящейся в постоянном изменении, эта поэтика полагает именно непрерывную метаморфозу единственной целью поэтической речи. Б. Лившиц в «Полутораглазом стрельце» описывает впечатление, произведённое на него поэзией Хлебникова, когда он впервые открыл в ней “сдвиги” самых глубоких пластов традиционного поэтического языка:
) и границ в языке, непосредственное ощущение единства языкового материала (а, следовательно, и искусственности условностей и норм, кодифицированных грамматиками), приводит к созданию весьма своеобразной по своим целям и приёмам поэтики. Исходя из понимания языка как системы, находящейся в постоянном изменении, эта поэтика полагает именно непрерывную метаморфозу единственной целью поэтической речи. Б. Лившиц в «Полутораглазом стрельце» описывает впечатление, произведённое на него поэзией Хлебникова, когда он впервые открыл в ней “сдвиги” самых глубоких пластов традиционного поэтического языка:
Ведь и то, что нам удалось извлечь из хлебниковского половодья, кружило голову, опрокидывало все обычные представления о природе слова.
Ученик “проклятых” поэтов, в ту пору ориентировавшийся на французскую живопись, я преследовал чисто конструктивные задачи и только в этом направлении считал возможной эволюцию русского стиха.
Это был вполне западный, точнее — романский подход к материалу, принимаемому как некая данность. Все эксперименты над стихом и над художественной прозой, конечно, мыслились в строго очерченных пределах уже конституированного языка. Колебания как в сторону архаизмов, так и в сторону неологизмов, обусловливаемые личными пристрастиями автора, не меняли общей картины. Словесная масса, рассматриваемая изнутри, из центра системы, представлялась лейбницевской монадой, замкнутым в своей завершенности планетным миром. Массу эту можно было организовывать как угодно, структурно видоизменять без конца, но вырваться из её сферы, преодолеть закон тяготения, казалось абсолютно немыслимым.
И вот — хлебниковские рукописи опровергали все построения. Я вскоре почувствовал, что отделяюсь от моей планеты и уже наблюдаю её со стороны.
То, что я испытал в первую минуту, совсем не походило на состояние человека, подымающегося на самолёте, в момент отрыва от земли.
Никакого окрыления.
Никакой свободы.
Напротив, всё мое существо было сковано апокалиптическим ужасом.
Если бы доломиты, порфиры и сланцы Кавказского хребта вдруг ожили на моих глазах и, ощерившись флорой и фауной мезозойской эры, подступили ко мне со всех сторон, это произвело бы на меня не большее впечатление.
Ибо я увидел воочию оживший язык.
Дыхание довременнóго слова пахнуло мне в лицо.
И я понял, что от рождения нем.
Весь Даль с его бесчисленными речениями крошечным островком всплыл среди бушующей стихии.
Она захлёстывала его, переворачивала корнями вверх застывшие языковые слои, на которые мы привыкли ступать как на твёрдую почву.
Необъятный, дремучий Даль сразу стал уютным, родным, с ним можно было сговориться: ведь он лежал в одном со мною историческом пласте и был вполне соизмерим с моим языковым сознанием. А эта бисерная вязь на контокоррентной бумаге обращала в ничто все мои речевые навыки, отбрасывала меня в безглагольное пространство, обрекала на немоту. Я испытал ярость изгоя и из чувства самосохранения был готов отвергнуть Хлебникова.
Конечно, это был только первый импульс.
Я стоял лицом к лицу с невероятным явлением.
Гумбольдтовское понимание языка, как искусства, находило себе красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощён в творчестве одного человека.
Процесс этот, правда, не был корнетворчеством, ибо в таком случае он протекал бы за пределами русского, да и всякого иного языка. Но он не был отнюдь только суффиксологическим экспериментом. Нет, обнажение корней, по отношению к которому поражавшие нас словоновшества играли лишь служебную роль, было и не могло быть ничем иным, как пробуждением уснувших в слове смыслов и рождением новых. Именно поэтому обречены на неудачу всякие попытки провести грань между поэтическими творениями Хлебникова и его филологическими изысканиями.
Каюсь, в одиннадцатом году я не до конца понимал это, и столбцы неслыханных слов считал лишь подготовительными опытами, собиранием материала, кирпичами недостроенного Хлебниковым здания.
Правда, материал сам по себе был необычен. Во что превратилась бы вся наша живопись, если бы в один прекрасный день мы вдруг проснулись со способностью различать сверх семи основных цветов солнечного спектра ещё столько же? Самые совершенные холсты утратили бы свою глубину и предстали бы нам графикой. Все живописные каноны пришлось бы создавать заново.
Слово, каким его впервые показал Хлебников, не желало подчиняться законам статики и элементарной динамики, не укладывалось в существующие архитектонические схемы и требовало для себя формул высшего порядка. Механика усложнялась биологией. Опыт Запада умножался на Мудрость Востока. И ключ к этому лежал у меня в ящике письменного стола, в папке хлебниковских черновиков.
21
Итак, искусство Хлебникова, понимаемое как совокупность обдуманных приёмов, оказывается не столько искажением, навязываемым языку, сколько высвобождением его скрытых возможностей, сгнетённых правилами и автоматизмами обыденной речи (бытовой язык22 “футуристских” манифестов): выплеском языковой энергии через преодоление языковой инерции. Так объясняется знаменитая теория образования слов-понятий путём перестановки начального звука23
“футуристских” манифестов): выплеском языковой энергии через преодоление языковой инерции. Так объясняется знаменитая теория образования слов-понятий путём перестановки начального звука23 или не менее известная теория внутреннего склонения слов.24
или не менее известная теория внутреннего склонения слов.24 Эта поэтическая химия, “плавящая”25
Эта поэтическая химия, “плавящая”25 слова друг в друге путём размывания звуковых границ, строится на уверенности во взаимозаменяемости фонем, в неуклонной изменчивости отличительных признаков. Короче говоря, Хлебников экспериментально варьирует фонемы до такой степени, что максимальное отклонение переводит их в другой класс, втягивая туда всё слово целиком. Поэзия кроется именно в сдвиге — тонком переходе, создающем дистанцию между различными звуковыми формами понятий, переходе, который чужд здравому смыслу, слишком занятому рутиной, чтобы осознать пустоты, на которых строится бытовой язык.
слова друг в друге путём размывания звуковых границ, строится на уверенности во взаимозаменяемости фонем, в неуклонной изменчивости отличительных признаков. Короче говоря, Хлебников экспериментально варьирует фонемы до такой степени, что максимальное отклонение переводит их в другой класс, втягивая туда всё слово целиком. Поэзия кроется именно в сдвиге — тонком переходе, создающем дистанцию между различными звуковыми формами понятий, переходе, который чужд здравому смыслу, слишком занятому рутиной, чтобы осознать пустоты, на которых строится бытовой язык.
Нежный Нижний!
Волгам нужный, Каме и Оке.
Нежный Нижний
Виден вдалеке
Волгам и волку. —
Ты не выдуман,
И не книжный
Своим видом он.
Свидетели в этом:
И Волга иволги
Всегда золотая, золотисто-зелёная!
И Волга волка,
В серые краски влюблённая,
Старою сказкою, око
Скитальца слепца успокоив.26
Поэтический эффект теории наималов Хлебникова налицо: атомы смысла и звука, эти минимальные частицы звукового пространства и понятийного времени — звуковые и семантические вспышки одновременно — приобретают для поэта значение звуковых схем постоянного движения, т.е. самой жизни языка и мысли:
Моё мнение о стихах сводится к напоминанию о родстве стиха и стихии.27
Эти воображаемые точки движутся к всё ещё подразумеваемым границам ноэтической субстанции (мысли) и звуковой субстанции (речи): таким образом, в рамках этой освободительной теории возникает поэзия функций речи, улавливающая движение там, где здравый смысл меньше всего ожидал этого: в грамматических категориях речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия, падежи, числа, роды, времена и виды, местоимения, абстрактные и конкретные и т.д.). Кроме того, имеют значение все синтаксические конструкции.
28
Поэзия становится “поэзией грамматики”.
29
Привилегированная роль, которую играют в грамматической ткани поэзии все виды местоимений, обусловлена тем, что таковые, в отличие от всех других автономных слов, являются чисто грамматическими и реляционными единицами; помимо местоименных существительных и местоименных прилагательных, мы должны включить в этот класс местоименные наречия и глаголы, которые мы называем существительными глаголами (а следовало бы назвать местоименными глаголами), такие как быть и иметь. Отношение местоимений к словам, которые не являются местоимениями, неоднократно сравнивались с отношениями геометрических существ к физическим существам, —
пишет Р. Якобсон в своём исследовании «Поэзия грамматики и грамматика поэзии».
30
Обоснование местоимений —
этота, тотан, собеса и т.д. — путём отсоединения этих “очевидных указателей”
31
от той части дискурса, к которой они обычно отсылают, превращает стихотворение в поле битвы между старым и новым языками; приёмы этой грамматической поэзии, где главные герои распределяются между “здесь и сейчас” и “где-то ещё”, сразу переводят произведение на метафизический уровень. Непрерывное движение звуковых и семантических ассоциаций и мутаций образует своего рода непрерывное метонимическое удвоение
32
поэтической речи: смежность, порождающая тропы, есть смежность фонем, образ вызывается звуковой близостью, а не буйством фантазии поэта. Автором стихотворения оказывается само стихотворение, то есть язык, который конституирует себя как систему функций и навязывается как таковая поэту, который оказывается переписчиком, не более того. Поэтическая тема — это язык, который сам себя создаёт; именно так он навязывал себя первобытному человеку:
Певучему дикарю созвучие помогало не растеряться в хаосе слов, делало выбор, боролось с большими числами языка.33
Следовательно, язык и только язык диктует поэту тему посредством непрерывного создания неопределённых фоносемантических ассоциаций. Фигуры поэтического языка Хлебникова — это фигуры кинетики, начертанные в воображаемом пространстве мысли силовыми линиями: треугольники, прямоугольники, сферы, конусы и т.д.
34
“Кубизм”, который угадывается за этой кинетической фонологией, исходит из потребности поэта “озвучить” абстрактные напряжения
35
(абстрактный динамизм,
36
который является функционированием языка), а не из механического подражания приёмам, свойственным языку современного изобразительного искусства.
37
Поэзия неизбежно возникает из игры абстрактных сил, управляющих вселенной, и это потому, что они проявляются в языке, точнее, в функционировании языка.
38
Посредством языка человечество подчинено силам, которые отражают (воспроизводят) структуры вселенной: если Земля со времён Коперника вращается вокруг Солнца, то и язык вращается вокруг центра,
39
открыть который страстно пытается поэт-мыслитель:
На силах должны были отразиться сроки вращения, а мы — дети сил.40 Иногда солнце — звук, а земля — понятие; иногда солнце — понятие, а земля — звук.41
Иногда солнце — звук, а земля — понятие; иногда солнце — понятие, а земля — звук.41 Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звёздные сумерки.42
Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звёздные сумерки.42
В ожидании этого открытия язык движется, и поэт пытается следовать за вселенной в её неумолимом стремлении к вечно ускользающей точке.
К ней-то и влечётся язык (бессознательно для говорящих на нём, сам же язык — “осмысленно”,43 ):
):
По-видимому, язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его.44
и его молчаливое, тайное знание на несколько столетий, даже тысячелетий опережающее “великие открытия” науки,
Удивительно, что язык знал об открытии Тимирязева до Тимирязева.45
есть её будущее, её наиболее совершенная форма, которую Хлебников называет заумным языком, производя этим двусмысленным выражением, как мы отметили выше, досадную путаницу. И. Березарк делится следующим наблюдением:
Хлебников хорошо знал и филологию, и историю языка. Но он с большой досадой и с горестью вспоминал о том, что прославленный итальянский футурист Маринетти назвал его когда-то архаистом. „Я его, может, прощаю, оттого что он иностранец и в русском языке ничего не смыслит, а для меня важно не прошлое, а будущее слова”, — говорил Хлебников. Он рассматривал каждое слово в его историческом развитии; меня поражало, что Хлебников относится к слову, особенно новому, неожиданному, с особым почтением, с уважением, как относится к живому человеку, очень достойному и мудрому.
46
Энергетическое поле языка немедленно и обязательно помещается в активную темпоральность, оказывающуюся средой, в которой развёртываются силы языка: потенциальность. Из замечания Березарка следует, что Хлебников осознаёт потенциальность языка как тенденцию: будущее может быть уловлено только в настоящем, насколько это возможно.
Учитесь: на язык бросает тень будущее,
заявляет поэт.
47
Хлебников обладал острой философской интуицией, которую Бурлюк много лет спустя отразил в названии своей статьи «Энтелехизм»
48
(содержание, по сути, не оправдывает заголовка; это попурри из наблюдений и бессвязных воспоминаний о “футуризме” ранней поры): поэтическое искусство именно потому, что оно является искусством создавать (творить)
произведения, есть
сила, производящая
формы, новые структуры, способные порождать в свою очередь другие формы, другие структуры, т.е. другие
произведения. И это становится возможным благодаря тому, что “естественный” язык уже представляет собой бездонный резервуар форм — “энергию”, по Гумбольдту, или, если использовать аристотелевский термин, популяризированный Бурлюком, “энтелехию”.
49
Согласно этому учению — материя есть не застывшее бытие, а процесс, и притом процесс, совершающийся по типу органического строения, так как все стороны его существуют не сами по себе, а в отношении к целому.
50
‹...› Энтелехия творческого процесса, единственного желанного именно и есть фактор, упорядочивающий процессы в организме без затрат энергии и потому способный ограничить сферу действия закона энтропии.
‹...› Термином Аристотеля „энтелехия”, вкладывая в него, конечно, новое содержание, можно ‹...› обусловливать гармонию сложных процессов реституции.
Энтелехия тот факт, который лежит в начале всякого индивидуального формообразования.
51
‹...› Энтелехизм — искусство как органич. процесс. Это не вещизм, который В.В. Маяковский во время своего рассвета ставил платформой. — Энтелехизм — глубже и шире, он подводит фундамент философского революционного осознания под современное единственное передовое искусство.
52
Задача поэта-энтелехиста — быть материалистом, в смятении предчувствующим таинственное бурление языка, зарождение новых форм, которым суждено стать новыми фактами, что уменьшает сопротивление ещё не высказанного, не поименованного. Через поэта язык обретает достоинство проявленной формы. В этом решающем взгляде на будущее своей поэзии — и современной поэзии вообще — он погружает творчество в его собственное время, которое, как ни странно, более не принадлежит ему (этот парадокс обусловлен лишь видимостью, создаваемой языком, заключается в том, что тематическая форма — или семантическая тема, — которая, хотя и организует лингвистическое поле, частью которого она является, как бы перпендикулярна этому полю и, следовательно, не является целиком его частью). Перефразируя оценку, данную Хлебниковым Гастеву, можно сказать, что “я” поэта-Творца в самом акте творения обращается с молитвой к “богу” будущего, будущему “я”.53 Поэтическое творчество — это вытеснение самого себя из эмпирического “здесь и сейчас”, проекция посредством воображения в Иное:
Поэтическое творчество — это вытеснение самого себя из эмпирического “здесь и сейчас”, проекция посредством воображения в Иное:
Не есть ли природа песни в ‹уходе›
от себя, от своей бытовой оси? Песня не есть ли бегство ‹от›
я? Песня родственна бегу, в наименьшее время ‹умеющему›
покрыть наибольшее число верст образов и мысли!54
Боги, ипостаси будущего, низвергаются с небес творческим исследованием тайн языка: таков в «Зангези» смысл бегства богов, испуганных победным криком человечества, навсегда покончившего с
бытовым языком. В этих мифо-религиозных отсылках отчётливо виден тот хлебниковский эпектаз, который переносит поэта из настоящего в будущее и, тем самым, позволяет ему охватить ретроспективным взором это настоящее, ставшее прошлым (
Взирающие на ваше время с утеса будущего55
), что является частью глубоко эсхатологической установки, которую мы обнаруживаем и у другого выдающегося
будетлянина — Маяковского.
56
Таким образом, время претерпевает в ходе этой поэтико-творческой обработки радикальную мутацию: из нейтральной ранее среды оно через произведение — и в нём самом — вовлекается в смысловой рост и приобретает патетический тон, возникающий в результате разрыва с настоящим, полагаемым упразднённым движением к будущему, которое не обязательно является обещанием жизни... ибо “вóды будущего”
57
могут высохнуть. Итак, плох тот творец, который чурается принесения двойной — искупительной и поминальной — жертвы одновременно:
Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока мы не умеем определить, что создаст эту скорость. Но знаем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, зажигает настоящее.
В «Кузнечике», в «Бобеоби», в «О, рассмейтесь» были узлы будущего — малый выход бога огня и его весёлый плеск. Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер бога слова.
Я в чистом неразумии писал «Перевертень» и, только пережив на себе его строки: чин зван... мечом навзничь (война) и ощутив, как они стали позднее пустотой, пал а норов худ и дух ворона лап, — понял их как отражённые лучи будущего, брошенные подсознательным “я” на разумное небо. Ремни, вырезанные из тени рока, и опутанный ими дух остаются до становления будущего настоящим, когда воды будущего, где купался разум, высохли и осталось дно.58 («Свояси»)
(«Свояси»)
Будущее для произведений, созданных во имя его, чем априори занимались “футуристы”, может оказаться для них пустыми хлопотами. “Преждевременное” из-за чрезмерного ожидания, оно застревает в настоящем:
Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена „манч, манч!” из «Ка» вызывали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими; теперь они для меня ничто. Отчего — я сам не знаю.59 Я чувствую гробовую доску над своим прошлым.
Я чувствую гробовую доску над своим прошлым.
Свой стих кажется чужим. ‹...›
Вещь, написанная только новым словом, не задевает сознания.60
Этот пафос предвидения — если не программирования — краха порыва в будущее знакóм, надо полагать, всем, кто мужественно препоручает своё творчество естественному становлению. У Брюсова читаем:
Много общих настроений, много взглядов на мир и на жизнь сменилось в душе моей; быстро становились для меня прошлым, и осуждённым прошлым, сборники моих стихов.
61
Но Хлебников, наряду с Маяковским, оказывается именно будетлянином, он острее прочих чувствует неумолимую власть времени: завершение любого произведения равносильно его смерти. Поэтическая система, установленная Хлебниковым, заранее предписывает своё упразднение как неизбежность.
Если теоретические положения Хлебникова отчасти (только отчасти, поскольку автономный дискурс не осознаёт своей структуры и раскрывает её взыскующему взору теоретика лишь постфактум) допускают расцвет поэзии, сознательно опирающейся на особые приёмы, то, наоборот, понятия не имеющая ни о каких приёмах поэзия являет их тем более убедительно, что не претендует на раскрытие законов, независимо от воли автора диктующих ему, как и что писать. Иными словами, любое поэтическое произведение (как стихотворение Пушкина, так и стихотворение Хлебникова) поддаётся “научному” прочтению, вскрывающему в нём непреложные законы языка. Именно это Хлебников называет вторым языком стихотворения.62 Оно полно смысла, с какой бы точки зрения его не рассматривать. Выверенный дизайн делает текст целостным, неподвластным случайности. Произведение искусства везде (во всех своих местах, во всех своих частях) обосновано, закономерно, мотивировано. Вся композиция, её части, предложения, группы слов и их распределение (распределение фраз), “слова” и их элементы (упорядоченная последовательность составляющих их фонем), сами фонемы (“буквы” текста) — всё изобретено и продумано. Поэтический текст от начала и до конца пронизан, даже насыщен смыслом, этой сетью внутренних соответствий. Истолкователь не может исчерпать текст, который он подвергает исследованию. Последний постоянно вопрошает своего собеседника, и вопросы раздаются из самых неожиданных мест. Текст, если позволить себе одну из тех редких игр с корнями, терпимых французским лингвистическим сознанием, бесконечно скрывает свою тайну; её не может раскрыть ни структуралистская, ни психоаналитическая, ни математическая, ни эксперименталистская, ни каббалистическая,63
Оно полно смысла, с какой бы точки зрения его не рассматривать. Выверенный дизайн делает текст целостным, неподвластным случайности. Произведение искусства везде (во всех своих местах, во всех своих частях) обосновано, закономерно, мотивировано. Вся композиция, её части, предложения, группы слов и их распределение (распределение фраз), “слова” и их элементы (упорядоченная последовательность составляющих их фонем), сами фонемы (“буквы” текста) — всё изобретено и продумано. Поэтический текст от начала и до конца пронизан, даже насыщен смыслом, этой сетью внутренних соответствий. Истолкователь не может исчерпать текст, который он подвергает исследованию. Последний постоянно вопрошает своего собеседника, и вопросы раздаются из самых неожиданных мест. Текст, если позволить себе одну из тех редких игр с корнями, терпимых французским лингвистическим сознанием, бесконечно скрывает свою тайну; её не может раскрыть ни структуралистская, ни психоаналитическая, ни математическая, ни эксперименталистская, ни каббалистическая,63 подобная прилагаемой Хлебниковым к «Пиру во время чумы» методики; “тайна” — это дыра в том смысле, что художественный текст никогда не раскрыть вполне, не свести какими-либо приёмами каузальной критики к структуре различий, которая “объяснила” бы его.64
подобная прилагаемой Хлебниковым к «Пиру во время чумы» методики; “тайна” — это дыра в том смысле, что художественный текст никогда не раскрыть вполне, не свести какими-либо приёмами каузальной критики к структуре различий, которая “объяснила” бы его.64 Мы никогда не достигнем окончательного знания, “изучая” произведение искусства. Вообще говоря, таковое всегда находится “где-то в другом месте”, ибо никогда не бывает вполне фактом, объектом, данностью: оно есть и его нет, или, что то же самое, оно всегда “настоящее-будущее”, “энтелехийное”.65
Мы никогда не достигнем окончательного знания, “изучая” произведение искусства. Вообще говоря, таковое всегда находится “где-то в другом месте”, ибо никогда не бывает вполне фактом, объектом, данностью: оно есть и его нет, или, что то же самое, оно всегда “настоящее-будущее”, “энтелехийное”.65 Но, поскольку произведение представляет собой матрицу форм, структур, бесконечно создаваемых друг из друга, постоянно “объясняющих” себя во временнóй последовательности, актуально именно хлебниковское прочтение литературных произведений прошлого. Он применяет к ним то, что обнаружил в некоторых своих собственных произведениях: таковые, даже если это не эксперимент (в том смысле, что «Бобэоби...» и т.п. заведомо экспериментальны), то языковый эксперимент. Стихотворение, как продукт длительного развития языка, необходимо подчиняется (часто без ведома автора) имманентным законам лингвистики; даже лишённое ясности и отчётливости, оно непременно обладает “разумом”, превосходящим индивидуальный: этот трансцендентный разум (За-умь) коренится в самом языке, а не где-то “метафизически” за его пределами; так что говорить о безумной мысли вполне допустимо. В мышлении, даже не последовательном, “разбросанном”, всегда есть скрытая причина. В «Свояси» читаем:
Но, поскольку произведение представляет собой матрицу форм, структур, бесконечно создаваемых друг из друга, постоянно “объясняющих” себя во временнóй последовательности, актуально именно хлебниковское прочтение литературных произведений прошлого. Он применяет к ним то, что обнаружил в некоторых своих собственных произведениях: таковые, даже если это не эксперимент (в том смысле, что «Бобэоби...» и т.п. заведомо экспериментальны), то языковый эксперимент. Стихотворение, как продукт длительного развития языка, необходимо подчиняется (часто без ведома автора) имманентным законам лингвистики; даже лишённое ясности и отчётливости, оно непременно обладает “разумом”, превосходящим индивидуальный: этот трансцендентный разум (За-умь) коренится в самом языке, а не где-то “метафизически” за его пределами; так что говорить о безумной мысли вполне допустимо. В мышлении, даже не последовательном, “разбросанном”, всегда есть скрытая причина. В «Свояси» читаем:
«Девий бог», как не имеющий ни одной поправки, возникший случайно и внезапно как волна, выстрел творчества, может служить для изучения безумной мысли.
Так же внезапно написан «Чортик», походя на быстрый пожар пластов молчания. Желание “умно” — а не заумно понять слово привело к гибели художественного отношения к слову. Привожу это как предостережение.
Именно эта уверенность в конечной внятности языка произведения и даёт возможность исследования его как математического объекта: хлебниковское понимание текста есть отношение к произведению как объекту, который надлежит выстроить. В этом отношении Хлебников предвосхищает формалистскую революцию:
Весь язык, каждая фраза, сказанная человеком, является искусством: но среди их ровного поля высятся великие создания гениев воображения. В каждом материале, под рукой мастера, невообразимое количество возможностей, но наиболее безмерны средства языка, —
пишет Бурлюк в «Энтелехизме».
66
И действительно, именно на поприще наименее сложного языка великая игра космических сил разыгрывается с наибольшим блеском и внятностью для тех, кто умеет вглядываться и вдумываться. Язык становится идеальным местом, где играет великий универсальный актёр — ритм, и прозрачность его маски обратно пропорциональна технической неосведомлённости поэта. Чувство, наитие, “наивность” исполнения лучше, нежели ритмическая акробатика уверенного в своих приёмах словесника, раскрывают природу поэтического языка: свободный стих (понимаемый здесь как стих с “непреднамеренной ритмической ошибкой”) — поучительное зрелище отказа от насилия над языком в ходе стихосложения. Так, в статье «Песни 13 вёсен» Хлебников в виде примечаний к нескольким опусам тринадцатилетней девочки даёт краткое изложение поэтического искусства, где утверждает первенство ритма (или, по выражению К. Чуковского, „самодержавие ритма”
67
) над другими узаконенными признаками стиха, включая театральность. «Песни 13 вёсен» — своего рода введение-комментарий к стихам девочки-подростка Милицы, которые по настоянию Хлебникова появились в сборнике «Садок судей II».
68
Идейная насыщенность этого текста повергает в изумление. Выдвинут ряд основополагающих положений “идеологической” стороны поэтической системы Хлебникова; кроме того, даётся блестящее истолкование театральной метафоры языка поэзии. Возможно, речь идёт не просто о
театре размеров, но и о первом понимании сущностной метафоричности языка, который посредством её движется (“вращается”). Вот наиболее ударные места этого важного текста.
69
Прекрасно, когда после года молодого месяца славы рок берёт свою свирель и прислоняет её к нежным детским устам и заставляет её звать о мужестве и к суровым добродетелям воинов.
Здесь можно заглянуть на сущность вольного размера. Вот «Песнь к ветру»: восемь слогов строки — восемь чисел, в одежде звука; в них гулки нечётные слоги:
И под плач твой заунывный
Грустно стало мне самой.
Здесь весть строгость созерцания. Но в следующих шестнадцати слогах:
Ветер, перестань, противный,
Надоел сердитый вой.
над словом ‘перестань’ нет двух ударов, и очаровательная свобода от ударных слогов вызывает смену действующего лица первых шестнадцати слогов действующим лицом вторых шестнадцати слогов.
Действующее лицо первых шестнадцати слогов скорбное, строгое, грустное. Вторые наделены весёлой лукавой усмешкой и задором к ветру. Это юное смеющееся лицо. Итак, отвлёченная задача размера погрешностей заключается в том, что в нём размеры суть действующие лица, каждое с разными заданиями выступая на подмостках слова.
Очаровательная погрешность, только она приподымает покрывало с однообразно одетых размером строк, и только тогда мы узнаём, что их не одно, а несколько, толпа, потому что видим разные лица.
Заметим, что волевой рассудочный нажим, в изменении размера у В. Брюсова и Андрея Белого, не даёт этих открытий подобно погрешности, и лица кажутся неестественными и искусственно написанными.
Итак, этот размер есть театр размеров.
Так как покрывало размера приподнято ворвавшимся ветром, и смотрит живое лицо.
Строчка есть ходьба или пляска входящего в одни двери и выходящего в другие.
Итак, строгий размер есть немая пляска, но свобода от него (не искусственная, а невольная) есть уже язык, чувство, одарённое словом.
Это общая черта людей песни будущего.
Замолчи, замолкни, ветер.
И меня ты пожалей.
трогательной просьбой кончается строчка.
Пользование выражением „в прекрасных хоромах” относительно римлянки и римской жизни указывает, что в этой душе даже самые высокие числа иноземного быта не выше чисел русского быта, и юный дух с отчаяния бросается на меч, доказывая это.
Итак, мы делаем вывод, что чувства этого сердца опережают его возраст. Они весть “я” в будущем — “я” сегодня.
(«Песни 13 вёсен»)
Выделим три определяющих аспекта этого текста:
• налицо программа: «Садок судей II» увидел свет в решающий момент борьбы будетлян против засилья символизма. Отсюда воинственный, даже боевой характер текста: Рок ‹...› заставляет её звать о мужестве и к суровым добродетелям воинов ‹...› юный дух ‹...› бросается на меч, тон которого столь же резок, как и в прочих статьях или манифестах того времени (например, «Мы обвиняем...»70 и «Полемические заметки 1913 года»,71
и «Полемические заметки 1913 года»,71 а также завершающие строки статьи «Учитель и ученик»72
а также завершающие строки статьи «Учитель и ученик»72 и воззвание «! Будетлянский»73
и воззвание «! Будетлянский»73 ). Стихи юной Милицы — образец будетлянского искусства, т.е. искусства будущего, так же (и в высшей степени показательно!), как и другие стихотворения, опубликованные в сборнике (особенно стихи самого Хлебникова: «Гибель Атлантиды», «Перевертень», «Мария Вечора», «Ховун», «Сутемки сувечер», «Шаман и Венера», «Крымское»):
). Стихи юной Милицы — образец будетлянского искусства, т.е. искусства будущего, так же (и в высшей степени показательно!), как и другие стихотворения, опубликованные в сборнике (особенно стихи самого Хлебникова: «Гибель Атлантиды», «Перевертень», «Мария Вечора», «Ховун», «Сутемки сувечер», «Шаман и Венера», «Крымское»):
Это общая черта людей песни будущего.74
• в этом тексте, содержащем ряд основных положений “футуризма” (будетлянства), по крайней мере, как его понимал тогда Хлебников, едва ли нас удивит то, с какой энергией он нападает на некоторые стороны символизма, представленого здесь “врагом” будущего, молодёжи и “футуризма” вместе взятых. Отложим этот яростно-полемический задор будетлянских манифестов до будущего разговора о генезисе “футуристской” группы. Отметим лишь ту агрессивность, с которой “дух славянства” насаждался в пику Западу и русским западникам (в данном случае, поэтам-символистам):
И в русскую землю
Зароют меня
Французский не буду
Учить никогда.
В немецкую книгу
Не буду смотреть.
Скорее, скорее
Хочу умереть.
75
Пояснение Хлебникова
Вот слава на щите юной волны. Но могли бы поучиться ей взрослые.
Итак, взрослые не отравленную ли чашу бытия дают детям России завтра, если могла возникнуть эта горькая решимость. ‹...› Итак, к детскому сердцу мировая скорбь находит путь через французский и немецкий, через умаление прав русских.
созвучно его резкой антисимволистской статье «Мы обвиняем»
76
(1912):
Мы обвиняем в том, что старшие поколения дают младшим чашу бытия отравленной.
‹...› Да в этом смысл жизни Андреева, Арцыбашева, Сологуба и других, чтобы мы, выступающие в жизнь, выпили отравленную чашу бытия, невинными глазами принимая её за лучший напиток, а молодую змею принимали за безобидную подробность, тесёмку, изящно обвившую сноп трав.
• третий аспект (безусловно, самый важный в рассматриваемом нами вопросе, а именно функционирование хлебниковской поэтической системы) — атака Хлебникова на символистов в самой области стихосложения для обоснования своего собственного представления о соотношении техники и языка на уровне приёмов. Хлебников здесь пытается разработать или, по крайней мере, наметить новую иерархию ценностей в поэтической системе. Довольно странно видеть “футуриста” на страже вдохновения против обдуманного и аргументированного искусства (искусственности) двух великих мастеров и теоретиков поэтической техники современности — А. Белого и В. Брюсова. Однако этот текст странен лишь по отношению к определённому, уже привычному образу “футуризма” (“футуризма” всеевропейского), если забыть, что это “движение” было, прежде всего, изменением восприимчивости в начале ХХ века. Когда Хлебников пишет:77
Итак, строгий размер есть немая пляска, но свобода от него (не искусственная, а невольная) есть уже язык, чувство, одарённое словом.
‹...› Итак, мы делаем вывод, что чувства этого сердца опережают его возраст,
мы видим, что он становится, так сказать, предвестником новой восприимчивости, нового
чувства, и двусмысленность его защиты,
78
когда он говорит о “голосе чувства”, встречается у всех заумников и “алогистов” (Кручёных, Зданевич, Малевич), которые утверждают, что делают искусство прямым, немедленным переводом слова. Слово, “взорвавшееся”, “распылённое” и впрямь тотчас передало бы чувство, эмоцию. Мы ещё не дошли до того места в тексте, где речь идёт именно об “ошибке”, причём обаятельной (
очаровательная погрешность), но уже налицо путь от “детского примитивизма” к примитивизму как таковому, т.е. к грубому, сырому, “первичному” выражению новых ощущений и чувств,
сути новой эстетики. Чтобы принять эту хлебниковскую “точку зрения”, следует вернуться к поэтическому климату того времени, когда формировались вкус и талант молодых поэтов, которые должны были освободиться от опеки старших символистов, подняв знамя “футуристского” (и акмеистского, более умеренного) восстания:
Это восстание молодёжи.
Мы щит и вождь её против старцев.79
Когда Хлебников поместил свою статью «Песни 13 вёсен» в «Садок судей II» (конец 1912 или начало 1913 года), прошло всего три года с выхода в свет объёмистого «Символизма» А. Белого, “суммы”, как уже было сказано, символистского поэтического искусства (и, в известном смысле, поэтической техники в целом); с другой стороны, В. Брюсов, только что давший в «Tertia Vigilia», «Всех напевах», «Семи цветах радуги» и «Девятом камне» ряд образчиков превосходного стихосложения, приступил к составлению двух сборников, призванных подвести итог всему, на что был способен этот признанный знаток своего дела: «Снам человечества» и «Опытам».
Брюсов, может быть, превзошел Хлебникова в поэтическом экспериментаторстве,
полагают авторы «Поэзии первых лет Революции»
80
Меншутин и Синявский. Но эти произведения были опубликованы только в 1913 году (следовательно, позже предполагаемой даты написания статьи «Песни 13 вёсен»); тем не менее, Брюсова, с оглядкой на его предыдущие издания, а также его современные представления об истоках “футуризма”, можно по праву считать ещё одним выдающимся мастером стиха. Помимо виртуозного стихосложения, очевидного в ряде авторских сборников 1900–1910 гг., он разделял с другим “мастером” символизма, Вяч. Ивановым, стремление создать своего рода паноптикум общечеловеческой поэтической культуры, поэтическую “сцену”, где развернулась бы игра разнообразных систем и поэтических техник всего мира, как в диахроническом, историческом, эволюционном смысле, так и в плане синхронности. В черновом предисловии к «Снам человечества» читаем:
Замысел: Представить все формы, какие прошла лирика у всех народов во все времена ‹...›
81
В целом — хрестоматия всемирной поэзии, которая могла бы русского читателя ознакомить со всеми формами лирической поэзии ‹...›
82
В другом варианте предисловия он поясняет величие своего замысла:
‹...› Я хочу воспроизвести на русском языке, в последовательном ряде стихотворений все формы, в какие облекалась человеческая лирика.
От безыскусственных песен первобытных племён, через лирику древнего Востока, античной древности, народов, создавших новую Европу, и народов, населявших Америку до её завоевания конкистадорами, через всё многообразие искусственной поэзии, как она была разработана на последние три-четыре столетия, вплоть до форм, найденных недавним прошлым и отыскиваемых поэтами “сегодняшнего дня”, — я хочу представить своим читателям образцы всех приёмов, какими пользовался человек, чтобы выразить лирическое содержание своей души. В целом «Сны человечества» должны быть “хрестоматией всемирной поэзии”.
83
Отсюда понятно беспокойство “футуристов” с их претензией на исключительность в технических новшествах и тактическая уловка Хлебникова, когда он переносит, как он это сделано в «Песнях 13 вёсен», “сценическую площадку” поэтического языка. Полемический замысел очевиден, однако ход очевидным не назовёшь: описка, поэтический “промах” по неумелости автора становится, благодаря “футуризму”, подробностью (вряд ли мы решимся употребить в данном случае слово ‘приём’), полной смысла. Хлебников возводит ляпсус — ибо таковой оказывается признаком новой чувствительности — в достоинство будетлянского поэтического искусства. Описка, непроизвольное несоответствие написанного задуманному порождают поэзию, заявляющую себя новой эстетикой — именно той, которая “отравлена” холодной западной “современностью” символистов.
Итак, этот размер есть театр размеров.
Так как покрывало размера приподнято ворвавшимся ветром, и смотрит живое лицо.84
Живой персонаж, который появляется и исчезает на сцене поэтического текста, оказывается мерой (размером), “душой танца”, выражением чувства, когда хореографическое правило нарушается со всей невинностью. Простодушная, наивная ошибка действует как высвобождение истины стихотворения, в противном случае удерживаемой в плену метрической самоцензуры. Появление лика поэзии связано с состоянием детской, грубой и первобытной наивности. Как то следует из очерка «Песни 13 вёсен», “детский примитивизм” “футуристов” (и Хлебникова в первую очередь) на поверку оказывается уловкой поэта, уверенного в приёмах своего искусства (которое он провозглашает новым), объявляющего законным использование бессознательных недочётов детей или “неумелых”, “примитивных” писателей. В очаровательной погрешности Милицы против метрической нормы Хлебников открывает новое поприще поэта: ляпсус обнаруживает поэтичность плохо освоенного языка.
Очаровательная погрешность, только она приподымает покрывало с однообразно одетых размеров строк, и только тогда мы узнаём, что их не одно, а несколько, толпа, потому что видим разные лица.85
Итак, оплошность, по Хлебникову, превращается в поэтический намёк. Искусство, будучи конфликтной системой в разрешении, должно преодолевать противоречия, в которых пребывает по определению, но преодолевать не полностью, а так, чтобы приручение материала оказалось налицо; именно посредством определённого рода ошибки или несоответствия искусство выказывает свою “неуживчивость”. Совершенное произведение, напротив, раскрывает мастерство автора — и только,
Заметим, что волевой рассудочный нажим в изменении размера у В. Брюсова и Андрея Белого не даёт этих открытий подобно погрешности, и лица кажутся неестественными и искусственно написанными.86
утаивая операцию подчинения материала. Произведение, в понимании Хлебникова, а вместе с ним и “футуристов”, должно быть квазипреодолением языка, которое своей противоречивой, “ошибочной” стороной заставляет почувствовать то сопротивление, которое ему оказывают устоявшиеся правила искусства. Н.И. Кульбин в 1910 году в сборнике «Студия импрессионистов» (в том самом, где Хлебников вместе с «Трущобами» поместил своё знаменитое «Заклятие смехом») заявляет:
Гармония и диссонанс — основные явления мироздания. Они универсальны, общи для всей природы. На них основано искусство.
Жизнь обусловливается игрой взаимных отношений гармонии и диссонанса, их борьбой...
Совершенная гармония — нирвана, к ней стремится усталое Я.
Совершенная гармония — смерть...
Усложнение формы сопровождается диссонансом.
87
Но Хлебников как будто не замечает у себя противоречия в оценке “дисгармонии”, “фальшивой ноты”: строго говоря, для наивного, в глазах “футуриста”, ребёнка Милицы “промаха” не существует. На ошибку может указать только учитель; оценить её — дело последователя определённой школы. “Наивная детская свежесть” и промах-ценность, промах-приём — о разном. “Детскость” “футуристов” оказывается тщательно выверенным приёмом; в действительности “инфантилизм” — выдумка взрослых, поскольку очарование детских поступков и умопостроений — следствие того, что они только начинают осваивать окружающий мир, бесконечно сложный. Евангельским заветом „будьте как дети” в исполнении “футуристов” К. Чуковский озаботился одним из первых:
Я же всегда был сторонником такого наречия, и уже лет десять твержу, что оно и законно, и неизбежно, и ценно. Мне особенно дорого то, что такие же тенднеции речи наблюдаются в языке детей. „Отскорлупай мне яйцо”, — говорит четырёхлетний ребенок. „Лошадь меня лошаднула”. „Козлик рогается”. „Ёлка обсвечкана”. И если вы его спросите, что же такое крол, он ответит: крол — это кролик, но не маленький, а большой.
Что ни трёхлетка, то Игорь Северянин. Правда, Северянин не назовёт почтальона почтаником, но разве не мог бы он сказать: поезд чихчахнул, я уже наваренился, приложи мне холодный мокрес?
Это я говорю не в укор Северянину, а в похвалу Северянину. Я уже доказывал не раз, что где-то в подсознательных недрах души у малолетних детей таится столь изощрённая чуткость ко всем законам и формам родной (и даже неродной) речи, что если бы к пяти-шести годам, по миновании биологической надобности, эта чуткость в них не притуплялась, в десять лет все были бы Флоберами.
Замечательно, что наш знаменитый лингвист проф. Бодуэн де Куртенэ уже давно объявил детский лепет футуризмом. „Ребёнок, — писал г. Де Куртенэ, — захватывает будущее, предсказывая особенностями своей речи будущее состояние племенного языка и только впоследствии пятится, так сказать, назад, всё более и более приноравливаясь к нормальному языку окружающих”.
Значит, Северянина по праву можно называть поэтом-будущником, ибо говорила же трёхлетняя Ася, ещё не прочитав его поэз:
— Окалошь мои ножки! — Замолоточь этот гвоздик! — Бумага откнопкалась!
88
Если предположить тождество лексических приёмов ребёнка и поэта, ритмической свободы Милицы и метрических вольности “примитивистского”, “наивного” стихотворения Хлебникова, то инфантилизм и наивность подыгрывают не детям, а поэтам, со знанием дела развивающих новое поэтическое искусство, противоположное “чрезмерной заданности” символистов, избытку навыков Брюсова, Белого и Вяч. Иванова. Под термином “инфантилизм” скрывается совокупное изменение поэтической техники и определённой концепции поэтического искусства, которая отныне ставится на службу новому мироощущению, новой чувствительности или, выражаясь точнее, новой αἴσθησις. В этом отношении «Песни 13 вёсен» — одна из пощёчин зарождающегося “футуризма” диктатуре ухищрений символистской “поэтической поэзии”. Хлебников ратует за смысл, разум и высшее сознание, выходящие за рамки канонов старой школы, объявляя их целями трансцендентного (заумного) искусства.
Театральная метафора, пронизывающая тексты Хлебникова (действующее лицо | подмостки | занавес | театр размеров | пляска входящего и т.п.), не свободна от скрытых намерений: для Хлебникова, как и для его товарищей будетлян, поэтический язык есть театр, где разыгрывается Мир. Современная поэзия, сознательно ориентированная на будущее, — театр настоящего времени (прежде чем стать музеем культуры прошлых времён); а театр, в свою очередь, — особое место, где язык может разыграть своё собственное приключение, отдаться представлению как воистину самодостаточной зрелищной теме. Спектакль — последовательность единичных, импровизированных, непредсказуемых событий — разыгрывается, по сути, уже в языке. Удивляться тому, что Хлебников избрал сцену площадкой, где язык и наука могут взаимодействовать не как лица или аллегории (неписаный закон символистской драмы,89 где “лицедеями” были абстракции и квинтэссенции идей символистской поэзии, на сцене подражавшей “мистериям” средневековья), а как участники мировой драмы, не приходится. Вполне естественно, что именно “языковая тема” породила у Хлебникова жанр сверхповести: будетлянскую драму, безоговорочной вершиной которой является «Зангези».
где “лицедеями” были абстракции и квинтэссенции идей символистской поэзии, на сцене подражавшей “мистериям” средневековья), а как участники мировой драмы, не приходится. Вполне естественно, что именно “языковая тема” породила у Хлебникова жанр сверхповести: будетлянскую драму, безоговорочной вершиной которой является «Зангези».
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1
1 См.:
Ю. Тынянов. О Хлебникове //
СП I: 19.
 2 СП
2 СП V: 184–185.
 3
3 См.: О простых именах языка //
СП V: 203 и далее.
 4 СП
4 СП V: 222.
 5 СП
5 СП V: 231.
 6 СП
6 СП V: 232–233. Это образование слов по аналогии он называет, довольно непоследовательно,
звукописью, тогда как
звукопись есть нечто иное: совершенно произвольная ассоциация (которая не оправдывает даже “синестезию”) между определенными звуками и определёнными цветами. См.: СП V: 269:
Звукопись
Этот род искусства — питательная среда, из которой можно вырастить дерево всемирного языка.| м — синий цвет | з — золотой |
| л — белый, слоновая кость | к — небесно-голубой |
| г — жёлтый | н — нежно-красный |
| б — красный, рдяный | п — чёрный с красный оттенком |
 7
7 Математические знаки способны порождать настоящий поэтический и графический лиризм — ср. письмо Р. Якобсона В. Хлебникову, цитируемое Н. Харджиевым в статье «Маяковский и живопись», ср. оп. цит., с. 385–386. Что же касается представления о мире, основанного на числах и уравнениях, то оно порождает бесконечный ряд метафор: “башни”, “города”, “леса” чисел, см.
SPM III: 472–473 и далее; там же, с. 495), “морское чудовище” (там же, с. 496); “каскад” чисел (там же, с. 497); мир как “изба”; “каркас” чисел и степеней (там же, с. 502–503); “цветущие поля” цифр, “арифметическое градостроительство” и т.д. (там же, стр. 507–510); мир как “дерево чисел” (там же, с. 515). Любопытно отметить, что “леттристская” гигантомахия
Плоскости VII «Зангези» трактуется слушателями Зангези (порицающими поэзию Хлебникова) как
сырьё, необработанный материал (
СП III: 329). Поэзия, как это часто бывает у Хлебникова, возникает неожиданно и как бы без подготовки, из звуко-смысловых ассоциаций, всегда основанных, однако, на скрытых “научных принципах” (в случае Зангези — на кинетическом значении звуков).
 8 СП
8 СП V: 267.
 9 СП
9 СП V: 185.
 10 СП
10 СП V: 187.
 11 СП
11 СП V: 191.
 12 СП
12 СП V: 194.
 13 НП
13 НП: 355.
 14
14 См. исследование Р. Якобсона «Подсознательные языковые структуры в поэзии», где подвергается сомнению проведённый Хлебниковым анализ этого знаменитого экспериментального стихотворения (Questions de poétique, op. cit., p. 281–284).
 15
15 Эта научная мысль, которую можно охарактеризовать как панарифмизм гностического типа, нашла отклик в 1930-х годах среди таких поэтов, как Багрицкий, Сельвинский, Заболоцкий. См.:
Fritz Mierau. Revolution und Lyrik.
Berlin. 1972. Р. 185–189.
 16
16 Поэзия проницаема для смысла: она подобна криптограмме, где буквы передают смысл. — Стихотворение представляет собой сеть лабиринтов, где абсолютно всё по необходимости имеет смысл:
‹...› Стихотворение полно смысла из одних гласных (СП V: 189).
Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны
и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл (СП V: 269).Если слово имеет двойственную природу, произведение наделено “двойным фоном”:
В «Детях Выдры» скрыта разнообразная работа над величинами —
игра количеств за сумраком качеств (СП II: 10).Ποίησις переплетается с
μάθησις, чтобы стать наукой расчета (эту мистику числа мы находим в работе конструктивиста К. Зелинского «Поэзия как смысл», цит. соч., с. 181–182). Т. Березарк в своих «Встречах с В. Хлебниковым» (Звезда, №12, 1965. С. 275) так излагает мысль поэта:
‹...› Хлебников говорил мне, что он стремится раскрыть подлинную сущность числа,
как и сущность слова, что мы недостаточно учитываем возможности математики, её место
и значение в жизни, в развитии науки ‹...›.
Хлебников мне говорил, что, по его мнению, поэзия и математика тесно связаны
между собой, что об этом когда-то, в прошлом, люди знали, и он теперь пытался
установить эту давнюю утерянную связь. Почти карикатурное преувеличение хлебниковского математизма мы находим в статье
Ф. Платов. Математика построений фракций // Пета, 1-й сборник.
М. 1916. С. 20:
„Математика построений фраз” по Ф. Платову:
1) Подлежащее — неопределённая функция пространства и времени субстанций.
2) Сказуемое — определённая функция пространства и времени движения.
‹...›
14) Сравнение мнимое тождество восприятия.
15) Метафора в подставлении тождества. А. Меншутин и А. Синявский в работе «Поэзия первыx лет революции» (
М. 1964. С. 295–307, пересказ) удачно формулируют „математический лиризм” Хлебникова:
То, что у Блока — тревожные, радостные предчувствия, у Маяковского — пророчества,
у Хлебникова — вычисления. Он предвидит революцию, уравнение вырастает в иносказание.  17 НП
17 НП: 319–320. Сомнительно, что этот текст был написан в 1904 году, как утверждает Гриц в своей заметке (
НП: 459). В этом случае пришлось бы признать, что статья не принадлежит перу поэта.
 18
18 О „гранесловии” см.:
А. Кручёных. Новые пути слова.
 19
19 Границы (вообще и в языке в частности) — следствие условностей и произвольных систем. Таким образом, на двух уровнях артикуляции языка невозможно “увидеть” границы, если мы не установили их заранее с помощью этой декретированной конструкции, каковой является теория языка как формальной системы. О сложной проблеме границ в языке см.:
Martinet. Le Mot.
Gallimard, coll. Diogène. 1966. Р. 39–53, et tout particulièrement. р. 48);
B. Malmberg. Les Domaines de la phonétique.
Paris: PUF. 1971. Р. 98–117; 124–125; 127–128);
L. Tesnière. Éléments de syntaxe structurale / éd. Klincksieck.
Paris. 1969. Chap. X, «Le mot». Р. 25–27).
 20
20 См. статью Хлебникова «Разложение слова» (
СП V: 198–202).
 21
21 См.:
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Указ. соч., с. 46–48.
 22
22 Не только манифесты “футуристской пропаганды” настаивают — причины этого очевидны — на дихотомии бытового и поэтического языков, но и сам Хлебников часто прибегает к этому различению, устанавливающему абсолютную автономию поэтического языка (
СП V: 229).
 23 СП
23 СП V: 188, 191–192, а также
НП: 325 и далее.
 24 СП
24 СП V: 172;
НП: 327–329.
 25
25 Это не просто метафора. Б. Лившиц неоднократно отмечал разжижение языка, которому в своих стихах предавался Хлебников. Помимо уже цитировавшегося места из «Полутораглазого стрельца», см. заметку «Дубина на голове русской критики»:
Великая заслуга Хлебникова — открытие жидкого состояния языка, и что более этого открытия связано с общей концепцией футуризма? В указанном состоянии слова не имеют ещё точного, законченного смысла, но, ещё недавно фосфены — музыка сетчатки! — теперь уже флюиды — её пластинка! — меняющие лёгкую свою форму в постоянном приближении к вещам “реального” мира и в постоянном от них удалении. Тайная иррациональная связь вещей для нас отныне не боль немоты, но радость первого наречения. На грани четвёртого измерения — измерения нашей современности — можно говорить только Хлебниковским языком.
(Футуристы — Первый журнал русских футуристов, № 1–2. М. 1914. С. 103)
Кручёных, в свою очередь, отмечает частотность образа воды, потопа и жидких фонем в произведениях Хлебникова:
Картины моря и вообще водной стихии очень часты у В. Хлебникова. Проследить его отношение к воде — это значит исследовать историю его творчества
(Неизданный Хлебников. Изд. группы друзей Хлебникова. С. 15),
и во времена «41°» выносит более суровое суждение:
‹...› У Хлебникова вода отомстила за себя; сперва слюни, влажностью, не находя себе исхода, не растворяясь в других вещах и звуках, стали убийцей поэта и мира!
Возможно, здесь кроется не только ключ к поэтическому искусству Хлебникова, но и к бессознательным законам, лежащим в его основе. Это явление мы уже отмечали в связи с «Искушением святого Антония» у Хлебникова: всё есть во всём, нет устойчивых границ, разделяющих данные состояния языка. Поэтический язык — это магма, хаос (см. «Песнь мирязя», «Искушение грешника»,
СП IV: 9–21). Ясные и отчётливые понятия растворяются во взаимопроникновении звуковых фигур, в тотальном клубке смысловых ассоциаций, которые сплетают бесконечную, неисчерпаемую сеть значений. Эта трансмутация языка является частью сказочной структуры: язык погружается в материю, является материей. Здесь мы оказываемся свидетелями прорастания языка, подобного воспетому П. Филоновым в «Пропевне о проросли мировой».
 26 СП
26 СП V: 21.
 27 НП
27 НП: 367.
 28
28 См. «Это парус рекача» (
СП III: 202–205); «Морской берег» (
СП III: 281 и далее); «Зангези»,
Плоскость XIII (
СП III: 340–342); «Неговольцы нечтава» (
СП IV: 308–311, проза).
 29
29 См.:
R. Jakobson. Questions de poétique, op. cit., post-scriptum, p. 486–488.
 30 Ibid
30 Ibid., р. 229.
 31
31 Выражение заимствовано из:
Benveniste. La nature des pronoms // Problèmes de linguistique générale.
Paris: Gallimard. 1972. Р. 251–257. По терминологии Р. Якобсона, это “переключатели”, которые “подключают” дискурс к данной ситуации (
R. Jakobson. Essais de linguistique générale.
Paris: éd. de Minuit. 1970. Р. 178–180). Поэтический дискурс Хлебникова, каким он представлен в рассматриваемых стихотворениях, представляет собой “отключённый” или бессвязный дискурс, проецирующий себя на иное место по отношению к моменту его высказывания. Обоснование анафорических выражений, приводящихк тому, что они замыкаются на самих себе (следовательно, разрушают анафоричность, но отнюдь не гасят смысл анафор), является следствием “расширения прав и возможностей” дискурса (автотелический дискурс футуризма).
 32
32 Действительно, существует частичная идентичность как в фонологической структуре, так и в семантической структуре “слов”. Дискурс Хлебникова, по сути, играет на коннотации.
 33 СП
33 СП V: 268.
 34
34 См.
СП V: 189 об этом соответствии (столь же произвольном, как и устанавлимое между звуками и красками в
звукописи) между звуками и движениями; там же, с. 199 и далее («Разложение слова») и с. 207 и далее («Перечень. Азбука ума»). Хлебников сетует на отсутствие знаков, которые символизировали бы движения величин времени (там же, с. 269–270):
Искусство счёта не обладает знаками для передачи движений величины времени и до построения, переработки таковых — до знакотворчества нельзя будет передать эти движения. Очень часто мы имеем дело с переносом в плоскость одного и того же действия, например, сложения двух видений одного и того же действия, но рассматриваемого с двух точек зрения.
 35
35 Хлебников настойчиво добивался визуализации пространственных движений (
СП V: 219):
Задачей труда художников было бы дать каждому виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить на другие. Можно было бы прибегнуть к способу красок и обозначить М тёмно-синим, В — зелёным, Б — красным, С — серым, Л — белым и т.д. Но можно было бы для этого мирового словаря, самого краткого из существующих, сохранить начертательные знаки. Конечно, жизнь внесёт свои поправки, но в жизни всегда так бывало, что вначале знак понятия был простым чертежом этого понятия. И уж из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни.
Эта визуализация, кстати говоря, уже существовала: “концептуальный рисунок”, начальная стадия графического знака концепции, является “идеограммой”, а “идеограмматическая живопись” лежит в основе некоторых восточных систем письма. В действительности изобразительная система, которую пытается создать Хлебников, более сложна, чем идеограмматическое письмо: мы рисуем идеи не больше, чем понятия или силы; это система произвольных символов, предназначенных для выражения идеи динамических отношений (динамического синтаксиса), лежащей в основе дискурса. Маловероятно, чтобы такая система понравилась художникам и когда-либо была реализована. За неимением лучшего Хлебникову пришлось довольствоваться приблизительными сведениями отрывочной орфографии, согласно которой почерк (автограф) отвечал за “передачу” поэтического импульса... («Буква как такая», в Манифесты..., указ. соч., стр. 60–61, а также «Садок судей II» (там же, стр. 52).
 36
36 Этот абстрактный динамизм с лёгкостью находит применение в отношениях, объединяющих “слова”; поэтому Хлебников вполне естественно в своей теории речевых движений опирается на рассмотрение предлогов (
НП: 330–331). Очевидно, “ошибка” Хлебникова заключается в неправомерной семасиологизации слогов (ко, до, со, по, во и т.д.), которые, по счастливому стечению, обстоятельств являются в русском языке “существительными” элементарных предлогов, обозначающих пространственно-временные отношения.
 37
37 Однако живопись, как уже было сказано (см. «Хлебников и язык»), определяла парадигму поэтической революции (Н
П: 334). Это требование времён
будетлянской активности (1912–1913) сошло на нет, по крайней мере у Хлебникова. После 1917 года живописную парадигму сменяет архитектурная. Весьма показателен в этом отношении Пролог «Зангези» (
СП III: 317). Что особенно интересовало Хлебникова в живописи, так это процессы концептуализации темпоральности произведения (см.:
Malevich. Unpublished writings 1913–1933, vol. IV. The Artist, Infinity, Suprematism.
Copenhagen: Borgens Forlag. 1978. Р. 224, note 5). Кстати, динамическое прочтение (или конструирование) картины не является открытием поэта, специалиста по “временнóму искусству”; это часть композиционного движения, порождающего форму (тему) так называемого “пространственного произведения” (
С. Эйзенштейн. Избранные статьи.
М. 1956. С. 263–265). Кроме того, можно было бы поспорить о разделении поэтического и живописного искусства по формальным критериям пространства и времени (временнóе искусство с одной стороны, пространственное — с другой). Картина своими уменьшенными (как правило) размерами создает иллюзию статической пространственной одновременности; стихотворение, поскольку оно читается строка за строкой, создаёт противоположную иллюзию — распределения во времени. Фактически, в произведении время и пространство трансцендентируются, и как раз таки не пространственные, вневременные смыслы постигаются интеллектуально. Картины и стихи — это факты пространства-времени, но также и события, трансверсальные пространству-времени: в каждой картине, в каждом стихотворении это темы, которые так или иначе проявляют себя.
 38
38 Для Б.Л. Уорфа, весьма озабоченного теософией и, в некотором смысле, “догностикой” (в том смысле, в котором говорят о Новом Гнозисе в США), эти силы, управляющие функционированием языка, образуют своего рода трансцендентное “супер-эго”, которое он называет индийским термином “Манас” (см.:
B.L. Whorf. Language, mind and reality // Language, Thought and Reality.
The M.I.T. Press. 1974. Р. 246–270).
 39
39 Гелиакальная метафора — неиссякаемый источник образности поэтического слова, и не только для Хлебникова. Что есть “солнце” собственно поэтического мира: звук или смысл? Поэзия постоянно ищет свой центр, колеблясь между “солнцем” и “землёй”, и этот поиск составляет её существенное качество. О “метафоре и солнце” см.:
J. Derrida. La Mythologie blanche // Marges de la Philosophie.
Paris, éd. de Minuit. 1975. Р. 289–290. Хлебников в известном смысле поправляет Соссюра: язык — это не только “форма”, но и “сила” в том смысле, который принят в физике (см.:
Renate Döring. Die Lyrik Pasternaks in den Jahren 1928–1934, op. cit., p. 32–33).
 40 СП
40 СП V: 178.
 41 СП
41 СП V: 222.
 42 СП
42 СП V: 229.
 43
43 Иначе говоря, язык есть вместилище безмолвной науки; будучи обнаружен взыскующим взором, он оказывается впереди её (
СП V: 232). Эта сознательная и автономная деятельность языка и есть то, посредством чего выстраиваются понятийные отношения, а понятия распределяются фонематически в соответствии с генетической близостью, подразделяющей их на семьи. То, что мы называем духом языка, для Хлебникова — всё это, надо сказать, и есть его теоретическая концепция функционирования языка — избирательно-ассоциативный принцип последнего: смежные понятия “спонтанно” гркппируются под рубрикой одной и той же фонемы... Очевидно, мы никогда не узнаем, главенствует у Хлебникова семантическая (значение) или фонетическая (звук) модель.
 44 СП
44 СП V: 231.
 45 НП
45 НП: 347.
 46 И. Березарк
46 И. Березарк. Встречи с В. Хлебниковым // Звезда, №12, 1965. С. 175.
 47
47 «! Будетлянский» (
СП V: 193).
 48 Бурлюк Д
48 Бурлюк Д. Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины (1909–1930).
Нью-Йорк: Издание Марии Никифоровны Бурлюк.
 49
49 Мы, за неимением формальных доказательств, не утверждаем, что Хлебников, тем более Бурлюк, изучали книгу Ө «Метафизики», где Аристотель анализирует понятия действия, энергии и энтелехии. Однако совпадение мысли (и заглавия, в случае эссе Бурлюка) нельзя считать случайным. Напомним, что в философском словаре Аристотеля неологизм
ἐντελέχεια используется для обозначения промежуточного состояния между поступком, действием и силой. «Этелехия» была бы “состоянием совершенства”, которое в принципе не смешивается с деятельностью (энергией), но Аристотель фактически употребляет оба термина безразлично, один вместо другого. В интересующем нас случае энтелехизм был бы для поэта способом постижения деятельности языка, направленной на собственное того усовершенствование. О терминах “действие”, “деятельность”, “энергия”, “энтелехия” см.:
Aristote. Métaphysique, Γ4, 1007b 29, note (p. 209–210.
Paris: Vrin. 1964. Т. I) и Métaphysique Ө (T. II. Р. 481–526).
 50 Бурлюк Д
50 Бурлюк Д. Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины (1909–1930).
Нью-Йорк: Издание Марии Никифоровны Бурлюк. Р. 9.
 51
51 Там же, р.10.
 52
52 Там же, р.11.
 53
53 Это выражение у Хлебникова находим довольно часто:
В нём Я в настоящем молится себе в будущем (
СП V: 224).
Или о стихах юной Милицы:
Итак, мы делаем вывод, что чувства этого сердца опережают его возраст. Они весть “я” в
будущем — “я” сегодня (
НП: 339).
 54 СП
54 СП V: 226.
 55 СП
55 СП V: 259.
 56
56 Именно в этом порыве прочь из своего времени и из своего места и состоит пафос футуризма. С высоты будущего происходит “страшный суд над здесь и сейчас”, оно теряется в этой ретроспективе и, таким образом, релятивизируется, теряя свой характер абсолютной ценности, абсолютного присутствия, которое претендует на то, чтобы стать Миром. Как сказал Пастернак, чувство настоящего — это будущее. (Охранная грамота. Указ. соч., стр. 233).
 57
57 Представление будущего у Хлебникова всегда связано с жидким элементом, см.:
СП V: 275, а также эти замечания о букве Ч и чаше, наполненной водами будущего:
Со временем, когда Мы станет богом, речные русла всех мыслей будут течь с высот единой мысли.
Но мы не боги, а потому будем течь как реки в море общего будущего. Оттуда, где расположен опыт каждого течь — то Волгой, то Тереком, то Яиком — в общее море единого будущего.
(СП V: 275)
Ремни, вырезанные из тени рока, и опутанный ими дух остаются до становления будущего настоящим, когда воды будущего, где купался разум, высохли и осталось дно.
(СП II: 9)
‹...› чаять, то есть быть чашей для вод будущего.
(СП V: 236)
 58 СП
58 СП II: 8–9.
 59 СП
59 СП II: 8–9, о “зауми”.
 60 СП
60 СП V: 270.
 61 Брюсов В
61 Брюсов В. Собрание сочинений в 7-и томах, op. соч., т. VI. 1975. С. 43.
 62 СП
62 СП V: 210–211.
 63
63 В этом слове нет ничего уничижительного, даже наоборот; Каббала — одна из самых престижных школ литературной интерпретации и толкования. Тем не менее, если Хлебников иногда впадает в гематрию, то исследовательские схемы, которые он применяет к литературным произведениям, относятся обычно к чисто математическому методу ориентации, т.е. к методу, рассматривающему самые абстрактные структуры, наиболее “формальные” аспекты произведения: алфавитный (отсюда подлинный леттризм в истолковании), звуковой, ритмический, арифмический (числовые ограничения составляют топос в хлебниковском объяснении текста!). С другой стороны, то, что мы бы назвали семантической областью, в стихотворении, напротив, кажется намеренно принесённым в жертву (однако, как мы увидим позже, из этого есть важные исключения). Хлебникову важна количественная встречаемость тех или иных звуков и их распределение в стихотворении. Что это: следы законного недоверия “футуриста” к избытку психологизма в литературной критике или непреодолимая зависимость от новаторства произведения, приводящая к трюкачеству? Впрочем, это не имеет большого значения, поскольку выявление небывалых структур в творчестве его предшественников и современников проливает новый свет на устройство поэтической системы самого Хлебникова.
 64
64 Вот почему “объяснение текста”, предпринятое М. Риффатером в отношении стихотворения Виктора Гюго (Poétique, 1970, n° 4, p. 401–418), не кажется нам убедительным: применяя приём “шаг за шагом”, Риффатер ставит возникновение стихотворения в зависимость от его начального слова. Однако ещё Э.А. По (Philosophy of composition // Poems and essays, op. cit., p. 170–171) утверждал, что стихотворение не “начинается” с первых вступительных слов: “дебют” может находиться в середине или в конце текста, иногда вообще нигде, сам ритм иной раз порождает, “начинает” стихотворение (
В. Маяковский. Как делать стихи?). Более того, и это гораздо важнее, “ядерная форма” произведения — не устойчивая структура заранее установленных различий, а подвижная, динамичная структура процессов саморазличения, которые превращают “форму” стихотворения в совокупность действий и обратных связей, способных постоянно изменять “исходный” текстовый проект. Поэтому правильнее было бы проанализировать динамическую систему взаимодействий, составляющую “ритм” (постоянно меняющую самую себя форму) произведения, но мы признаем, что это неимоверно сложная задача.
 65
65 Неологизм Аристотеля позволяет обозначить сложное понятие, менее временнóе, чем “аспектное”: онтологическая “категория” произведения — это наличие будущего, “будущего-настоящего”, что делает произведение бесконечно стремящимся к своему совершенству (которое, будучи достигнуто, оказалось его смысловой полнотой).
 66 СП
66 СП II:10.
 67 Бурлюк Д
67 Бурлюк Д. Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины (1909–1930).
Нью-Йорк: Издание Марии Никифоровны Бурлюк. С. 9.
 68 Чуковский К
68 Чуковский К. Футуристы, ор. цит., с. 77.
 69
69 «Песни 13 вЁсен» написаны для «Садка Судей II» (февраль 1913 г.). В письме, датированном концом 1912 года, Хлебников убеждал М.В. Матюшина включить несколько стихотворений Милицы в готовившийся им номер (СП V: 294–295). Действительно, на стр. 106–107 находим под заголовком «Детское творчество — Песни 13 вёсен» два стихотворения «Хочу умереть» и «В цветы полевые одета» за подписью
Малороссиянка Милица. Приблизительно в это же время Кручёных издал книгу «Поросята» с рассказами одиннадцатилетней девочки Зины В., а затем, в 1914 году, «Собственные рассказы и рисунки детей». Хотя принадлежность Зине В. трёх рассказов, открывающих сборник «Поросята», несомненно, является обманом со стороны Кручёных, в этом предприятии обнаруживается “детский примитивизм”, которым отмечено так много произведений футуристов времён “бури и натиска” 1913–1914 гг.
 70 НП
70 НП: 338–339.
 71 НП
71 НП: 335.
 72 НП
72 НП: 343.
 73 СП
73 СП V: 179–182.
 74 СП
74 СП V: 193–195.
 75 НП
75 НП: 339.
 76
76 Садок судей II. С. 106–107.
 77 НП
77 НП: 340.
 78 НП
78 НП: 335.
 79 НП
79 НП: 339.
 80 А. Меньшутин, А. Синявский
80 А. Меньшутин, А. Синявский. Поэзия первых лет революции. 1917–1922.
М.: Наука. 1964. С. 360. Авторы несколько корректируют своё утверждение, отмечая: „Но Брюсов перенимал у Хлебникова форму
перевертня”, с. 363. Вероятно, имеется в виду первый экспериментальный палиндром, опубликованный Хлебниковым в «Садке судей II»: «Кони, топот, инок...» (
СП II: 43); крупноформатная поэма-палиндром «Разин» написана значительно позже выхода в свет «Опытов», которые авторы имеют в виду, говоря о техническом превосходстве Биюсова.
 81 Брюсов В
81 Брюсов В. Собрание сочинений в 7-и томах, op. соч., т. II. 1975. С. 459.
 82
82 Там же, с. 460.
 83
83 Там же.
 84 НП
84 НП: 339.
 85 НП
85 НП: 338.
 86
86 Там же.
 87
87 См.:
Н.И. Кульбин. Студия импрессионистов. С. 3–4.
 88
88 См.:
Чуковский К. Футуристы, указ. цит., с. 28–29.
 89
89 Особенно в театре Блока («Балаганчик», «Король на площади»), но надо учитывать пародийность и антисимволистский юмор в произведениях этого великого поэта, которого трудно причислить к “классикам” символизма!
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 139–161; 326–334.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию
Продолжение 




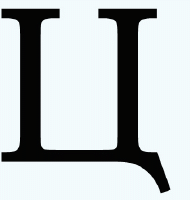 ель этой главы не в анализе компонентов системы: этому были посвящены главы о языке и времени как основным её осям. Речь пойдёт о взаимодействии поэтической теории и практики, т.е. о состоянии системы в том виде, в каком она функционирует, ибо сама она и есть соединение теории и практики. Тынянов был, разумеется, прав, отвергая произвольные сопоставления Хлебникова с не весьма отчётливыми явлениями или с отдельно взятыми поэтическими личностями: «Хлебников и футуризм», «Хлебников и заумь», «Хлебников и Маяковский» и т.д.1
ель этой главы не в анализе компонентов системы: этому были посвящены главы о языке и времени как основным её осям. Речь пойдёт о взаимодействии поэтической теории и практики, т.е. о состоянии системы в том виде, в каком она функционирует, ибо сама она и есть соединение теории и практики. Тынянов был, разумеется, прав, отвергая произвольные сопоставления Хлебникова с не весьма отчётливыми явлениями или с отдельно взятыми поэтическими личностями: «Хлебников и футуризм», «Хлебников и заумь», «Хлебников и Маяковский» и т.д.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()