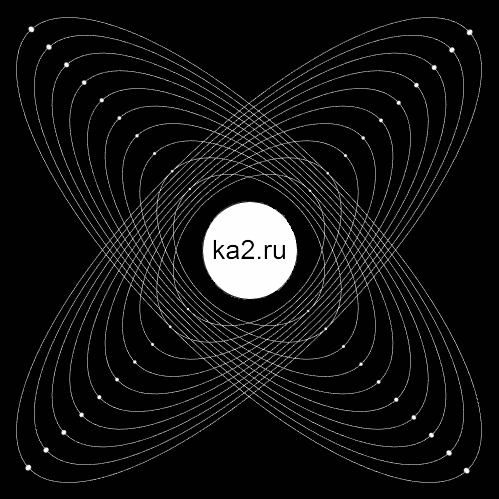Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Продолжение. Предыдущая глава: 
Форма системы
а) «Зангези»


ангези» — свод научных разработок и поэтических озарений Хлебникова. Несомненный шедевр излёта его жизни, этот литературный памятник оказался ретроспективой всего творчества поэта. Некоторые критики, ушибленные, если можно так сказать, “содержанием”, забывают, что «Зангези» — пьеса, отчасти пьеса без действия, но свершившийся сценический факт. Говоря о неудаче постановки Татлина в Музее художественной культуры (май 1923), С. Юткевич приводит наблюдение Н. Пунина, который отметил особый характер произведения Хлебникова:
Задача тем более трудная, что «Зангези» не пьеса, а поэма, и что её нужно было инсценировать, т.е. изобрести, или, точнее, найти в ней действие.
1 Н. Пунин. Жизнь Искусства. №20
Н. Пунин. Жизнь Искусства. №20
А. Редько в работе «Театр и эволюция театральной формы» трактует «Зангези» как попытку завлечь зрителя в дебри “зауми” (sic!). Для Редько «Зангези» — произведение, написанное на
заумном языке, и только!
2
Самое любопытное — но и самое противоречивое свидетельство — статья состоявшего в особых отношениях с “футуризмом” К. Малевича, найденная в его личном архиве и опубликованная в английском переводе под заголовком «О Зангези»:
3
Велемир Хлебников был одной из комет, вовлечённой землёю в свою систему событий ума, чисел, языка.
И мне показалось, что Хлебников не был пленён и выведен из своего свободного строя, лежащего в заумности, а наоборот, бежал к земле, как её неотъемлемая по роду частица ума.
Пытался или принёс «Доски судеб», чертежи будущих на ней событий, и тогда случай, рок и судьба будут ясны, как для астронома затмение луны.
Его поэзия тоже принадлежит уму.
Каждая построенная им буква есть нота песни обновлённого практического мира.
Тот же ум, перемещающийся в новые формы.
В книге «Зангези», в
плоскости первой, подражание языку птиц.
В
плоскости второй боги и богини заговорили непонятными словами между собою.
Общежитие стало в тупик, что Юнона заговорила: пирара пируруру, буаро, вичиоло. Эрот: эмч, амч, умч.
Если бы подслушал этот разговор Сократ, то сказал бы народу: „Боги сошли с ума, перешли в заумь”.
Общежитие посчитало, что Хлебников перешёл в заумь и стал альфой заумного созвездия, альфой футуризма.
Но, наскольку я знаю, созвездие футуризма, созвездие беспредметности и зауми, альфа Зангези не принадлежит им.
Скорее принадлежит созвездию земли.
Зангези умён.
Зангези из корня чисел, слов земного счёта. Календарь событий вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня.
Первый листок сорван им.
И на этом альфа Зангези кончает своё дело и тухнет потому, что в открытой им «Доске судьбы» не сумел предотвратить начертанный чертёж, оставив дело это Бете.
4
Отвлечёмся от этой суровой и порой воистину супрематистской (высокомерной) критики на, во-первых, прелюбопытное отождествление
Зангези (главного героя) и Хлебникова (автор ни в пьесе, ни где-либо ещё словом не обмолвился об этом), во-вторых — на формальное различие между “футуризмом” и “заумью”. Умея различать регистры языка, согласиться с навязыванием Редько и Малевичем (по диаметрально противоположным причинам) пьесе
заумного языка нельзя. Ещё более неверно усматривать в ней лингвистический парад. «Зангези» — безусловно, драма, но драма особенная, с действием без актёра. Это сценическая поэма, где безразлично, кем озвучивается текст. То, что происходит на сцене, есть драма языка и совокупности событий во времени. Драма эта в высшей степени театральна не только в отношении мизансцен, но и откровенным “разоблачением” приёмов сборки разнородных частей воедино, что делает её шедевром театрального конструктивизма.
5
Именно в единстве теории и практики коренится “смысловая тема” «Зангези». Сцена выступает как адекватная форма (и формула) этого синтеза; уже просто в силу своей подвижности налицо идеальная форма хлебниковской поэтической системы: никакого действия, в обычном понимании, нет; приключения языка — вот что предлагается “созерцающему уму”. Рассмотрим языковые планы, названные Хлебниковым
плоскостями пьесы. Н. Степанов полагает, что таковых семь:
1.
Звукопись —
птичий язык.
2.
Язык богов.
3.
Звёздный язык.
4.
Заумный язык —
плоскость мысли.
5.
Разложение слова.
6.
Звукопись.
7.
Безумный язык.
6
Впрочем, опять-таки по мнению Н. Степанова, это лишь небольшая часть языковых пластов, задействованных (и поименованных) поэтом:
| 1. Число-слово | 11. Целн‹...› созвучия |
| 2. Заумный язык | 12. Вывихи слова |
| 3. Звукопись | 13. Перевертни |
| 4. Словотворчество | 14. Народные слова |
| 5. Разложение слова | 15. Общеславянские слова |
| 6. Иностранные слова | 16. Звёздный язык |
| 7. Даль | 17. Вращение слова |
| 8. Жестокие слова | 18. Бурный язык |
| 9. Нежные-сладкие | 19. Безумные слова |
| 10. Косое созвучие | 20. Тайный язык7 |
Распределение регистров в «Зангези» не укладывается в этот скрупулёзный перечень, но и здесь проявляется конструктивизм произведения, происходит перестановка и включение в драматическую структуру, глубоко видоизменяющую смысл отрывков, написанных в разное время и обладающих поэтической ценностью, неподвластной никакому сравнению и усреднению, что едва ли не полностью исключает подозрение какого-либо единства стиля. «Зангези» — полная противоположность цельному произведению: это полиптих. Вот почему следует осмыслить именно эту “систему в системе”.
а) Плоскость I — концерт птиц, который Малевич в цитированной выше статье называет „подражанием языку птиц”.8 Однако суть дела заключается не в подражании, а в самом жанре птичьего языка. В 1913 году Хлебников опубликовал в «Рыкающем Парнасе» прозаический отрывок «Мудрость в силке», предвосхитивший Плоскость I «Зангези» (калькирования не наблюдается, но приёмы воспроизведения птичьего языка здесь и там одинаковые):
Однако суть дела заключается не в подражании, а в самом жанре птичьего языка. В 1913 году Хлебников опубликовал в «Рыкающем Парнасе» прозаический отрывок «Мудрость в силке», предвосхитивший Плоскость I «Зангези» (калькирования не наблюдается, но приёмы воспроизведения птичьего языка здесь и там одинаковые):
Славка. Беботеу-вевять!
Вьюрок. Тьерти-едигреди!
Овсянка. Кри-ти-ти-ти, тип!
Дубровник. Вьор-вэр-виру, сьек, сьек, сьек!
Дятел. Тпрань, тпрань, тпрань, а-ань!
Пеночка зелёная. Прынь, пцирэб, пцирэб! Пцирэб сэ, сэ, сэ!
Лесное божество (с распущенными волнистыми волосами, с голубыми глазами, прижимает ребёнка).
Но знаю я, пока живу,
Что есть уа, что есть ау.
(Покрывает поцелуями голову ребёнка).
Славка. Беботэу-вевять! 9
Именно этот языковый план Хлебников назвал в своих заметках
Звукопись — птичий язык, что создаёт досадную путаницу с другим планом, тоже
звукописью, не имеющей ничего общего ни по замыслу, ни по исполнению с
птичьим языком.
10 Плоскость I
Плоскость I «Зангези» — образчик экспериментальной поэзии, попытка отследить поэтические возможности очень ограниченного “словаря” того, что психологи называют языком животных, который в действительности представляет собой “перевод” на человеческий язык звуков, чья природа находится вне фонологической системы (следовательно, вне какого-либо человеческого языка). Таким образом,
Плоскость I «Зангези» есть в самом строгом смысле этого слова образец звукоподражательной поэзии. Речь, разумеется, не об “академическом подражании”, поскольку Хлебников не оглядывается на предшественников. Да и вряд ли птицелов, вышедший на сцену после звукоподражательного концерта,
11
опознает хотя бы одну из хлебниковских певуний. Эти птицы, по сути, плоды воображения, а их существование — часть сугубо сценического действа: Хлебников показывает саму возможность стилистического переноса русского языка в крики птиц. Тембры, артикуляционные механизмы, реализуемые определёнными звуковыми последовательностями,
Пить пэт твичан! | цы-цы-цы-сссыы | Пиу! пиу! пьяк, пьяк, пьяк!
и ритмы тщательно обозначены
Вьер-вьёр ви́ру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр ви́ру век-сек-сек! ‹...›
Прынь! пцирéб-пцирéб! Пци́реб! цэсэсэ.12
и совместно работают на усиление фонетической выразительности языка. Таким образом,
Плоскость I «Зангези» представляет собой стилистическое упражнение, первый шаг (вне всякой семантической лексики) к парономастической неологии.
13
б) Плоскость II (по факту XI-я из-за особенностей драматического построения) вводит ещё один лингвистический регистр: язык богов. На первый взгляд, он совпадает с птичьим. Августейшее собрание, гнездуясь (здесь гнездуют боги) на картонных утёсах, упражняется в звукоизвлечении, подобно крылатым леди и джентльменам предыдущей Плоскости. Однако, несмотря на внешнее сходство звуковых последовательностей, между двумя картинами есть заметное различие: во-первых, боги — мифологические персонажи, олицетворяющие тайные силы языка. Победные крики публики в ответ на вдохновенную “песнь” Зангези, где эти тайны раскрываются, наводят на богов страх и заставляют бежать (Боги улетели, испуганные мощью наших голосов14 ). Бегство богов можно понять как их признание в крайне малой “лингвистической осведомлённости” и беспомощность перед всепобеждающим учением Зангези. Проповеданные им открытия возвещает об необратимых сумерках богов. Во-вторых — и это раскрывает главное различие между регистрами второй и первой Плоскостей, — язык богов свободен от имитационной предзаданности орнитологического звукоподражания; да и можно ли воспроизвести доселе неслыханный язык? Сократ, по уверению Малевича, решил бы, что „боги сошли с ума, перешли в заумь”, услыхав диалог Эрота и Юноны (так!):
). Бегство богов можно понять как их признание в крайне малой “лингвистической осведомлённости” и беспомощность перед всепобеждающим учением Зангези. Проповеданные им открытия возвещает об необратимых сумерках богов. Во-вторых — и это раскрывает главное различие между регистрами второй и первой Плоскостей, — язык богов свободен от имитационной предзаданности орнитологического звукоподражания; да и можно ли воспроизвести доселе неслыханный язык? Сократ, по уверению Малевича, решил бы, что „боги сошли с ума, перешли в заумь”, услыхав диалог Эрота и Юноны (так!):
| Эрот: | Эмчь, Амчь, Умчь! |
| | Думчи, дамчи, домчи. |
| | Макарако киочерк! |
| | Цицыилици цицици! |
| | Кукарики кикику. |
| | Ричи чичи ци-ци-ци. |
| | Ольга, Эльга, Альга! |
| | Пиц, пачь, почь! Эхамчи! |
| Юнона: | Пирарара — пируруру! |
| | Лео лоло буароо! |
| | Вичеоло сесесе! |
| | Вичи! Вичи! иби би! |
| | Зизазиза изазо! |
| | Эпсь, Апс, Эпс! |
| | Мури-гури рикоко! |
| | Мио, мао, мум! |
| | Эп!15 |
Думается, Сократ — по крайней мере, тот Сократ, которого Платон представляет нам в «Кратиле» — всё-таки признал бы язык
Плоскости II «Зангези» свойственным богам, „тем, на котором они правильно дают те имена, которые являются естественными”.
16 Язык богов
Язык богов выходит за пределы всех мыслимых рамок, поскольку составляющая его последовательность звуков (выбранных, однако, из числа возможных для членораздельной речи) ровно ничего не передаёт, ибо лишена подражательной (миметической) подоплёки. Божественный, почти невозможный язык представляет собой попытку достичь предела с целью лучшего понимания скрытых пружин того, что критики-“формалисты” называют “поэтичностью”. Отрицая осмысленность, он, в силу этого, оказывается неподвластным ограничениям бытового общения (да и сведениями какого порядка не лень обмениваться всеведущим богам?); чтобы полнее раскрыть непередаваемость поэтического языка, очищенного вдруг от семантического и подвластного лишь тематическому,
17
остаётся лишь фоноритмика (если не чистый ритм) в свободной фонематической секвенции. Тарабарщина вселенского пантеона — чудесный эстетический язык: эта поэзия прозрения подкупает тягой к словам, не подлежащим выговариванию. Не желая ничего значить, слова
богов стремится к той бесконечной законченности, из которой Кант выводил тайну красоты в искусстве: выразительность ради выразительности. Якобсон называет эту „автономную экспрессию” эстетической фикцией поэтического языка; в действительности же язык достигает здесь такого состояния изящества, что, не подчиняясь ничему иному, кроме своих собственных ритмических законов, предстаёт вольным потоком, направляемым прихотями мгновения.
Боги вне рамок человеческой “меры”, “метра”. Но, вспоминая Сократа, причина их тайного и “правильного” языка таится в глубине всякого языка: в музыкальном ритме. Это непреложный закон.
Язык богов — последняя ступень лестницы к истине языка, к подлинной “зауми”.
18
После интерлюдии, образованной колодой пёстрых словесных плоскостей — образчиков простонародной лексики (невыразительные реплики, стёртые штампы, общие места) Плоскости III,19 чтения вслух рукописи, которая есть не что иное, как черновик «Досок судьбы» (Плоскость IV),20
чтения вслух рукописи, которая есть не что иное, как черновик «Досок судьбы» (Плоскость IV),20 ) и Плоскостей VI, VII, начало Плоскости VIII отмечено образцами языка, называемыми равноправно самовитыми песнями | заумной речью | словами Азбуки (выделены курсивом):
) и Плоскостей VI, VII, начало Плоскости VIII отмечено образцами языка, называемыми равноправно самовитыми песнями | заумной речью | словами Азбуки (выделены курсивом):
Спой нам самовитые песни! ‹...›
Прочти на заумной речи. Расскажи про наше страшное время словами Азбуки!21
Терминология сумбурна, но это вина не
Зангези, а толпы его приверженцев, которые требуют публичного исполнения им самим заумных произведений (хор
верующих).
22
Однако
звёздный язык, который заявлен в грамматомахии
Плоскости VII и становится в
Плоскости VIII вселенским (готовый алгоритмический язык для общения с внеземными цивилизациями!), тонко отличается от
заумного языка: последний, нарочито располагаемый Хлебниковым в
Плоскости именно мысли, разума (
νοῦς ), устанавливает абстрактную ноологическую кинетику (
Заумный язык — “плоскость мысли”), это своего рода годограф движений
разума, которые в материалистической “монистской” системе Хлебникова сродни перемещениям в космическом пространстве, тогда как
звёздный язык суть применение этого абстрактного кода (каким он сформулирован в конце
Плоскости VIII) для нужд общения. Этим объясняется смешанный характер
Песен звёздного языка (включающих примеры
заумного языка наряду с их переводом на
бытовой язык):
Где рой зелёных Ха для двух
И Эль одежд во время бега,
Го облаков над играми людей,
Вэ толп кругом незримого огня
И Ла труда, и Пэ игры и пенья,
Че юноши — рубашка голубая,
Зо голубой рубашки — зарево и сверк.
Вэ кудрей мимо лиц,
Вэ веток вдоль ствола сосен,
Вэ звёзд ночного мира над осью,
Че девушек — червонные рубахи,
Го девушек — венки лесных цветов
И Со лучей веселья,
Вэ люда по кольцу,
Эс радостей весенних,
Mo моря, скорби и печали.
И Пи весёлых голосов,
И Пэ раскатов смеха,
Вэ веток от дыханья ветра.
Недолги Ка покоя.
Девы! Парни! больше Пэ! Больше Пи!
Всем будет Ка — могила!
Эс смеха, Да верёвкою волос,
А рощи — Ха весенних дел,
Дубровы — Ха богов желанья,
А брови — Ха весенних взоров
И косы — Ха полночных лиц.
И Мо волос на кудри длинные,
И Ла труда во время бега,
И Вэ веселья, Пэ речей,
Па рукавов сорочки белой,
Вэ чёрных змей косы,
Зи глаз.
Ро золотое кудрей у парней.
Пи смеха! Пи подков и бега искры!
Мо грусти и тоски,
Мо прежнего унынья.
Го камня в высоте,
Вэ волн речных, Вэ ветра и деревьев,
Созвездье — Го ночного мира,
Ta тени вечеровой — дева,
И За-за радостей — глаза.
Вэ пламени незримого — толпа.
И пенья Пэ,
И пенья Ро сквозь тишину,
И криков Пи. 23
Очередная интерлюдия
Благовест в ум, набат в разум — воистину пир словотворчества. Хлебникову удалось выстроить внушительных размеров звукоподражательную литанию (с тембром, имитирующим приглушенный звук гонга) на тематическом слове
ум с разнообразными приставками, многие из которых совпадают с русскими предлогами (Со-ум, Про-ум, При-ум, За-ум, Вы-ум, Во-ум, До-ум, Ко-ум и др.), но есть и взявшие на себя воспроизведение основных звуков
звёздной азбуки.
Ум — мистический слог пророка
Зангези, в имени которого, по мнению Хлебникова, слышен священный Ганг.
24 Плоскость X
Плоскость X, обширная пантограмма,
25
основанная на звуке M, обеспечивает переход к окончательной грамматомахии
Плоскости VII, и в то же время представляет собой поэтическое обогащение использованного ранее приёма, поскольку пантограмма удваивается как метаплазма путём удаления/добавления фонем (перестановка П, М и Б:
могатырь |
богатырь,
можар |
пожар и т.д.):
Иди, могатырь!
Шагай, могатырь! Можарь, можар!26
Плоскости XIII и
XIV (а также начало
Плоскости XIX от
Иверни выверни до
добрый конь27
) не соответствуют тому, что Хлебников в черновой заметке называет
Разложение слова. Теория
разложения слова доходчиво изложена в статье, опубликованной Кручёных в 1930 году в выпуске №15 «Неизданного Хлебникова».
28
Анализ слова — это пропедевтическое упражнение в “зауми”, кинетике законов разума, раскрывающихся в законах функционирования языка. Однако длинное стихотворение
Плоскостей XIII и
XIV (прерываемое криками
учеников, которые ничего не могут уразуметь), составлено не по принципам
заумного языка.
Безумью барщина
И тарабарщина,
На каком языке, господин Зангези?29
— раздаётся
в толпе. Надо полагать, это вопрос по поводу нового учения
Зангези, изложенного в духе отрицания догм господствующей лингвистической доктрины. И вдруг тон
Зангези становится лирическим: стихотворение, начатое при безмолвии толпы (
Тише),
30
заканчивается шёпотным признанием:
‹...›
Я один, скрестив руки,
Гробизны певцом.
Я небыть.
Я таковичь.31
Впрочем, толпу лирикой не проймёшь:
Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь комаринскую! Мыслитель, скажи что-нибудь весёленькое. Толпа хочет весёлого. Что поделаешь, — время послеобеденное.32
Стихотворение Плоскостей XIII и XIV перекликается с двумя другими произведениями Хлебникова, уже нами упомянутыми: «Это парус рекача» и «Морской берег». При создании всех трёх произведений, принадлежащих к уже известному нам типу грамматической поэзии, использованы общие приёмы. Такого рода сочинения — из тех, что укладываются в хлебниковское определение словотворчества. Но если в первых двух Плоскостях «Зангези» неология была целиком свободна от каких-либо семантических и синтаксических ограничений (следовательно, от любой смысловой нагрузки), то здесь она относительна, ибо разрыв с бытовым языком не настолько велик, чтобы читатель не мог распознавать глаголы, существительные, местоимения — короче говоря, некую обобщённую синтаксическую структуру, которая работает на определённый смысл. Этот пласт поэтического языка выказывает автономию правил синтаксиса: поэзия возникает в рамках обычных синтаксических схем из семантически неуловимых единиц речи (тихославль, улетавль, собеса, этоты, нетоты и т.д.). Происходит это ещё и потому, что такого рода “отдельности” речи созданы поэтом с соблюдением законов композиции языка (морфемы или прообразы слов типа этота, иногдава, летог и т.д. не изобретены, это своего рода заимствования из обыденного русского языка), а синтаксис может оказаться тем, чем он является на самом деле: чистой формой, которая вполне может довольствоваться приблизительным значением элементов, которые образуют речь.
“Фонографические стихи” (песни звукописи) Плоскости XV как будто разряжают атмосферу торжественности длинной лирической тирады Зангези. Они вносят нотку игривости, даже легкомыслия в череду языковых регистров, последовательно сменяющих друг друга с начала пьесы. Песни звукописи возвращают читателя к началу будетлянской стези Хлебникова, когда тот обнародовал в сборнике «Пощёчина общественному вкусу» (1912) стихотворение, которому суждено было стать, наряду с «Заклятием смехом», “классикой”: «Бобэоби пелись губы...».33 Звукопись выпукло показывает престиж изобразительной парадигмы времён воинствующего “футуризма”.34
Звукопись выпукло показывает престиж изобразительной парадигмы времён воинствующего “футуризма”.34 Прорывным это лингвистическое упражнение (хотя оно ценно как “историческое свидетельство”) не назовёшь. Эмблематика звуков, благодаря которой различные предметы могут быть обозначены посредством довольно условной символики, слишком хорошо известна со времён знаменитого сонета гласных Рембо (который в этой вещи придерживался общемировой парадигмы поэзии, заметим), чтобы останавливаться на ней даже мимоходом. Однако у Хлебникова картину на холсте образует не столько приписываемые гласным качества (пространственных соответствий им нет), сколько особая ценность структуры согласных, и в этом смысле “фонография” оказывается черновым наброском того, что вскоре, с открытием кинетической функции согласных в языке, превратится в разложение слова. Поэтому не столь велико расстояние, отделяющее “фонографию” Плоскости XV от “кинезиграфии” звёздного языка, какой она была изложена в Плоскости VIII.
Прорывным это лингвистическое упражнение (хотя оно ценно как “историческое свидетельство”) не назовёшь. Эмблематика звуков, благодаря которой различные предметы могут быть обозначены посредством довольно условной символики, слишком хорошо известна со времён знаменитого сонета гласных Рембо (который в этой вещи придерживался общемировой парадигмы поэзии, заметим), чтобы останавливаться на ней даже мимоходом. Однако у Хлебникова картину на холсте образует не столько приписываемые гласным качества (пространственных соответствий им нет), сколько особая ценность структуры согласных, и в этом смысле “фонография” оказывается черновым наброском того, что вскоре, с открытием кинетической функции согласных в языке, превратится в разложение слова. Поэтому не столь велико расстояние, отделяющее “фонографию” Плоскости XV от “кинезиграфии” звёздного языка, какой она была изложена в Плоскости VIII.
Эпилептический припадок Зангези в Плоскости XVI даёт Хлебникову повод прибегнуть к безумному языку, в котором нетрудно распознать последовательность обрывков обыденной речи. Смесь выражений из различных её областей (военные приказы, бандитские угрозы, выразительные ругательства и т.п.) создаёт эффект безумия из-за крайней, не связанных никакой внутренней логикой, неоднородности этих “ошмётков” речи. Мы узнаём в них уличный жаргон, которым обильно сдобрены хлебниковские стихи “советского” периода.35 Плоскость XVII едва ли не напрямую воспроизводит фразеологию «Ночного обыска». Включение в ткань драмы столь, казалось бы, несвоевременного куска показывает, какое значение придавал Хлебников языковой форме полифонического стихотворения.36
Плоскость XVII едва ли не напрямую воспроизводит фразеологию «Ночного обыска». Включение в ткань драмы столь, казалось бы, несвоевременного куска показывает, какое значение придавал Хлебников языковой форме полифонического стихотворения.36 В Плоскости XVIII, как и в двух предыдущих, налицо прямая связь с поэтическими наработками Хлебникова 1920–1921 гг.37
В Плоскости XVIII, как и в двух предыдущих, налицо прямая связь с поэтическими наработками Хлебникова 1920–1921 гг.37 Однако по качеству языка они явно им уступают. Фактура здесь не отличается новизной, формальные нововведения крайне редки. Перед нами разновидность “повествовательных” стихотворений, призванных поэтически — и притом со всей внятностью — осветить математические открытия Хлебникова в истории. Поясняется теория “возмездия”, т.е. периодического чередования событие/противособытие исторических сюжетов. Плоскость XVIII — пример поэзии, явным образом порождённой цифровыми расчётами, математической теорией времени.38
Однако по качеству языка они явно им уступают. Фактура здесь не отличается новизной, формальные нововведения крайне редки. Перед нами разновидность “повествовательных” стихотворений, призванных поэтически — и притом со всей внятностью — осветить математические открытия Хлебникова в истории. Поясняется теория “возмездия”, т.е. периодического чередования событие/противособытие исторических сюжетов. Плоскость XVIII — пример поэзии, явным образом порождённой цифровыми расчётами, математической теорией времени.38
Вторая часть Плоскости XIX (от Я, волосатыми реками до финала)39 обладает масштабом и возвышенностью лирико-эпических стихов времён революционного подъёма, когда хаос гражданской войны, казалось, вот-вот разродится новым, ранее казавшимся утопическим, устройством государства. Технически это стихотворение представляет собой монтаж отрывков, написанных в 1920–1921 гг.: изначально самостоятельные стихотворения сливаются воедино, что меняет их первоначальный смысл. Итак, зачин40
обладает масштабом и возвышенностью лирико-эпических стихов времён революционного подъёма, когда хаос гражданской войны, казалось, вот-вот разродится новым, ранее казавшимся утопическим, устройством государства. Технически это стихотворение представляет собой монтаж отрывков, написанных в 1920–1921 гг.: изначально самостоятельные стихотворения сливаются воедино, что меняет их первоначальный смысл. Итак, зачин40
Я, волосатый реками!
Смотрите, Дунай течёт
У меня по плечам!
И, вихорь своевольный,
Порогами синеет Днепр.
Это Волга блеснула синими водами,
А этот волос длинный,
Беру его пальцами,
Амур, где японка
Молится небу
Во время бури.
представляет собой реплику цикла стихотворений, составляющих «Азы из узы».
41
Средняя часть оказывается вариацией «Часов человечества» (
Если я обращу человечество в часы),
42
сочетающей в себе эпический тон «Ладомира», неологизмы «Это парус рекача» (подкреплённые в данном контексте легко расшифровываемыми метафорами
Отшельники себя /
Морских особняков жильцы /
Простому ветру;
43 Я ведь умею шагать
Я ведь умею шагать /
Взад и вперёд /
По столетьям /
Онучи туги,
44
которые ретроспективно проливают свет на игру корней
соб /
себ и
он в «Это парус рекача») и научные теории поэта (например, следующий отрывок
Слышу я просьбу великих столиц:
Боги великие звука,
Пластину волнуя земли,
Собрали пыль человечества,
Пыль рода людей,
Покорную каждым устоям,
В большие столицы,
В озёра стоячей волны,
Курганы из тысячных толп.45
порождён “идеей” Хлебникова о том, что города, подобно магниту для железных опилок, собирают, “фокусируют”
пыль рода людей.
46
В финале
Мы дышим ветром на вас,
Свищем и дышим.
Сугробы народов метём,
Волнуем, волны наводим в рябь,
И мерную зыбь на глади столетий!
Войны даём вам
И гибель царств.
Мы, дикие звуки,
Мы, дикие кони.
Приручите нас:
Мы понесём вас
В другие миры,
Верные дикому
Всаднику
Звука.
Лавой беги человечество, звуков табун оседлав.
Конницу звука взнуздай!47
Зангези, судя по
Иверни выверни, с самого начала
Плоскости XIX избирает
словотворчество “средством передвижения” (вспомним выражение “оседлать своего конька”, т.е. заняться любимым делом) для поездки в город (
он едет в город48
). Этот грозный гимн (в этимологическом смысле “песня, внушающая ужас”) превозносит могущество прославленного “футуриста”, уверенного в своей науке и её подрывных возможностях: налицо великолепный поэтический образ, где “сфабрикованы” утопические научные воззрения Хлебникова — его будетлянский урбанизм,
49
в частности. Вся метафоричность этой поездки восседающего на любимом “звуковом” коньке поэта-учёного, собравшегося осчастливить человечество, в финале пьесы, когда
Зангези исчезает со сцены, уступая место “игре” морали, помещенной как бы в приложение, навевает воспоминание о великой философской эпопее, созданной Парменидом двадцатью пятью столетиями ранее. В её гордом предисловии душу поэта-философа к вратам Солнца Истины несут подобного рода кони:
Ἵπποι ταί μέ φέρουσιν, ὄσον τ ἓπί θυμός ἱκάνοι,
πέμπον, ἐπεί μ ἓς ὁδόν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι
δαίμονος, ἣ κατἁ πάντ΄ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα ·
τῆι φερόμην · τῆι γάρ με πολύφραστοι φέρον ἴπποι
ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ ὂδον ἡγεμόνευον.50
Плоскость XX — не о приключениях языка, и поэтому может показаться бесполезным придатком к драме, только что завершившейся торжественным отъездом Зангези. Однако на поверку дуэт двух главных героев, Смеха и Горя — отнюдь не случайное дополнение к последнему хлебниковскому произведению крупного формата.
Вся трагическая направленность творчества поэта здесь налицо, поэтому этот фрагмент «Зангези» имеет важнейшее значение для понимания двойственного и противоречивого характера “хлебниковской системы” как памятника разуму, расколотому воистину трагическим чувством беззащитности перед смертью. За сценическим воскрешением двух персонажей русского фольклора51 зрителю внятна “мораль” пьесы, в этом смысле подобной средневековым “мистериям”,52
зрителю внятна “мораль” пьесы, в этом смысле подобной средневековым “мистериям”,52 где аллегорические персонажи раскрывают замысел действа. “Смерть от смеха” трагическим образом, с разницей в десятилетие, вторит «Заклятию смехом», положившему начало литературной известности Хлебникова.
где аллегорические персонажи раскрывают замысел действа. “Смерть от смеха” трагическим образом, с разницей в десятилетие, вторит «Заклятию смехом», положившему начало литературной известности Хлебникова.
Обзор языковых плоскостей, составляющих «Зангези», делает очевидной сложность визуального представления “либретто”: спектакль рассчитан больше на работу мысли, чем на зрительное восприятие. Действие таится внутри, в том смысле, что автор стремится показать движение вселенского разума и подвижность языка. «Зангези» — абстрактная драма. К ней применимо высказывание Аристотеля о самодостаточности трагедии:
Зрелище, хотя и способно увлечь публику, чуждо искусству и в ещё меньшей степени свойственно поэтике; ибо сила трагедии сохраняется и без игры актёров.
53
‹...› трагедия, даже без жестикуляции, всё равно производит впечатление; ‹...› просто читая, можно судить о её качестве.
54
Экстериоризация, а, следовательно, зрелищность, для «Зангези» заключается в разрастании действия, а не в жестикуляции или мимике актёра, не говоря уж о сценическом реквизите. Для полноты впечатления вполне достаточно голоса “за кадром”, сцена должна быть свободна от видимых тел или предметов. Вторая особенность произведения, также новаторская, — единство сценической структуры, контролирующей взаимосвязь нескольких разнородных частей, которые без этого высшего единства конструкции (и замысла) распались бы на разнородные блоки, беспорядочно стыкованные один с другим, что превратило бы «Зангези» в набор мини-пьес, а не в подлинно театральную композицию. “Конструктивистское” новаторство состоит в функциональном единстве разрозненных во всех отношениях кусков, ничем, по сути, не объединённых, кроме именно этого существенного элемента, которым все они обладают одинаково: поэтической “театральности”. Общий знаменатель теоретических выкладок, поэм, учебных диалогов (типа «Учитель и ученик») и стихотворений, составляющих “плоть” пьесы, — их сценическая направленность, “живописность”. «Зангези» действует как зеркало, подносимое поэтом к Земле, в котором отражаются звуковые волны её “голоса”. Слово именно зеркально, и смыслы в нём бесконечно отражаются, мерцая и переливаясь. В статье «З и его околица»
55
читаем:
Допустим, что З значит равенство угла падающего луча углу отраженного луча АОВ – СОД.
Тогда с З должны быть начаты : 1) все виды зеркал; 2) все виды отражённого луча.
Виды зеркал: зеркало, зрение.
Имена глаза, как построения из зеркал: зень, зрачок, зрак, зины, зирки; зрить, зетить, зор, зеница, зорливец; зенки — глаза: зорок.
Имена мировых зеркал: земля, звёзды; зиры (звёзды) зень (земля). Древнее восклицание „зирин” может быть значило „к звёздам”. И земля, и звёзды светятся отражённым светом.
Слово зень, которое значит и землю, и глаз, и слово зиры, значащее и звёзды, и глаза, показывает, что земля, также звёзды, понимались, как мировые зеркала.
Само имя Зангези посредством удвоенного отражения звука З символизирует сугубую зеркальность пьесы, учреждающей, в отношении “слов”, театр внутри театра. Театральность «Зангези» — реализованная метафора игровой струи творчества Хлебникова.
То же замечание относится к менее совершенным по части сценария пьесам «Снезини»,56 «Девий бог», «Маркиза Дезес» или к произведениям будетлян А.Кручёных «Победа над солнцем» и В. Маяковского «Владимир Маяковский». В одном из стихотворений лицедей Хлебников сетует на непреодолимые трудности внедрения “футуристского” языка и языковых нововведений. Поскольку никто не видит (или не умеет видеть), поэт обязан сеять глаза, которые когда-нибудь прозреют (зрение + созревание):
«Девий бог», «Маркиза Дезес» или к произведениям будетлян А.Кручёных «Победа над солнцем» и В. Маяковского «Владимир Маяковский». В одном из стихотворений лицедей Хлебников сетует на непреодолимые трудности внедрения “футуристского” языка и языковых нововведений. Поскольку никто не видит (или не умеет видеть), поэт обязан сеять глаза, которые когда-нибудь прозреют (зрение + созревание):
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим:
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!57
Лицедей отнюдь не синоним актёра с его “вхождением в роль”; это “лицемер” во всех смыслах этого слова: да, он актёр но, в более широком смысле, включая “выдумщика” и “лгуна” — воображает себя тем, кем на самом деле не является. В лекции о театре Блок затрагивает это явление:
Если писатель есть по преимуществу
человек (а он должен быть таковым), то актёр, такой, каким создала его традиция, по преимуществу — лицедей. Может быть, он чертовски талантлив, но это только усугубляет его лицедейство. Он таскает в себе всегда непочатый угол героизма, вздувается от героизма, ему некуда деваться от привычки к тому, что он на сцене — герой, любовник, злодей. Таким же он пребывает в жизни.
58
“Футуризм” в степени даже большей, нежели та, которую отстаивал символизм,
59
подразумевает слияние автора с актёром, превращая писателя в подлинно художественную фигуру: в пределе — ибо речь действительно идёт о предельном опыте в искусстве — автор играет автора (вспомним постановку трагедии «Владимир Маяковский»). Пастернак в «Охранной грамоте» даёт “генеалогию” такому отношению автора к своему детищу, когда “характер” автора выступает как творение, почти подмена биографии, то есть жизни:
‹...› Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.
Это представление владело Блоком лишь в течение некоторого периода. В той форме, в которой оно было ему свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представлением расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.
В своей символике, то есть во всём, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом, полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте романтическое жизнепонимание покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.
Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, немыслим без не-поэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощённое нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержания.
Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени.
60
“Лицедейство” сочетается с отчаянием одиночки, который из скромности по отношению к современникам (и осторожности в выборе слов) предпочитает выступать под театральной маской.61 Критика — в особенности непримиримо враждебная поэтическим новшествам “футуристов” — способствовала усугублению изгойства художника, злонамеренно низводимого в площадного кривляку, жалкое подобие средневековых скоморохов:
Критика — в особенности непримиримо враждебная поэтическим новшествам “футуристов” — способствовала усугублению изгойства художника, злонамеренно низводимого в площадного кривляку, жалкое подобие средневековых скоморохов:
Головокружительные номера гг. Бурлюков, Крученых и К° уже больше не удивляют ‹...› Публика давно поняла, что это не искания в искусстве, а искания популярности, жажда оригинальничанья и только ‹...› Но ведь это уже касается не области искусства, а области психологии ‹...›
Это фигляры, а не творцы новых ценностей, фигляры всегда помнящие, что они стоят перед толпой ‹...› Разница между ними лишь та, что фигляры забавляют публику, а гг. Бурлюки, Кручёных и К° дразнят её ‹...›
62
Поэт-будетлянин осуждён на неприкаянность непониманием своего творчества, приправленным неприязнью окружающих:
Сваи вбивал в ум народа и оси,
Сделал я свайную хату
„Мы будетляне”.
Всё это делал как нищий,
Как вор, всюду проклятый людьми.63
Точно так же, как никто не “внемлет” лингвистическим и историософским пророчествам
Зангези на сцене,
64
никому нет дела до одиночки, приносящего себя, словно козла отпущения, в жертву:
Так я, великий, заклинаю множественным числом,
Умножарь земного шара: ковыляй толпами земель,
Земля, кружись комариным роем: я один, скрестив руки,
Гробизны певцом.
Я небыть. Я таковичь.65
Однако изгойство поэта втайне желательно как очевидный признак его высочайшей сосредоточенности, погружения вглубь себя — единственной, как полагают, возможности поэта в совершенстве познать сущность поэзии. “Футуристский” перехлёст неизбежно ведёт к оскудению речи, к поэтической немоте: по завершении произведение отменяет само себя. Идеальное
будетлянское стихотворение, по выражению Малларме, — „поэма белого безмолвия”.
66
Следствие ли это изгнания
ψῡχή из храма искусства, как это полагал К. Чуковский?
67
Или свойственное русской культуре искушение буддизмом, согласно Мандельштаму?
68
В любом случае поэма конца “написана”
69
— если не Хлебниковым, то уж “эго-футуристом” Игнатьевым
70
точно:
Почему не Желая живу?..
Почему уМИРАЮ ЖИВЯ?
Почему Оживая уМРУ?
Почему Я — лишь я?
Почему Я моё — Вечный Гид
Вечный Гид без ЛИЦА?
Почему Бесконечность страшит
Безначальность Конца?
(«Эшафот»71 )
)
После такого заявления остаётся лишь самоуничтожение в семантическом взрыве, т.е. в неограниченной
самовитости означающего,
72
или в молчании, возведённом в достоинство онтологического принципа: драма
Зангези заканчивается многозначительным вбрасыванием личности, уничтожившей рукописи пророка...
73
Постсимволистский театр рискует навлечь на себя те же упрёки, что и театр символистский: в обоих случаях это отвлечённое зрелище, где автор или излагает собственные навязчивые метафизические идеи, или свою историко-лингвистическую “тему”. Однако в случае “футуристов” темой будет скорее отсутствие какой-либо темы. То, что разыгрывается на сцене, строго говоря, нельзя увидеть. То, что “слышится”, зачастую вразумительно, однако это прослушивание так же мало затрагивает чувство, как и “просмотр” постановки. Будетлянский театр, по сути, создаётся воображением зрителя.
б) Победа над солнцем: пролог
Поэтическое истолкование этого нового театра, точнее, этой новой концепции театра, изложена Хлебниковым в
прологе к либретто
будетлянской “оперы” А. Кручёных «Победа над солнцем», которая, по мнению Матюшина, была полной и окончательной победой над старой эстетикой, иносказательно представленной солнцем.
74
В
прологе наблюдаем новую театральность в её развитии, при этом сознание схватывает драматизм нововведений в области языка. Театр становится
созерцогом-преобразователем. Налицо нечто большее, нежели простое переназвание: это изменение предназначения театра, отныне средства духовного обновления.
75
На языковой сцене “играют” контуры слов, традиционные понятия и протяжённость времени, прежде незыблемые и однолинейные;
бытовой язык и передаваемые им привычные сообщения на глазах у зрителя разжижаются, а затем отвердевают в нечто иное вследствие “магической” операции, предполагаемой самим посылом
чернотворские вестучки.
76
Иными словами, с порога заявлены события, новизна которых и создаст зрелище. Мы, таким образом, очень близки к отмене самого понятия “драма”, о чём возвестил Б. Лившиц в программной статье «Освобождение слова»:
77
‹...› Может ли драматическое действие, развёртывающееся по своим исключительным законам, подчиняться индукционному влиянию слова, или хотя бы только согласовываться с ним? Не является ли отрицанием самого понятия драмы — разрешение коллизии психических сил, составляющей основу последней, не по законам психической жизни, а иным? На все эти вопросы есть только одни ответ: конечно, отрицательный.
78
Заметим, что речь здесь идёт о перевороте в устоявшемся представлении о драме. «Чернотворские вестучки»79 взорвались фейерверком великолепных неологизмов, удачно завершающих систематическую славянизацию театральной лексики, напичканной иноземными терминами. Но пролог представляет собой не только наивное (в своём потрясающем неведении о каких-либо связях со случайностями повседневного языка) намерение бороться с лингвистическим раболепием перед престижными заимствованиями. Если бы дело обстояло так, то хлебниковское введение в «Победу над солнцем» оказалось лишь разновидностью славянофильства, известного в России с XVIII века,80
взорвались фейерверком великолепных неологизмов, удачно завершающих систематическую славянизацию театральной лексики, напичканной иноземными терминами. Но пролог представляет собой не только наивное (в своём потрясающем неведении о каких-либо связях со случайностями повседневного языка) намерение бороться с лингвистическим раболепием перед престижными заимствованиями. Если бы дело обстояло так, то хлебниковское введение в «Победу над солнцем» оказалось лишь разновидностью славянофильства, известного в России с XVIII века,80 а будетлянский извод оного — свидетельством очередной попытки противостояния Западу. Так, например, в статье «Одиссея и её переводы» (1849) Сенковский предлагал — в шутку, разумеется — русифицировать имена богов и героев греческого эпоса, дабы вполне выяснить восприятие их эллинами:
а будетлянский извод оного — свидетельством очередной попытки противостояния Западу. Так, например, в статье «Одиссея и её переводы» (1849) Сенковский предлагал — в шутку, разумеется — русифицировать имена богов и героев греческого эпоса, дабы вполне выяснить восприятие их эллинами:
Зевс — Живбог, Див; Афина-Паллада — Синева-Невидимка, Синь-Дева; Муза — Спевана, Утеха; Калипсо — Покрывалиха; Посидон — Текучист (случайно Сенковский этимологизирует и подвернувшееся латинское имя: Прозерпина — Проползала); Аполлон — Худог; Гефест — Самогор; Афродита — Самокраса; Илион — шарик, клубок; Гектор — Шестер, Сам-Шест; Елена — шкатулка;
Пенелопа — Мучисковорода; Ахилл — Нееда, Безкорм; Парис — Маклер, и т.д. В соединении с отчествами это звучит так: Агамемнон Атрид — Распребешан Невпопадович, у него сын — Грубиян Распребешаныч (Орест), дочь — Дебелощека Распребешановна (Ифигения).
81
«Чернотворские вестучки» — нечто гораздо большее, нежели славянофильские переназвания театральной номенклатуры:
82
это поэтический устав нового “футуристского” театра «Будетлянин»:
83
Чернотворские вестучки.
Люди! Те кто родились, но ещё не умер. Спешите идти в созерцог (или созерцавель ) «Будетлянин»!
Созерцавель поведёт вас,
Созерцебен есть вождебен, сборище мрачных вождей
От мучав и ужасавлей до веселян и нездешних смеяв и веселогов пройдут перед внимательными видухами и созерцалями и глядарями: минавы, бывавы, певавы, бытавы, зовавы, величавы, идуньи, судьбоспоры и малюты.
Зовавы позовут вас, как и полунебесные оттудни.
Минавы расскажут вам, кем вы были некогда.
Бытавы — кто вы, бывавы — кем вы могли быть.
Малюты, утроги и утравы расскажут, кем будете.
Никогдавли пройдут, как тихое сновидение.
Маленькие повелюты властно поведут вас.
Здесь будут иногдавли и воображавли.
А с ними сно и зно.84
Будетлянский театр располагается в
Будеславле, полюсе времени, куда “истекает” язык. Кроме того, этому театру не чужды волшебство и сказочность:
сно (от
сновидение, сны). Драматург становится чародеем: он вспахивает поле воображения, раздрасывая семена будущего (пахарь →
снахарь). Но, как всегда у Хлебникова, сказочная небыль впадает в научный уклон; поэзия народной сказки для него — золотой фонд
85
науки. В более общем плане, искусство предвосхищает посредством воображения то, что наука познает иной раз спустя века:
Искусство обычно владеет желанием в науке власти. Я желаю взять вещь раньше, чем беру её. Он говорил, что искусство должно равняться по науке и технике, ремеслу с большой буквы. Но разве не был за тысячелетия до воздухоплавания сказочный ковёр-самолёт? Греки Дедала за два тысячелетия? Капитан Немо плаваль под водой в романе Жюль Верна за полстолетия до мощной битвы немцев при ‹нрзб.›
островах.86
В то же время будетлянский театр — зно (от глагола знать), а драматург — знахарь, носитель знаний, которые слывут оккультными лишь потому, что так хочется официальной науке. Выведенная Хлебниковым формула сближает научные знания и выдумку:
(драма) построенная на особых знаниях — зно, на воображении — сно.87
Словождь (титул, присвоенный Хлебникову Каменским в автобиографии «Путь энтузиаста»),
88
драматург-чудотворец соблазняет зрителя церковной торжественностью действа (молебен →
созерцебен) в области вневременнóго (
от мучав ‹...›
воображавли).
89
В этом наброске
пролога высочайший уровень владения словом очевиден:
Зовава — зовёт идти. Бытава — драма вне времени.
Бывава — драма из настоящего. Песнизна — мотив.
Былава — из прошлого [минава] [старизна] (Тантал). Идава — из будущего.90
Средством проникновения в чудесный мир, где время упразднено, становится язык, преображённый игрой корней и аффиксальным разрастанием, когда слова наперебой рассказывают о самих себе и празднуют обретённую благодаря
внутреннему склонению свободу. Представление о мире как зрелище создаётся языковой игрой. Неология обеспечивает пространство, позволяющее видеть
91
язык воочию. Обретшие свободу на “футуристской” сцене (
зерцог) слова Хлебников и Кручёных в манифесте «Слово как таковое»
92
называют „зерцожными словами”. Движущая сила футуристского театра — корни (
мин-,
зов-,
быв-,
иногд-,
никогд- и др.). Они-то и номинализуют модальности времени, понимаемого как нечто целостное, где грамматические времена представляют собой ограничение, налагаемое субъективностью наивного зрительского восприятия:
Минавы расскажут вам, кем вы были некогда.
Бытавы — кто вы, бывавы — кем вы могли быть.
Малюты, утроги и утравы расскажут, кем будете.93
Зрителя, между тем, за безнадёжного простака не держат:
будетлянство взывает к тем,
кто родился, но ещё не умер (ходячим же “мертвецам” грозит настоящая семиотическая “дубинка”).
94
Сумев откликнуться на зов будущего, зритель освободится от рамок и препон (указаний литературной критики, в частности)
В детинце созерцога «Будеславль» есть свой подсазчук. Он позаботится, чтобы говоровья и певавы шли гладко, не брели розно, но достигнув княжебна над слухатаями, избавили бы людняк созерцога от гнева суздалей.95
и примет участие в преображении вселенной:
Места на облаках и на деревьях и на китовой мели занимайте до звонка.
Звуки несущиеся из трубарни долетят до вас.96
Эта общая метафора мироздания, восходя к Апокалипсису, приобретает особую торжественность, вплоть до финального предписания:
Будь слухом (ушаст) созерцаль!
И смотряка.97
Театральное действо (созерцебен) оказывается сеятелем на ниве жизни:
Семена «Будеславля» полетят в жизнь.
Созерцебен есть уста!98
Итак, поэтическая система Хлебникова с несравненным блеском реализуется в уставе преображённого и преображающего театра. Совокупность сил мироздания, преломленных через призму языка на сцене «Будетлянина» — вот полюс, где сходятся силовые линии поэтической системы Хлебникова. Думается, нечто подобное «Чернотворским вестучкам» оказалось бы нелишним в монументальных сверхповестях «Дети Выдры» и «Зангези»,99 ибо “тема” этих живописных эпосов заключается и в языке, и в сплочении воедино разнородных “отдельностей”.100
ибо “тема” этих живописных эпосов заключается и в языке, и в сплочении воедино разнородных “отдельностей”.100 В построении указанных произведений и в их подлинном “содержании”, языке, мы обнаруживаем, что “научная мысль” Хлебникова сродни образному мышлению. В системе Хлебникова, замечательная архитектоника которой очевидна в «Зангези», научный λόγος находит взаимодополнение в поэтическом μῦθος, и Хлебников показывает себя поэтом, обладающим “научным подходом” к тесному сближению этих разнородных способов мышления. В поэтической образности “научной мысли” Хлебникова нет ничего удивительного: таковая взрастает в языковой среде, которая с самого зачатия этой мысли оказывается для неё материнской утробой. В этом-то вместилище “научная мысль” и материализуется из научной абстракции, породившей её. У Хлебникова между языком и наукой происходит постоянное взаимодействие. То, что поэт открывает и о чём теоретизирует, — следствие естественной, имманентной101
В построении указанных произведений и в их подлинном “содержании”, языке, мы обнаруживаем, что “научная мысль” Хлебникова сродни образному мышлению. В системе Хлебникова, замечательная архитектоника которой очевидна в «Зангези», научный λόγος находит взаимодополнение в поэтическом μῦθος, и Хлебников показывает себя поэтом, обладающим “научным подходом” к тесному сближению этих разнородных способов мышления. В поэтической образности “научной мысли” Хлебникова нет ничего удивительного: таковая взрастает в языковой среде, которая с самого зачатия этой мысли оказывается для неё материнской утробой. В этом-то вместилище “научная мысль” и материализуется из научной абстракции, породившей её. У Хлебникова между языком и наукой происходит постоянное взаимодействие. То, что поэт открывает и о чём теоретизирует, — следствие естественной, имманентной101 поэтичности языка. Посредством “обратной метафоры” вселенная, наделённая способностью изъясняться, оказывается огромной поэмой. Если представить Хлебникова человеком науки, теоретиком, то на память приходят античные физиологи, слагавшие эпические поэмы о тайнах мироздания, полагаемых раскрытыми. Некоторые критики, например Фриц Мирау, справедливо сравнивают творчество Хлебникова с дидактической поэзией Лукреция и Ломоносова.102
поэтичности языка. Посредством “обратной метафоры” вселенная, наделённая способностью изъясняться, оказывается огромной поэмой. Если представить Хлебникова человеком науки, теоретиком, то на память приходят античные физиологи, слагавшие эпические поэмы о тайнах мироздания, полагаемых раскрытыми. Некоторые критики, например Фриц Мирау, справедливо сравнивают творчество Хлебникова с дидактической поэзией Лукреция и Ломоносова.102 Однако Лукреций и Ломоносов навязывали изящной словесности научные воззрения, чуждые поэтическому искусству. У Хлебникова, напротив, именно теория языка и мира, понимаемого как плод языка,103
Однако Лукреций и Ломоносов навязывали изящной словесности научные воззрения, чуждые поэтическому искусству. У Хлебникова, напротив, именно теория языка и мира, понимаемого как плод языка,103 порождает поэзию. Его творчество действительно оказалось бы сродни попыткам физиологов-досократиков, излагай он сообщение, внешнее по отношению к языку, но Хлебников — физиолог языка, нашедший формулу изложения своей системы в сценическом эпосе (драме). Поэтому представляется неуместным приписывать «Зангези» дидактические упражнения под видом декламации со сценических подмостков. Зангезийское “послание” выходит далеко за рамки δῐδᾰχή, общепонятного доктринального учения о внеязыковых истинах. Трудности определения жанра «Зангези» проистекают из того факта, что автор как раз и добивался упразднения жанровых перегородок. “Футуристский” подход, как верно заметил Б. Лившиц,104
порождает поэзию. Его творчество действительно оказалось бы сродни попыткам физиологов-досократиков, излагай он сообщение, внешнее по отношению к языку, но Хлебников — физиолог языка, нашедший формулу изложения своей системы в сценическом эпосе (драме). Поэтому представляется неуместным приписывать «Зангези» дидактические упражнения под видом декламации со сценических подмостков. Зангезийское “послание” выходит далеко за рамки δῐδᾰχή, общепонятного доктринального учения о внеязыковых истинах. Трудности определения жанра «Зангези» проистекают из того факта, что автор как раз и добивался упразднения жанровых перегородок. “Футуристский” подход, как верно заметил Б. Лившиц,104 раз и навсегда отменяет само понятие жанра. «Зангези», как и «Дети Выдры» — сверхповести. Да и так ли актуален жанровый прицел анализа будетлянских произведений (Хлебникова, в частности)? Зыбкость жанра «Зангези» имеет ещё одну особенность: расположение плоскостей с ярко выраженной монтажной предзаданностью сочетается с глубоко продуманной установкой на то, чтобы по-разному озвучить “отдельности” вселенной. Предприятие Хлебникова своей гностической стороной105
раз и навсегда отменяет само понятие жанра. «Зангези», как и «Дети Выдры» — сверхповести. Да и так ли актуален жанровый прицел анализа будетлянских произведений (Хлебникова, в частности)? Зыбкость жанра «Зангези» имеет ещё одну особенность: расположение плоскостей с ярко выраженной монтажной предзаданностью сочетается с глубоко продуманной установкой на то, чтобы по-разному озвучить “отдельности” вселенной. Предприятие Хлебникова своей гностической стороной105 обнаруживает в поэте обострённое чувство вневременности, которое понуждает его к отказу от соблюдения законов драматического жанра, не переводя при этом пьесу в разряд средневековых или индийских аллегорических “мистерий”.106
обнаруживает в поэте обострённое чувство вневременности, которое понуждает его к отказу от соблюдения законов драматического жанра, не переводя при этом пьесу в разряд средневековых или индийских аллегорических “мистерий”.106 То, что раскрывается в «Зангези» и «Детях Выдры», выходит далеко за рамки опробованной веками игры намёков и уподоблений: в литургии читаемого вслух текста (обе поэмы предназначены для чтения-декламации) система мира выговаривается,107
То, что раскрывается в «Зангези» и «Детях Выдры», выходит далеко за рамки опробованной веками игры намёков и уподоблений: в литургии читаемого вслух текста (обе поэмы предназначены для чтения-декламации) система мира выговаривается,107 благодаря уподоблению, внятному лишь поэту: Мир как стихотворение.
благодаря уподоблению, внятному лишь поэту: Мир как стихотворение.
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1
1 ЛЕФ №3. С.181.
указанная работа на www.ka2.ru 2 А.Е. Редько
2 А.Е. Редько. Театр и эволюция театральных форм.
Л. 1926. С. 112–113.
 3 Malevich
3 Malevich. Unpublished writings 1913–1933, vol. IV. The Artist, Infinity, Suprematism.
Copenhagen: Borgens Forlag. 1978. Статья Малевича — некролог, написанный, несомненно, вскоре после смерти Хлебникова; вот почему автор в значительной степени выходит за рамки анализа пьесы как такового. Малевич здесь оценивает всё творческое наследие “Хлебникова-Зангези”, и, в частности, его “футуризм”. Он противопоставляет натуралистический, рациональный “футуризм” Хлебникова трансрациональной, “необъективной” стороне словесного творчества Кручёных, которого он полагает изобретателем слова
будетляне! Учитывая весьма своеобразную позицию Малевича, мы не будем здесь вдаваться в подробности “футуризмов” Хлебникова, Малевича и Кручёных. Однако не следует забывать, поскольку эта кажущаяся анекдотичной деталь имеет большое значение, что “футуристская” пьеса Хлебникова была поставлена Татлином, одного из великанов русского конструктивизма, и известно, что противостояние (если не сказать больше) двух художников более всего выражалось в области художественных концепций (конструктивизм против супрематизма). Таким образом, за критикой «Зангези» стоит и оппозиция “конструктивистской” постановке пьесы. Наконец, чтобы несколько смягчить теоретическое осуждение хлебниковского “рационализма” (на наш взгляд, неоправданное), вспомним о близости художественных замыслов Кручёных и Малевича, которая, кстати, проявилась во время совместной подготовки “футуристской” оперы «Победа над солнцем» (см.:
М. Матюшин. Русские кубо-футуристы // Rossija/Russia, №1, 1974. С. 138–139).
 4 Malevich
4 Malevich. Unpublished writings 1913–1933, vol. IV. The Artist, Infinity, Suprematism.
Copenhagen: Borgens Forlag. 1978. P. 97–98.
статья К. Малевича на www.ka2.ru 5
5 Введение (
СП III: 317).
 6
6 «Зангези», примечание (
СП III: 387), а также в предисловии к
СП «Творчество Велимира Хлебникова», с. 60.
 7
7 Предисловие к
СП «Творчество Велимира Хлебникова», с. 60.
 8 Malevich
8 Malevich. Unpublished writings 1913–1933, vol. IV. The Artist, Infinity, Suprematism.
Copenhagen: Borgens Forlag. 1978. P. 97.
 9 СП
9 СП II: 180.
 10
10 См. гл. «Звукопись».
 11 Проходит мальчик птицелов с клеткой
11 Проходит мальчик птицелов с клеткой (
СП III: 319).
 12 СП
12 СП III: 318–319.
 13
13 О языке птиц см. гл. «Хлебников и язык»
 14 СП
14 СП III: 339.
 15 СП
15 СП III: 320. В цитировании тирады Юноны у Малевича, который приводит текст по памяти, есть ошибка.
 16
16 Platon, Cratyle, 391 d, op. cit.
 17
17 Семантическое и тематическое (а не семантика и тематика): каждое из этих гендерно-нейтральных существительных соответственно обозначает аспект двойственной природы формы.
 18
18 Б. Горелый в предисловии к «Ка» (Vitte Editeur, 1960) говорит, что здесь опыты Хлебникова совпадают с экспериментами Джойса и предвосхищают искания дадаистов с их автоматическим письмом. Другие, вторя ему (Эренбург), полагают “близость” Хлебникова и Джойса очевидной настолько, что сопоставление “Хлебников и Джойс” стало частью “хлебниковедения”, подобным осуждаемым Тыняновым топосам “Хлебников и Маяковский”, “Хлебников и Кручёных”! Однако риторические приёмы В. Хлебникова и Джойса, даже признав их сходство, не позволяют нам установить параллель между двумя писателями, учитывая принципиальную разницу их поэтических систем. Мы видели, что Аристофан “изобрёл” язык лягушек и птиц; но ведь никому и в голову не придёт говорить о “Хлебникове и Аристофане”, столь очевидна разница поэтических систем! Точно так же, если мы внимательно присмотримся к опытам Хлебникова и Джойса, то не увидим между ними ничего общего. Языковые
плоскости, выстроенные в «Зангези» и объединенные в драматическую (по сути, трансродовую) систему, не известны автору «Поминок по Финнегану» (попробуйте-ка называть автономными языковыми
плоскостями „Brékkek! Kékkek Kékkek Kékkek! Kôax Kôax Kôax! Ualu Ualu Ualu! Quaouauh!” (p. 4), „The clip, the clop! (Ail cia) Glass crash”.
The „klikkaklakkaklaskaklopatzklatschabattacreppy-crottygraddaghsemmihsammihnouithappluddyappladdypkonpkot!” (p. 44,
London: Faber and Faber, 1975); а ведь на этом, кстати, очень редко акцентируют внимание на протяжении всех 628 страницах «Поминок по Финнегану»!). Что действительно ставит язык Джойса в этом романе особняком, так это непрерывная метаплазма (изменение, затрагивающее форму языка), которая постоянно допускает сразу несколько возможностей семантической и синтаксической интеграции (отсюда бесконечная многозначность этого языка). Опыты же Хлебникова (первые две
плоскости «Зангези») чисто асемантичны и не могут быть сведены к синтаксическим схемам. Следовательно, никакая интерпретация на уровне означаемого невозможна.
 19 СП
19 СП III: 321–322.
 20 СП
20 СП III: 322–324.
 21 СП
21 СП III: 325.
 22
22 Там же.
 23 СП
23 СП III: 330–332.
 24 СП
24 СП V: 117:
Вы видали, как Ганг тихо стучится в Зангези,
Зоями художника зван.Отсылка к Индии в пьесе постоянна. Во-первых, само имя пророка (
Зангези/
Ганг, см. выше), которое вследствие этого парономасиса доносит перекличку со священными водами до сознания слушателя. Затем, в прямом намёке на индийского мудреца Шанкару при возгласе толпы:
Чангара Зангези пришёл! (
СП III: 324,
Плоскость V). Наконец, в “гимне духу”, построенном на мистическом индийском слоге
ōm, которым обычно начинаются ведические гимны.
 25
25 Пантограмма, иначе называемая тавтограммой, представляет собой поэтическое жонглирование, заключающееся в сведении “темы” стихотворения к повторению буквы алфавита (звука), в данном случае буквы М (звука эм). Изотопия
Плоскости Х (её смысловая единица) определяется повторяемостью этого звука. Фигура пантограммы, конечно, не является “футуристским” изобретением; оно принадлежит мировой поэзии. Во Франции к ней особенно часто прибегали “великие риторы”. См., например,
Jean Molinet. L’Oraison а Marie // Anthologie des grands rhétoriqueurs.
Paris: Paul Zumthor. 1978. Р. 92–93.
 26 СП
26 СП III: 337.
 27 СП
27 СП III: 354–355.
 28
28 Разложение слова (
СП V: 198–202).
 29 СП
29 СП III: 343.
 30 СП
30 СП III: 340.
 31 СП
31 СП III: 344.
 32 СП
32 СП III: 342.
 33 СП
33 СП II: 36.
 34
34 Попытки создать синтетическое, даже “синестетическое” искусство, сочетающее в себе числа, звуки, цвета, прерогативой футуризма не являются. Помимо “эго-футуристских” статей, известны теоретические предложения “импрессиониста” Н. Кульбина, мецената и покровителя “футуристов” (см. его статью «Свободное искусство, как основа жизни», в частности главу «Цветная музыка», с. 20–26), а также статья А. Борисяка «О живописи музыки» (с. 42–44) в сборнике «Студия импрессионистов».
 35
35 Как отмечают А. Меньшутин и А. Синявский, этот приём Хлебников заимствовал у А. Блока. В «Двенадцати» Блок действительно вводит “уличную лирику”, которая выступает революционным рефреном на протяжении всей поэмы (
А. Меншутин, А. Синявский. Поэзия первых лет революции.
М. 1964. С. 176–177.) Этот революционный приём великого “символиста” использует и Маяковский (причём в контексте полемики с Блоком!) в VII главе поэмы «Хорошо!».
 36
36 О полифонизме стихотворений “советского периода” см. предыдущие главы.
 37
37 См. стихотворение, найденное в архиве Р.П. Абиха и опубликованное в
СП V: 532–538 — черновик
Плоскости XVIII «Зангези».
 38
38 Другой пример поэзии, порождённой “научной” теорией истории и времени, — черновик стихотворения «Кто он, Воронихин столетий...?», (
СП V: 103–106). Как и в
Плоскости XVIII «Зангези», математическая теория времени и “леттризм” тесно связаны в грамматомахии истории.
 39 СП
39 СП III: 355–360.
 40 СП
40 СП III: 354.
 41 СП
41 СП V: 25.
 42 SPM
42 SPM III: 469.
 43 СП
43 СП III: 358.
 44 СП
44 СП III: 359.
 45
45 Там же.
 46
46 Учитель и ученик (
СП V: 173–174).
 47 СП
47 СП III: 360.
 48 СП
48 СП III: 355.
 49
49 Мы и дома (
СП IV: 275):
Вонзая в человечество иглу обуви, шатаясь от тяжести лат, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда! И колем усталые бока колёсиком на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой.
Мы, сидящие в седле, зовём: туда...
 50 Parménide
50 Parménide.
Paris: Seghers. 1973. Р. 50.
 51
51 Р. Якобсон энергично подчёркивает
будетлянский пафос (разделяемый Маяковским и Хлебниковым), составленный из интимной смеси комического и трагического (Questions de poétique, op. cit., p. 76)).
Горе — это обоснование важнейшего элемента русской народной песни, который посредством этого языкового процесса стало героем сказки XVII века. («Povest' о Gore i Zloščastii», ibid., p. 248 et p. 251, note.) О значении, какое Хлебников придавал смеху как революционному “входу” в футуризм, см. его письмо Кручёных начала 1913 г. (
СП V: 297):
Итак, смысл России заключается в том, что “староверы стучат огнём кочерги”, накопленного предками тепла, а их дети смехачи зажгли огни смеха, начала веселия и счастья. Отсюда взгляд на русское счастье как на ветхое вино в мехах старой веры. Наряду с этим существуют хныкачи, слёзы которых, замерзая и обращаясь в сосульки, обросли русскую избу. Это, по-видимому дети господ “истов”, ежегодно выстуживающих русскую обитель. Жизнь они проходят как воины дождя и осени. Обязанность олицетворения этих сил выполняют с редкой честностью.
 52
52 О “мистерии” как образце театра в России начала века см. в предыдущих главах. Со смертью
Смеха в предпоследней сцене «Зангези» исчезает целый пласт “культуры смеха” русского футуризма. За фарсом, выходками 1913–1914 годов очень быстро последовало острое ощущение двойственности смеха. “Самоубийство”
Зангези, хотя и приписываемое неправдоподобным причинам, является признаком саморазрушительной стороны
будетлянского предприятия (ср. конец пролога к трагедии «Владимир Маяковский» //
Маяковский В. Полное собрание соч., указ. соч., т. 1, с. 154), см.:
Roman Jakobson. Questions de poétique, op. cit., p. 75).
 53 Aristote
53 Aristote. Poétique, op. cit., p. 39.
 54 Ibid
54 Ibid, p. 74.
 55 НП
55 НП: 346. Хлебников разработал и “научную”, математическую теорию зрения (
SPM III: 518):
Что такое зрение? Зрение есть вид времени особого счёта.
Зрение есть спуск по 41 ступени лестницы башни показателя.
Когда жрец опускается по ступеням этой лестницы с высокой башни, где он живёт, человек видит.
Это есть счёт тех самых степеней троек, ведь 41 есть 33 + 32 + 31 + 30 + 1, это улица башен счёта, которую мы часто видели в городе троек, городе неба, но здесь она не на земле работы, — здесь этот ряд нисходящих троек, город троек висит в облаках: он сам показатель степени!
Или мы начинаем видеть, когда город башен, город нисходящих троек, сам становится показателем степени.
Вспомним ряды неба: там 41 и его товарищи 365 участвовали как слагаемые. Здесь они властно висят в воздухе протянутой рукой божества.
В самом деле, глаз видит, начиная с порога 394,5·1012 ударов в сек.; за сутки в 86164 сек. этот свет делает 3395·1016 ударов.
Но 341, где 41 = 33+ 32+ 31+ 30+1 и есть это число.
Вот зрение, как сложное время. Зрение есть такая же ветка времени, как и год, но у него две черты отличия. Год растёт из суток по закону восходящего ряда троек. В зрении этот ряд 1) висит показателем тройки, 2) всё взято в отрицательную степень.
Фоническая подоплёка зрения — точнее слов, которые в русском языке по своему значению относятся к осмыслению области зрения как такового — определяет внутреннюю структуру многих стихотворений Хлебникова (см., например, «Ра», СП III: 138) и порождает сложные мифологические фигуры типа Разина (Ра-зин, см. предыдущие главы). Зинзивер экспериментального стихотворения «Крылышкуя...» (СП II: 37) был первым предчувствием катоптрической (catoptrique) природы языка. Зеркальная концепция языка налицо в палиндромах, своего рода зеркалах внутри языка. А. Кручёных замечание А. Весёлого „Хлебников — зеркало звука” вполне одобряет: „Это лучшая характеристика перевертня” (А. Кручёных. 15 лет русского футуризма 1912–1927 гг. М. 1928. С. 18). А. Кручёных оценил катоптрические возможности звука З в «Фактуре слова» (М. 1923, с. 4):
Стихомёт Зудиссимо
Фактура з. Звук з удобен для изображения: резкого движения, возбуждения, брожения, визга, лязга, завирух зимы, заносов, мороза, зги, накожного и нервного раздражения, свиста розги, злости, зависти, раздражения, заразы, зазора, змеи, зигзага.
Свой тезис он иллюстрирует примерами, заимствованными у Маяковского, Хлебникова (Тарарахнул зинзивер!) и у самого себя (там же, с. 4). Затем он развивает в „поэтических струях” все „захватывающие” виртуальности З: «Зудеса» (с. 5–6), «О зудеснике» (стихотворение И. Терентьева, с. 7), «Зудивец». (с. 14 и с. 17), предлагая несколько неологизмов:
Словоновы (неологизмы) на з:
Зудеса = большие зудения, сравни: дееса, жееса, зееса, живеса, милеса, зудесьма, зудесение, зудиссимо!
Зудок = гудение + зуд зудки трамваев, в зубах зудки.
Зудило = чем зудят (шило), зудила = кто зудит.
Зудесник, зудрец, -арь, -ахарь, -додей — зудитель.
Зудийца, зудивец — со злым оттенком (срав. убийца).
Зудутный, зуденый, зойный, зуйный, зудавый — богатый зудом, охочий зудить, зудливый, зудырный.
Зударка, -риха, -арыня, -илица — зудящая.
Зудина, зудель, зудёжка — качество и время.
Зудины — время зудения, эпоха зудин (срав. именины, летины).
Зуденица — армия зудящих (срав. конница).
Зудич, -унчик, -ёнок, -ёныш — сын зудуна.
Зудильник — назойливый будильник?!
Ласкательные: зудики, зудесики, зудилец, злей зудавый.
Ясавый зудавчик! Зудимчик! Зюзюмка зю! Зорюца!
Злостеболь, чудо-чудо зыба-кит, зий, визги — поюзги, зудок, зудки, зудеса, зудель, зудак, зудун, зудуны, зудёжка, задора задыш!
 56
56 «Снезини» планировалась к представлению на сцене футуристского театра «Будетлянин» совместно с «Владимиром Маяковским». См. перевод «Декларации первого всероссийского съезда Баячей будущего (поэтов футуристов)» (
K. Malévitch. Le Miroir suprématiste.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1977. Р. 42). Фактически исполнялись только произведения Маяковского и Кручёных.
 57 СП
57 СП III: 307.
 58 А. Блок
58 А. Блок. О театре // Собр. соч. в 8-и томах.
М.-Л. 1960–1963. Т. V. С. 248.
 59 А. Белый
59 А. Белый. Будущее искусство // Символизм.
М. 1910. С. 453:
‹...› Если он (т.е. художник) хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой.
 60 Б. Пастернак
60 Б. Пастернак. Собр. соч., т. II, с. 281–282.
 61
61 См.:
Roman Jakobson. Questions de poétique, op. cit., цитата о Маяковском: „Это исторический факт, окружающие не верили лирическим монологам Маяковского, они слушали знаменитого комедианта, улыбаясь”.
 62
62 Дубина на голову русской критики — Разоблачение критики // Футуристы — Первый журнал русских футуристов, №1–2.
М. 1914. С. 112. В этом разделе журнала собраны образцы самой злобной критики тех лет.
 63 СП
63 СП V: 72.
 64 СП
64 СП III: 342.
 65 СП
65 СП III: 344.
 66 Mallarmé
66 Mallarmé. Variations sur un sujet, crise de vers // Œuvres complètes, op. cit., p. 367.
 67 Чуковский К
67 Чуковский К. Футуристы, указ. соч. цит., с. 61–62.
 68 О. Мандельштам
68 О. Мандельштам. О природе слова. Собр. соч. соч., т. II, с. 293 — «Пётр Чаадаев», там же, с. 330. Мнение Мандельштама поддержано И. Стравинским в его «Музыкальной поэтике» (
Paris: Plon. 1945. С. 81):
На разных этапах своего развития и исторических метаморфоз Россия всегда предавала себя, всегда подрывала основы собственной культуры и оскверняла ценности этих предыдущих этапов.
И когда ей теперь случается по необходимости возобновить свои традиции, она удовлетворяется их схемой, не понимая, что их внутренняя ценность, сама их жизнь совершенно исчезла. В этом суть этой великой трагедии.
Обновление плодотворно только тогда, когда оно идет рука об руку с традицией. Живая диалектика диктует, что обновление и традиция развиваются и утверждаются одновременно. Однако Россия видела только консерватизм без обновления или революцию без традиций, отсюда и это гигантское шатание над пустотой, от которого у меня всегда кружилась голова.
 69
69 Оксюморон, замыкающий «Зангези», можно понять как последнее стихотворение Хлебникова (
Весёлое место описывает самоубийство Зангези), см.:
Roman Jakobson. Questions de poétique, op. cit., р. 75). Последние две строки пьесы нельзя с полным основанием считать написанными Хлебниковым: скорее, это приписка Митурича. См.: Russian Literature Triquarterly, n° 13, fall 1975, p. 579.
 70
70 Теоретическое обоснование было следующим:
Пока мы коллективны, общежители, — слово нам необходимо, когда же каждая особь преобразится в объединиченное «Эго» — я, — слова отбросятся само собой.
(«Футуристы — Первый журнал русских футуристов», стр. 118)
 71 А. Закржевский
71 А. Закржевский. Рыцари безумия (Футуристы). Киев. 1914. С. 104–105.
 72
72 По этому пути шли непримиримые “заумники” А. Кручёных и И. Зданевич.
 73
73 Такое символическое прочтение, по нашему мнению, более приемлемо, нежели поиски прототипа.
 74 М. Матюшин
74 М. Матюшин. Русские кубо-футуристы // Rossija/Russia, №1, 1974. С. 139–141.
 75
75 Духовное обновление зрителей посредством спектакля, вообще говоря, вписывает театральные искания Хлебникова и “футуристов” в рамки символистской проблематики, хотя “футуристское” решение, очевидно, весьма далеки от предлагаемого символистской драматургией решения. Эскизы декораций, выполненные Малевичем, отвечают “взлёту” языка к супрематической абстракции, идеализирующей материальный язык как чистую форму, полностью реализующую его предначначение. Пространство преображённого языка становится средством общения, искомым символистами принципом “соборности”. В этой связи нельзя не вспомнить о всеобщем преображении театром (см.:
Jules Romains. La Vie unanime).
 76
76 Название пролога свидетельствует о замечательной преемственности
будетлянского “карнавала”, по крайней мере у Хлебникова: от волшебного «Заклятия смехом» (1910) к чёрному “миру наизнанку”, перевёрнутому миру ценностей. В этом смысле небезобидна и терминология, которая буквально перенимает притязания символистской поэзии (ср.:
Бальмонт К. Поэзия как волшебство).
 77
77 Лившиц в 1913 году предрёк упразднение жанров, опираясь на немногочисленные
будетлянские постановки. В следующем году «Победа над солнцем», «Владимир Маяковский» и «Снежимочка», запланированные новым театром «Будетлянин», исполнили пророчество, по крайней мере, в области драматургии. «Зангези» — возобновление и развитие достижений 1913–1914 годов, не отбрасываемых, а преобразованных и расширенных, согласно собственным воззрениям поэта конца 10-х годов. Некоторые приверженцы концепции “зауми” действительно имели основания усмотреть в этом произведении предательство или шаг назад от достижений 1914 года. Именно так обстоит дело, например, с Малевичем, см. выше.
 78 Б. Лившиц
78 Б. Лившиц. Освобождение слова // Дохлая луна.
М. 1913.
 79
79 Можно понять это и как возрождение, но весьма специфическое, приёмов ярмарочных зазывал: трюки иллюзиониста становятся средством раскрытия спасительной истины (
Ripellino. Maїakovski et le théâtre russe d’avant-garde.
Paris: L’Arche. 1965. Р. 92–94).
 80
80 Целью Крижанича было создание славянского койне. По своим последствиям это относится к другому порядку задач (создание единого языка для политически единого славянства, т.е. для славянского федеративного государства). См.:
Ю. Крижанич. Политика.
М. 1965. С. 466.
 81
81 Цит. по:
А.Н. Егунов. Гомер в русских переводах 18–19 веков.
М.–Л. 1964. С. 391.
 82
82 Никогда нельзя вполне исключить у Хлебникова намерения поразвлечься. Так, в «Приказе Председателей земного шара» (1922) находим славянские названия планет:
Торгаш, Красотка и Жена (
СП V: 166). Наконец, примеры систематической славянизации театральной лексики мы находим в двух письмах Хлебникова Кручёных от августа 1913 г. (
СП V: 299–300). Эти поименования ценны тем, что приумножают неологизмы
пролога «Победы над солнцем».
 83
83 О замысле футуристического театра см.:
М. Матюшин. Русские кубо-футуристы // Rossija/Russia, №1, 1974. С. 138;
J.-C. Marcadé Postface à la Victoire sur le Soleil.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1976. Р. 66; об учредительном манифесте нового театра см.:
K. Malévitch. Le Miroir suprématiste, op. cit., p. 4142.
 84 СП
84 СП V: 256.
 85
85 О пользе изучения сказок (
СП V: 196–197).
 86 СП
86 СП V: 275.
 87 СП
87 СП V: 300.
 88 Каменский В.
88 Каменский В. Путь энтузиаста.
Пермь. 1968. С. 164–165.
В.В. Каменский на www.ka2.ru 89 СП
89 СП V: 256.
 90 СП
90 СП V: 300.
 91
91 Внутренняя организация языка как синтаксическая игра, небольшое драматическое представление, который говорящий разыгрывает для себя, очевидно, является метафорой, придуманной исключительно с педагогической целью, см.:
L. Tesnière. Éléments de syntaxe structurale.
Paris: Klincksieck. 1969. Р. 102–103. Настойчивая театральная метафора ясно показывает невозможность достичь сущности языкового функционирования иначе как при посредстве зрения, „которое из всех наших чувств является тем, что заставляет нас усваивать больше всего знаний и открывает нам множество различий” (
Aristote. Métaphysique, A 1, 980a, 25). Необходимо решительно подчеркнуть, что такого рода “взгляд” на лингвистический спектакль ничего не “видит”. Это скорее размышление о функционировании языковой системы, которое развивается в чувствительную метафору, достоинство которой состоит в том, чтобы “показать” абстрактную структуру языка, работающую путём исключительно иерархического распределения “ролей” и подчинённую единству композиционной стратегии. На самом же деле, в языковой операции, не говоря уже о композиционной операции (литературной, поэтической), нет дискриминации между зрителем и зрелищем; дихотомию подсказывает упрощённое и устаревшее с научной точки зрения представление о механизме физиологического зрения.
 92
92 Манифесты..., соч. цит., с. 57.
 93
93 СП V: 256.
 94
94 СП V: 195.
 95
95 СП V: 256.
 96
96 СП V: 257.
 97
97 Там же.
 98
98 Там же.
 99 Пролог
99 Пролог, который из-за ограничений во времени становится эпилогом! Однако предварительное рассмотрение «Зангези» было необходимо по другой причине: эта драма Хлебникова ретроспективно освещает, можно сказать, весь хлебниковский подход, задавая общую направленность поэтической системы в её развитии. С другой стороны, как мы видели, пьеса заключает в себе множество других, помимо чистой театрализации языка, проблем.
 100
100 «Дети Выдры» (Рыкающий Парнас.
M. 1913), написаны между 1911 и 1913 годами, то есть примерно за десять лет до «Зангези». Принцип композиции тот же, только
плоскости здесь называются
парусами. Изобразительная метафора вполне правдоподобна, учитывая время создания «Детей Выдры»; но здесь Хлебников развивает сложную метафорическую систему, в которой “словесные паруса” направляют ход корабля-произведения (
СП V: 297). Что объединяет пёстрые
паруса «Детей Выдры», обеспечивая композиционное единство, так это философская концепция, которая задаёт и композицию прозаических рассказов: “пересечение” времени идеей, в разных феноменальных формах (
СП II: 7):
‹...› Давая разные судьбы двоих на протяжении веков ‹...›с одной стороны, с другой — культурный синтез между Россией и Азией (
там же):
‹...› Я задумал построить общеазийское сознание в песнях.Паруса представляют собой не столько
плоскости словесного построения, как в «Зангези» (хотя в определённой степени таковыми являются), сколько “структурные состояния” мира создаваемого типа.
Первый парус — мир как мифология;
второй парус — мир как зрелище;
третий парус — мир как эпическая поэма;
шестой парус — мир как диалог... В «Зангези» структурные модели мира проецируются на языковые плоскости, что придает пьесе ярко выраженный экспериментальный характер: структурные состояния мира проявляются в языке, которым является мир.
 101
101 Ниже, в главе, посвящённой “риторике” Хлебникова, мы вернёмся к проблеме естественной поэтичности языка. Поэтичность языка может быть установлена только через поэтическое мировоззрение и отношение к материалу; поэтичность — дело поэта...
 102 Fritz Mierau
102 Fritz Mierau. Révolution und Lyrik, op. cit., p. 188–189. См. также:
Меньшутин А., Синявский А. Поэзия первых лет революции, op. цит., с. 295–307.
 103
103 В «Зангези» история опосредована языком: исторические конфликты становятся грамматомахией. Хлебников постигает науку своего времени и её открытия, подобно Лукрецию или Вольтеру (панегиристу Ньютона), но не воспевает её, а приспосабливает для нужд художественного творчества. По Хлебникову, наука сродни поэзии, ибо цель у них одна: познать силы, действующие во вселенной. Поэтический язык “общемировой”, потому что он участвует в построении мира. Хлебников заимствует свои эвристические модели из современной науки и обнаруживает их близость поэтическому наитию.
 104 Б. Лившиц
104 Б. Лившиц. Освобождение слова // Дохлая луна.
М. 1913. С. 177–178.
 105
105 К гностическим “драму” «Зангези» следует причислить хотя бы потому, что автор верит в науку, в её эвристические возможности. В этом смысле «Зангези» была бы успешной “мистерией”, ибо таковая требует от актёров безусловной веры в истинность исполняемого. Этот факт имеет решающее для символистской драмы значение, но действенность его смазывается неверием зрителя, если не самого автора. Хлебников возобновляет проблематику символистского театра, но у него наука одна отвечает за раскрытие истины мира в мифической форме. Этот сакральный менталитет, на поверку донаучный, знаменует собой триумф идеологии. От Хлебниковской научной сказки до грандиозных утопических видений Заболоцкого («Торжество земледелии») рукой подать. Заявленному неогностицизму «Зангези» соответствует в том смысле, что вся поэтическая система Хлебникова, какой она предстаёт в драме, свидетельствует о его стремлении овладеть временем посредством знания. Поэзия и наука — формы творчества, тяготеющие к проявлению вневременных смыслов:
сно и
зно идут рука об руку в преодолении времени.
 106
106 Аллегорический аспект «Зангези» ограничен “игрой”
Смеха и
Горя. Этого, учитывая композиционный принцип пьесы, достаточно, чтобы исключить любую попытку связать её со средневековым театром или индийской богословской драмой, доведенной до совершенства Кришной Мишра в его произведении «Прабодка чанродайя» («Восход луны пробуждения знания») — см.
Arthur Mac Donell. A History of Sanskrit literature.
New Delhi. 1972. Р. 370. И «Дети Выдры», и «Зангези» трансгенеричны в том смысле, что представляют собой драматизацию монологического и диалогического типов речи. В целом поэзия Хлебникова отмечена этой фундаментальной двойственностью, определяющей тональность его системы:
— драматико-эпический (диалогизм речи)
— лирический (монологи).
Необходимо также — и это важное замечание — принять во внимание черту, которую трудно отнести к стилистическому процессу: хлебниковский юмор, всегда смягчающий трагический тон его творчества, своего рода перманентную самокоррекцию к искушениям высокопарности.
 107
107 В творчестве Хлебникова язык “овселеннивается”, и вселенная предстаёт как язык. Как тут не вспомнить прекрасные страницы, которые Хайдеггер посвятил в своей работе «Ursprung des Kunstwerkes» интимным отношениям, объединяющим мир и произведение искусства? (см. Philip Reclam Jun., Stuttgart, 1970, p. 44–45):
Was stellt das Werk als Werk auf? In-sich-aufragend eröffnet das Werk eine Welt und hält diese im Waltenden Verbleib.
Werksein heisst: eine Welt aufstellen. Aber was ist das, eine Welt? ‹...›.
— Welt ist nicht die blosse Ansammlung der vorhandenen abzаhlbaren oder unabzählbaren, bekannten und unbekannten Dinge. Welt ist aber auch nicht ein nur eingebildeter, zur Summe des Vorhandenen hinzu vorgestellter Rahmen. Welt weltet und ist seiender als das Greifbare und Vernehmbare, worin wir uns heimisch glauben. Welt ist nie ein Gegenstand, der vor uns steht und angeschaut werden kann. Welt ist das immer Ungegenständliche, dem wir unterstehen, Solange die Bahnen von Geburt und Tod, Segen und Fluch uns in das Sein entrückt halten. Wo die wesenhaften Entscheidungen unserer Geschichte fallen, von uns übernommen und verlassen, verkannt und wieder erfragt werden, da weltet die Welt. Der Stein ist weltlos. Pflanze und Tier haben gleichfalls keine Welt; aber sie gehören dem verhüllten Andrang einer Umgebung, in die sie hineinhängen. Dagegen hat die Bäuerin eine Welt, weil sie sich im Offenen des Seienden aufhält. Das Zeug gibt in seiner Verlвsslichkeit dieser Welt eine eigene Notwendigkeit und Nähe. Indem eine Welt sich ö;ffnet, bekommen aile Dinge ihre Weile und Eile, ihre Ferne und Nähe, ihre Weite und Enge. Im Welten ist jene Geräumigkeit versammelt, aus der sich die bewahrende Huld der Götter verschenkt oder versagt. Auch das Verhängnis des Ausbleibens des Gottes ist eine Weise, wie Welt weltet.
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 139–182; 326–343.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию
Продолжение 





 ангези» — свод научных разработок и поэтических озарений Хлебникова. Несомненный шедевр излёта его жизни, этот литературный памятник оказался ретроспективой всего творчества поэта. Некоторые критики, ушибленные, если можно так сказать, “содержанием”, забывают, что «Зангези» — пьеса, отчасти пьеса без действия, но свершившийся сценический факт. Говоря о неудаче постановки Татлина в Музее художественной культуры (май 1923), С. Юткевич приводит наблюдение Н. Пунина, который отметил особый характер произведения Хлебникова:
ангези» — свод научных разработок и поэтических озарений Хлебникова. Несомненный шедевр излёта его жизни, этот литературный памятник оказался ретроспективой всего творчества поэта. Некоторые критики, ушибленные, если можно так сказать, “содержанием”, забывают, что «Зангези» — пьеса, отчасти пьеса без действия, но свершившийся сценический факт. Говоря о неудаче постановки Татлина в Музее художественной культуры (май 1923), С. Юткевич приводит наблюдение Н. Пунина, который отметил особый характер произведения Хлебникова:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()