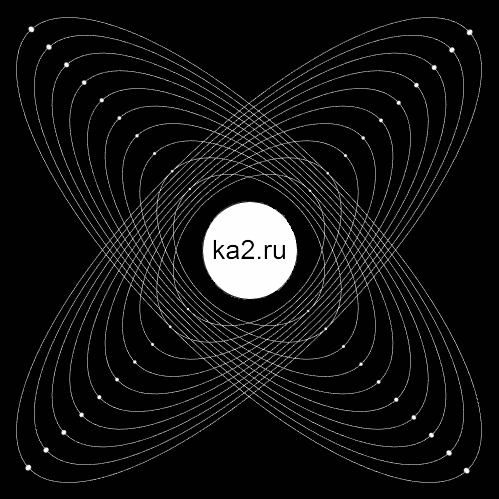Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Продолжение. Предыдущая глава: 
Глава II
“Уложение о поэзии” Хлебникова: от замысла к своду законов
Сопутствующие обстоятельства
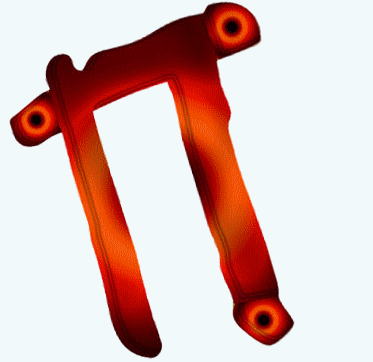
оэтическая биография грешит произволом её составителя; вероятно, поэтому не особенно и нужна.
1
Предпринятый нами обзор
ведавы* Хлебникова (обретшей равновесие, если не совершенство, в грандиозной
сверхповести «Зангези») — более-менее представительная выборка из “послужного списка”. Далее следует доказать (или опровергнуть) единство законов развития этой системы во времени, а затем наметить её силовые линии. Творческий путь Хлебникова от его первых опытов до «Зангези» мы проследили; попробуем показать становление поэта как
дея деес, т.е. драматурга. Возможно, система — или, по крайней мере, её замысел, — полнее раскроется именно там, на подмостках
созерцога.
“Литературную колыбель” Хлебникова (1905–1910) принято называть “символизмом”,2 причём “символизмом второй свежести”.3
причём “символизмом второй свежести”.3 Эта дряхлеющая учарня, с её поисками путей дальнейшего развития (или обновления) при сохранении верности некогда передовым идеалам, и “вскормила” Хлебникова. Поэтические приёмы и символистская “идеология” довольно рано утратили для поэта привлекательность; он числился “вольнослушателем” из корысти, в надежде обнародовать в журнале «Аполлон»4
Эта дряхлеющая учарня, с её поисками путей дальнейшего развития (или обновления) при сохранении верности некогда передовым идеалам, и “вскормила” Хлебникова. Поэтические приёмы и символистская “идеология” довольно рано утратили для поэта привлекательность; он числился “вольнослушателем” из корысти, в надежде обнародовать в журнале «Аполлон»4 произведения, где матрица его дальнейшего творчества уже очевидна. Обладай Хлебников меньшими одарённостью и смелостью, он так и плёлся бы в хвосте “символизма” заурядным эпигоном.5
произведения, где матрица его дальнейшего творчества уже очевидна. Обладай Хлебников меньшими одарённостью и смелостью, он так и плёлся бы в хвосте “символизма” заурядным эпигоном.5 Кончилось тем, что именно в тот момент (1910–1912), когда “символизм” — и как “любомудрие”, и как поэтическая практика — переживал, вследствие внешних нападок и внутреннего раздрая, жестокий кризис, Хлебников с ним порвал. Таким образом, его расставание с былыми наставниками выходит далеко за рамки житейского анекдота,6
Кончилось тем, что именно в тот момент (1910–1912), когда “символизм” — и как “любомудрие”, и как поэтическая практика — переживал, вследствие внешних нападок и внутреннего раздрая, жестокий кризис, Хлебников с ним порвал. Таким образом, его расставание с былыми наставниками выходит далеко за рамки житейского анекдота,6 оказываясь важной подробностью судьбы всеучбища изящной словесности: появлением дочерних учарен, яростно отстаивающих своё право на читателя в противостоянии диктату “символизма” и, шире, классицизма. Уяснить начальный этап создания хлебниковского “уложения о поэзии” (1910–1912) — значит понять одновременно и направленность устремлений поэта, и подлинную причину отмежевания от “властителей дум”, и цель примыкания к столь известному ныне “течению”, порождённому злосчастной исторической случайностью. На этой учарне красуется нелепый ярлык, который мы примем на временной основе, чтобы в дальнейшем оспорить его правомерность. Попав в орбиту “футуризма” тем же естественным образом, каким он некогда примкнул к “символистам”, Хлебников, по-видимому, надеялся найти в новом окружении то, что предыдущему не было свойственно.7
оказываясь важной подробностью судьбы всеучбища изящной словесности: появлением дочерних учарен, яростно отстаивающих своё право на читателя в противостоянии диктату “символизма” и, шире, классицизма. Уяснить начальный этап создания хлебниковского “уложения о поэзии” (1910–1912) — значит понять одновременно и направленность устремлений поэта, и подлинную причину отмежевания от “властителей дум”, и цель примыкания к столь известному ныне “течению”, порождённому злосчастной исторической случайностью. На этой учарне красуется нелепый ярлык, который мы примем на временной основе, чтобы в дальнейшем оспорить его правомерность. Попав в орбиту “футуризма” тем же естественным образом, каким он некогда примкнул к “символистам”, Хлебников, по-видимому, надеялся найти в новом окружении то, что предыдущему не было свойственно.7 Тем более любопытно вскрыть причины, побудившие товарищей по группе провозгласить Хлебникова своим вождём, а его произведения — высокими образцами искусства, которому эти новаторы присягнули. Иными словами, следует разобраться в том, чтó сподвижники находили в Хлебникове “футуристского”, дабы не считать недоразумением последующий провал его как лидера. Хлебников покончил с “футуризмом” точно так же, как преодолел “символизм”: идя своим путём поверх учарни, где были не прочь приспособить его идеи к своим доктринам, а имя использовать в литературной борьбе.
Тем более любопытно вскрыть причины, побудившие товарищей по группе провозгласить Хлебникова своим вождём, а его произведения — высокими образцами искусства, которому эти новаторы присягнули. Иными словами, следует разобраться в том, чтó сподвижники находили в Хлебникове “футуристского”, дабы не считать недоразумением последующий провал его как лидера. Хлебников покончил с “футуризмом” точно так же, как преодолел “символизм”: идя своим путём поверх учарни, где были не прочь приспособить его идеи к своим доктринам, а имя использовать в литературной борьбе.
Итак, 1908–1915 гг. — время приумножения хлебниковской ведавы последовательно в среде (и в рамках) двух основных поэтических течений тех лет, “символизма” и “футуризма”. Безостановочное движение это привело к созданию свода законов, новизна которых ошеломила (восхитила | оттолкнула | воодушевила) современников. Годы, последовавшие за “футуристским” вождебном (1913–1915),8 довершили чистовую отделку9
довершили чистовую отделку9 системы, искавшей полноты раскрытия в динамичной композиции, основанной на изъяснении языковыми пластами, где театральная форма увенчала их синтез.
системы, искавшей полноты раскрытия в динамичной композиции, основанной на изъяснении языковыми пластами, где театральная форма увенчала их синтез.
Порождающая система: символизм
Поговорим об окружающей Хлебникова в годы его самоопределения литературной среде и её особенностях. Как уже сказано, “управой благочиния”, которая о ту пору навязывала своё понимание поэзии и направляла искания
надеев, был “символизм”, господствующее положение которого во второй половине десятилетия 1900–1910 гг., несмотря на последствия кризиса, вызванного первой русской революцией,
 10
10 сомнению не подлежит. Мы никоим образом не претендуем на то, чтобы дать здесь исчерпывающую картину движения, не менее многоликого, чем “футуризм”. Наша цель — понять, чем Хлебников обязан “мэтрам”, и выяснить подробности отпочкования его системы от материнской. Не умаляя новаторского гения Хлебникова, стоит напомнить, что любая поэтическая
двигава начинается с противодействия
верхарне, понимаемой как препятствие самостоятельному развитию. Возрастание Хлебникова в среде “символизма” выглядит попыткой достичь если не признания, то хотя бы поощрения; далее следует разрыв и
всеможие.
Русский символизм11 первейшую задачу свою видел в духовном обновлении литературы, что предполагало решительный отпор материализму,12
первейшую задачу свою видел в духовном обновлении литературы, что предполагало решительный отпор материализму,12 (наследнику позитивизма), законодателю образа мысли образованных классов страны во второй половине XIX века. В начале нового столетия настроения русского
умнечества претерпели существенные изменения вследствие неудач революционного движения.13
(наследнику позитивизма), законодателю образа мысли образованных классов страны во второй половине XIX века. В начале нового столетия настроения русского
умнечества претерпели существенные изменения вследствие неудач революционного движения.13 “Символистская” теория, включая зовавы и желаи, где их авторы с тем или иным успехом пытались определить суть движения,14
“Символистская” теория, включая зовавы и желаи, где их авторы с тем или иным успехом пытались определить суть движения,14 ставили во главу угла эстетические и духовные ценности,15
ставили во главу угла эстетические и духовные ценности,15 более четверти века небрегаемые вследствие полного подчинения искусства внешним целям, когда политико-социальная можба определяла качество произведения16
более четверти века небрегаемые вследствие полного подчинения искусства внешним целям, когда политико-социальная можба определяла качество произведения16 (и его полезность для читателя/зрителя). Провозвестником “символизма” — никоим образом не претендовавшим на это, кстати говоря — считается Д.С. Мережковский. Его эссе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»17
(и его полезность для читателя/зрителя). Провозвестником “символизма” — никоим образом не претендовавшим на это, кстати говоря — считается Д.С. Мережковский. Его эссе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»17 положило начало перевороту во вкусовых пристрастиях русской читающей публики на излёте XIX века. Любопытно отметить, что некоторые рассуждения Мережковского, направленные против предзаданности литературы и лежащего в её основе мировоззрения, будут подхвачены двумя десятилетиями позже будетлянами в их теоретических опусах и воззваниях. Указывая на банальность современной критики, упадок языка и ничтожность словесности (следствие, по мнению Мережковского, засилья бездарных моралистов), автор сетовал на небрежение „народным творчеством”18
положило начало перевороту во вкусовых пристрастиях русской читающей публики на излёте XIX века. Любопытно отметить, что некоторые рассуждения Мережковского, направленные против предзаданности литературы и лежащего в её основе мировоззрения, будут подхвачены двумя десятилетиями позже будетлянами в их теоретических опусах и воззваниях. Указывая на банальность современной критики, упадок языка и ничтожность словесности (следствие, по мнению Мережковского, засилья бездарных моралистов), автор сетовал на небрежение „народным творчеством”18 и полагал „свежую струю” XIX века (Тютчев, Тургенев, Гончаров, Достоевский) залогом реванша идеалистических воззрений. В выражениях, предвосхищавших эскапады Хлебникова (но у Хлебникова острие атаки будет направлено против... символистов!19
и полагал „свежую струю” XIX века (Тютчев, Тургенев, Гончаров, Достоевский) залогом реванша идеалистических воззрений. В выражениях, предвосхищавших эскапады Хлебникова (но у Хлебникова острие атаки будет направлено против... символистов!19 ), Мережковский противопоставляет утилитарной речи “народников” красоту языка, столь чтимую низами общества (искусство, по мнению Мережковского, отождествляется с жизнью, русский язык — с народом, который его создаёт для своих нужд):
), Мережковский противопоставляет утилитарной речи “народников” красоту языка, столь чтимую низами общества (искусство, по мнению Мережковского, отождествляется с жизнью, русский язык — с народом, который его создаёт для своих нужд):
‹...› Сам народ, который всё-таки больше страдает, чем за него страдают, не стыдится красоты, а любит её, как жизнь, как свободу, как свою силу, как хлеб насущный. Красота для него вовсе не роскошь и не отдых, она для него — солнце жизни, вдохновение в его песнях, молитва в его страданиях.
О нет, он не стыдится красоты. И, право же, народ поёт весну и цветы, и красные зори, и даже ласку милой, всё, что в жизни сладко, все дары Божии, поёт не хуже, а гораздо лучше, сильнее и музыкальнее, чем, напр., Фет, столь нелюбимый народниками. И заметьте, что ведь поёт он их именно бескорыстно, не думая ни об идее, ни о пользе, а чувствуя блаженство красоты и освобождения от земных цепей.
20
‹...› Кто поймёт и полюбит красоту в Пушкине, тот полюбит не что-то чужое, далёкое и враждебное народу, а самую душу русского языка, т.е. русского народа. Как всё великое, как всё живое, красота не отдаляет нас от народа, а приближает к нему, делает нас причастными глубочайшим сторонам его духовной жизни. Бояться или стыдиться красоты во имя любви к народу — безумие.
21
Следствием разоблачения “предательства”, в котором якобы повинна русская литература, стал призыв вернуть художественному слову непредвзятость, странным образом опередивший воззвания “футуристов”:
‹...› Слово только тогда достигает полноты своего действия, когда оно само для себя награда и цель, для них же слово — только орудие для работы или меч для борьбы, а цель — сама жизнь, т.е. действие воли на волю других людей.
22
Наконец, в эссе Мережковского даётся первое определение тому, что станет десятью годами позже “верительной грамотой” символистского искусства и “родовой отметиной” его творцов:
‹...› Подобного лирика привлекает не сама природа, а то, что лежит там, за пределом её. Как неловко он смешивает черты пейзажа, подмеченные где-нибудь на Чёрной Речке и в Новой Деревне, с фантастическими оттенками своего внутреннего мира, с царством фей. Все предметы, все явления для него в высшей степени прозрачны. Он смотрит на них, как на одушевлённые иероглифы, как на живые символы, в которых скрыта божественная тайна мира. К ней одной он стремится, её одну он поёт! В современной, бездушной толпе это больше, чем мистик, это — ясновидящий, один из тех редких и странных людей, которых древние называли vates.
23
Однако в порядке мудрой осторожности автор не торопится объявлять предчувствие надвигающихся перемен “литературным течением”:
‹...› Это течение, лучше сказать, эта смутная потребность целого поколения, едва определившаяся, почти не выраженная словами, возникла не из метафизических обобщений, а прямо из живого сердца, из глубины современного общеевропейского и русского духа. Я даже не знаю, можно ли назвать эту потребность — литературным течением. Это скорее только первая подземная струйка вешней воды, слабая и жизненная.
24
Разумеется, «О принципах...» знаменует самое начало движения, „оттепель”;
25
Мережковский возвещает весну русской духовности, не более того. И всё же “символизм”, несмотря на последующие попытки его истолкования, оказался движением, базисные понятия которого — в отличие от “постсимволистских” “акмеизма” и “футуризма” — весьма расплывчаты: налицо не теория, а теории; манифесты немногочисленны и внятностью не блещут.
26
Да, “символисты” из числа властителей дум оставили потомкам ряд ценных теоретических трудов и художественных шедевров, но то, что их объединяло, думается, правильнее понимать как “деятельную тоску” по “золотому веку” русской словесности, достижения которого были забыты на десятилетия или, в лучшем случае, считались пустяками относительно задач социальной значимости. Уместнее говорить о “поветрии” в интеллектуальной жизни
27
российского общества на переломе XIX–XX вв., которое к концу первого десятилетия уже задавало тон в литературе. Увы, название движения, как обычно, работает против него самого: во-первых, создаёт видимость выверенной
лýчшади,
28
во-вторых, наводит на мысль о стороннем заимствовании.
29
Последнее, кстати говоря, справедливо: русский символизм — дитя обновления европейской эстетики середины XIX века. Движение, охватившее культурную элиту страны в конце XIX века, напоминает искания в духе Бодлера,
30
с неизбежностью отсылающие к “модернизму” антиромантического толка.
31
Однако “символизм” понимать только таким образом едва ли правомерно. Если в Германии этот “новосёл” освоился с наследием немецкой идеалистической философии в степени, достаточной для истребования себе
можéли мировоззрения, то на русской почве, сохранив в своём названии первоначальный оттенок антиромантизма,
32
“символизму” эту предзаданность предстояло не просто изжить, а превратиться в нечто большее, нежели очередная
учарня.
33
Так оно и случилось: дополненный германской философией, западноевропейский символизм возродил в России тягу к духовному наследию, попранному позитивизмом, напомнил о сокровищнице православной религиозно-философской мысли34 и подвиг к освоению (что проявилось, главным образом, в “переводческом запое” Мережковского, Брюсова, Сологуба, Анненского и Вяч. Иванова) довизантийского эллинизма, памятники мысли которого первые священнослужители христианизированной Руси сочли неприемлемыми при пересадке византийской культуры на русскую почву.35
и подвиг к освоению (что проявилось, главным образом, в “переводческом запое” Мережковского, Брюсова, Сологуба, Анненского и Вяч. Иванова) довизантийского эллинизма, памятники мысли которого первые священнослужители христианизированной Руси сочли неприемлемыми при пересадке византийской культуры на русскую почву.35 Благодаря сведéнию воедино разнородных волитв и верух, почерпнутых из весьма и весьма отдалённого прошлого, России довелось пережить ренессанс36
Благодаря сведéнию воедино разнородных волитв и верух, почерпнутых из весьма и весьма отдалённого прошлого, России довелось пережить ренессанс36 именно в том смысле, какой этому термину придают на Западе.37
именно в том смысле, какой этому термину придают на Западе.37 Православная Русь напиталась византийским “соком”, не усвоив античного наследия Восточной Римской империи. По своему цивилизационному типу (политика, идеология, философия, эстетика, изобразительное искусство) Россия представляла бы слепок Византии, не знай та Эллады.38
Православная Русь напиталась византийским “соком”, не усвоив античного наследия Восточной Римской империи. По своему цивилизационному типу (политика, идеология, философия, эстетика, изобразительное искусство) Россия представляла бы слепок Византии, не знай та Эллады.38 Именно через латинизированный Запад, благодаря европейскому направлению культурной политики государства в XVIII веке (классицизм в искусстве), Россия открыла для себя античность поры её расцвета; предстоял долгий путь39
Именно через латинизированный Запад, благодаря европейскому направлению культурной политики государства в XVIII веке (классицизм в искусстве), Россия открыла для себя античность поры её расцвета; предстоял долгий путь39 к византийско-языческому возрождению конца XIX – начала XX вв., к восприятию культурного наследия Древней Греции во всей его полноте. “Символизм” — иносказание попытки слияния этих “подземных рек” русской культуры.
к византийско-языческому возрождению конца XIX – начала XX вв., к восприятию культурного наследия Древней Греции во всей его полноте. “Символизм” — иносказание попытки слияния этих “подземных рек” русской культуры.
Итак, русский символизм40 — нечто гораздо большее, нежели просто учарня, просто литературное движение. “Декаданс”41
— нечто гораздо большее, нежели просто учарня, просто литературное движение. “Декаданс”41 (правильнее сказать, “декадентизм”), с которым его часто путают, не более чем заёмный извод французского символизма (французского “декадентства”), с порога отвергнутый россиянами как бесплодный и унизительный плагиат. “Символизм” представляет собой способ восприятия, эстетику (которая сама по себе является существенным элементом мировоззрения), направление духовных исканий, взгляд на мироустройство. Его “любомудрие” заимствует у немецкого неокантианства, средневековой эзотерики, мистики,42
(правильнее сказать, “декадентизм”), с которым его часто путают, не более чем заёмный извод французского символизма (французского “декадентства”), с порога отвергнутый россиянами как бесплодный и унизительный плагиат. “Символизм” представляет собой способ восприятия, эстетику (которая сама по себе является существенным элементом мировоззрения), направление духовных исканий, взгляд на мироустройство. Его “любомудрие” заимствует у немецкого неокантианства, средневековой эзотерики, мистики,42 оккультизма,43
оккультизма,43 у Шопенгауэра, Ницше,44
у Шопенгауэра, Ницше,44 Бергсона,45
Бергсона,45 и, одновременно, у русского православия и древней религиозной мысли (Платон и неоплатонизм, языческий и христианский гнозис, греческие46
и, одновременно, у русского православия и древней религиозной мысли (Платон и неоплатонизм, языческий и христианский гнозис, греческие46 и ближневосточные мистериальные культы...). Вл. Соловьёв47
и ближневосточные мистериальные культы...). Вл. Соловьёв47 теоретически обосновал правомерность слияния этого многообразия воедино, а своей поэзией расставил вехи на предназначенном искусству синкретического идеализма пути. Поэзия становится орудием духовной “реконкисты”; отныне на неё возложена миссия скорее навязывать, чем истолковывать мироустройство и жизнь духа. Именно с прицелом на учительство поэтическое искусство “символизма” развивалось на двух уровнях: в теоретической вещете, разделяемой большинством поэтов, причастных к новейшим исканиям, и в поэзии, действительно обновлённой “символистами” и ценимой российским читателем. Главная особенность модерна — образность изложения. Смысл “символистской” поэзии сводится к следующему: она совсем не то, чем кажется, поскольку истина пребывает где-то “там”, вне стихотворения; внятность, согласно Вяч. Иванову («Альпийский рог»48
теоретически обосновал правомерность слияния этого многообразия воедино, а своей поэзией расставил вехи на предназначенном искусству синкретического идеализма пути. Поэзия становится орудием духовной “реконкисты”; отныне на неё возложена миссия скорее навязывать, чем истолковывать мироустройство и жизнь духа. Именно с прицелом на учительство поэтическое искусство “символизма” развивалось на двух уровнях: в теоретической вещете, разделяемой большинством поэтов, причастных к новейшим исканиям, и в поэзии, действительно обновлённой “символистами” и ценимой российским читателем. Главная особенность модерна — образность изложения. Смысл “символистской” поэзии сводится к следующему: она совсем не то, чем кажется, поскольку истина пребывает где-то “там”, вне стихотворения; внятность, согласно Вяч. Иванову («Альпийский рог»48 ), отнюдь не сверхцель. Поэзия — шифр.49
), отнюдь не сверхцель. Поэзия — шифр.49 Материальность “символистского” читьбища сродни зеркальной поверхности,50
Материальность “символистского” читьбища сродни зеркальной поверхности,50 в которой отражаются Истина и то, что называется, по мнению авторов, Богом, Духом, Красотой, Добром и Непреходящими Ценностями. Встав на борьбу с отчуждением, которым грешила “народническая” поэзия предыдущего столетия, “символисты” вновь поработили её чему-то внешнему: изящная словесность, как некогда философия, стала служанкой теологии. Поэтическая техника,51
в которой отражаются Истина и то, что называется, по мнению авторов, Богом, Духом, Красотой, Добром и Непреходящими Ценностями. Встав на борьбу с отчуждением, которым грешила “народническая” поэзия предыдущего столетия, “символисты” вновь поработили её чему-то внешнему: изящная словесность, как некогда философия, стала служанкой теологии. Поэтическая техника,51 доведённая до пределов совершенства, — не более чем трамплин для прыжка к тому, что неизмеримо выше плетения словес!52
доведённая до пределов совершенства, — не более чем трамплин для прыжка к тому, что неизмеримо выше плетения словес!52 Поэзия “символистов”, как видим, противоречива донельзя: она и есть, и её нет. Выражаясь языком Платона, ущербная подмена совершенной сущности стремится прослыть иподигмой приближения к истине. Это следствие гносеологического выбора: инесá (Божественное, Бытие, Истина и т.д.) могут быть выражены только в мифе или метафоре. Поэзия позволяет покорить пространство/время, используя обходной путь мифа.53
Поэзия “символистов”, как видим, противоречива донельзя: она и есть, и её нет. Выражаясь языком Платона, ущербная подмена совершенной сущности стремится прослыть иподигмой приближения к истине. Это следствие гносеологического выбора: инесá (Божественное, Бытие, Истина и т.д.) могут быть выражены только в мифе или метафоре. Поэзия позволяет покорить пространство/время, используя обходной путь мифа.53 Даже с точки зрения “символистов”, их искусство осуждает самое себя, утрачивая всякую независимость; стихотворение — та же икона или иерограмма, созерцание которой возвышает до лицезрения невидимого. “Символистская” поэзия заявляет онтологическую претензию на священнодействие.54
Даже с точки зрения “символистов”, их искусство осуждает самое себя, утрачивая всякую независимость; стихотворение — та же икона или иерограмма, созерцание которой возвышает до лицезрения невидимого. “Символистская” поэзия заявляет онтологическую претензию на священнодействие.54 “Символисту” положено верить, что бытовая подробность вредит искусству. Таким образом, “символистское” мировоззрение порождает совокупность эмоций и представлений (эстетику), отрицающую значимость художественного произведения как такового.55
“Символисту” положено верить, что бытовая подробность вредит искусству. Таким образом, “символистское” мировоззрение порождает совокупность эмоций и представлений (эстетику), отрицающую значимость художественного произведения как такового.55 Вот почему музыкальная парадигма56
Вот почему музыкальная парадигма56 играет столь значительную роль в “символистской” словесности. Поэтическая речь здесь тяготеет к музыкальному идеалу; смысл смывается переливами звуков речи, “мелодии понятий” струятся поверх препон, чинимых разумом. Мировоззрение властно предписывает поэту приёмы его искусства, ставя целью наиболее совершенное изображение невообразимого. “Символистское” искусство сбивается на религию, стихотворение оборачивается молитвой.
играет столь значительную роль в “символистской” словесности. Поэтическая речь здесь тяготеет к музыкальному идеалу; смысл смывается переливами звуков речи, “мелодии понятий” струятся поверх препон, чинимых разумом. Мировоззрение властно предписывает поэту приёмы его искусства, ставя целью наиболее совершенное изображение невообразимого. “Символистское” искусство сбивается на религию, стихотворение оборачивается молитвой.
Такого рода предзаданность подразумевает вполне определённые выпыты (жанры); думается, именно драма наилучшим образом отвечает замыслу “отцов-основателей” “символизма”. Драма (говоряна),57 в особенности драма духовная (мистерия), вполне соответствует “сборной солянке” русского символизма: в ней сосуществуют дионисийский культ, греческая трагедия,58
в особенности драма духовная (мистерия), вполне соответствует “сборной солянке” русского символизма: в ней сосуществуют дионисийский культ, греческая трагедия,58 западноевропейская средневековая мистерия, русское игралие XVI–XVII веков, вагнеровская лирическая драма и ницшеанская философия. Из них-то и “возведён” храм общечеловеческой культуры, о которой грезили “символисты”. Духовная драма (она же лирическая драма, мистерия, священный фарс — взаимозаменяемые, по Блоку, термины59
западноевропейская средневековая мистерия, русское игралие XVI–XVII веков, вагнеровская лирическая драма и ницшеанская философия. Из них-то и “возведён” храм общечеловеческой культуры, о которой грезили “символисты”. Духовная драма (она же лирическая драма, мистерия, священный фарс — взаимозаменяемые, по Блоку, термины59 ) есть высшая форма поэтического искусства как священнодействия.60
) есть высшая форма поэтического искусства как священнодействия.60 Перевернув эту формулу, увидим, что “символистское” поэтическое искусство тождественно попытке раскрытия онтологической “тайны” в адекватной религиозной форме.61
Перевернув эту формулу, увидим, что “символистское” поэтическое искусство тождественно попытке раскрытия онтологической “тайны” в адекватной религиозной форме.61 Русская “мистерия”62
Русская “мистерия”62 заимствует и название, и смысл у латинского Запада, язык — у православного Востока, темы — у дионисийского неоязычества. Неубедительности проекта удивляться не приходится: иного, чем сшитое на скорую руку лоскутное одеяло (византийская ортодоксия, латинское католичество, эзотерика гуманистического пошиба, музыкальное неоязычество германского гения), едва ли следовало ждать. Особенно удручают в “символистской” драме высосанные из пальца тематика и язык:63
заимствует и название, и смысл у латинского Запада, язык — у православного Востока, темы — у дионисийского неоязычества. Неубедительности проекта удивляться не приходится: иного, чем сшитое на скорую руку лоскутное одеяло (византийская ортодоксия, латинское католичество, эзотерика гуманистического пошиба, музыкальное неоязычество германского гения), едва ли следовало ждать. Особенно удручают в “символистской” драме высосанные из пальца тематика и язык:63 творцы искусства, неподвластного времени (или того, что выдавалось за неподвластность) заняты расстановкой и взаимодействием особ,64
творцы искусства, неподвластного времени (или того, что выдавалось за неподвластность) заняты расстановкой и взаимодействием особ,64 изъясняющихся на иератическом языке византийского (церковнославянского) эллинизма. В итоге “символистские” созерцины лишаются даже намёка на жизнеподобие, оказываясь мертвóбой, а не чаемым пантеоном65
изъясняющихся на иератическом языке византийского (церковнославянского) эллинизма. В итоге “символистские” созерцины лишаются даже намёка на жизнеподобие, оказываясь мертвóбой, а не чаемым пантеоном65 мировой культуры. В заботах о вечном создатели такого рода зрелищ брезгуют преходящим, т.е. самой жизнью. Бьющая через край грезюга заставляет подозревать её надуманность.66
мировой культуры. В заботах о вечном создатели такого рода зрелищ брезгуют преходящим, т.е. самой жизнью. Бьющая через край грезюга заставляет подозревать её надуманность.66 Сокрушительный удар по “символистской” поэтике67
Сокрушительный удар по “символистской” поэтике67 нанёс убийственный приговор:68
нанёс убийственный приговор:68 за “дымовой завесой” призрачности стоит небытие. И действительно, загробная жизнь притягивала воображение грезничих от “символизма” как мало что другое. В этом, очевидно, и кроется ущербность их искусства, низведённого до уровня риторики. Неспроста именно художники69
за “дымовой завесой” призрачности стоит небытие. И действительно, загробная жизнь притягивала воображение грезничих от “символизма” как мало что другое. В этом, очевидно, и кроется ущербность их искусства, низведённого до уровня риторики. Неспроста именно художники69 первыми отвергли фигуративную живопись и тщетность любых притязаний70
первыми отвергли фигуративную живопись и тщетность любых притязаний70 на достоверность изображения: при этом “революция” совершилась хотя и вопреки, но в рамках канона. Подобным же образом произошёл и разрыв71
на достоверность изображения: при этом “революция” совершилась хотя и вопреки, но в рамках канона. Подобным же образом произошёл и разрыв71 с поэтической постылью тех, кто внимательно следил за сменой парадигмы в живописи, даже если эти поэты были профессиональными художниками или, подобно Велимиру Хлебникову, знатоками живописи.72
с поэтической постылью тех, кто внимательно следил за сменой парадигмы в живописи, даже если эти поэты были профессиональными художниками или, подобно Велимиру Хлебникову, знатоками живописи.72
“Пробы пера” Хлебникова отмечены восторженно принятым им наставничеством двух ведущих представителей “символистского” эклектизма и абстракционизма, Вяч. Иванова73 и М. Кузмина, и отзываются внимательным чтением Ф. Сологуба и А.Н. Толстого.74
и М. Кузмина, и отзываются внимательным чтением Ф. Сологуба и А.Н. Толстого.74 Всё это предполагает ученическое подражание,75
Всё это предполагает ученическое подражание,75 но устрашающая надуманность такого подозрения снимается правильной постановкой вопроса. Слова ‘влияние’ и ‘подражание’ скрадывают в высшей степени плодотворное недоумение: где и каким образом от материнской поэтической системы отделяется дочерняя? Отследить такие “роды” — значит вникнуть в сложное явление литературной пародии,76
но устрашающая надуманность такого подозрения снимается правильной постановкой вопроса. Слова ‘влияние’ и ‘подражание’ скрадывают в высшей степени плодотворное недоумение: где и каким образом от материнской поэтической системы отделяется дочерняя? Отследить такие “роды” — значит вникнуть в сложное явление литературной пародии,76 исследованной Ю. Тыняновым на примере зависимости молодого Достоевского от гоголевской модели.77
исследованной Ю. Тыняновым на примере зависимости молодого Достоевского от гоголевской модели.77 Разочарование Хлебникова в “символизме” видно не столько в прокламациях и манифестах поры его “гилейской” воинственности, сколько в том, кáк в своих первых опытах (использованных будетлянами в качестве полемических аргументов, хотя то же «Заклятие смехом» сочинено, когда русского футуризма не было и в помине...), он оттачивал свою ведаву, следуя одним заветам “символизма” и отвергая другие: само значение термина пародия охватывает два, казалось бы, противоположных подхода. Разумеется, то, что Хлебников обвинял своих учителей в западничестве, в забвении народа, для которого должен писать поэт, и в наплевательском отношении к вековому опыту отечественной словесности,78
Разочарование Хлебникова в “символизме” видно не столько в прокламациях и манифестах поры его “гилейской” воинственности, сколько в том, кáк в своих первых опытах (использованных будетлянами в качестве полемических аргументов, хотя то же «Заклятие смехом» сочинено, когда русского футуризма не было и в помине...), он оттачивал свою ведаву, следуя одним заветам “символизма” и отвергая другие: само значение термина пародия охватывает два, казалось бы, противоположных подхода. Разумеется, то, что Хлебников обвинял своих учителей в западничестве, в забвении народа, для которого должен писать поэт, и в наплевательском отношении к вековому опыту отечественной словесности,78 показывает разницу в менталитете “символистов” и “футуристов”, чем не следует пренебрегать в оценке будетлянской “идеологии”.79
показывает разницу в менталитете “символистов” и “футуристов”, чем не следует пренебрегать в оценке будетлянской “идеологии”.79 Но сам этот факт никоим образом не проясняет смысла литературной борьбы, которая шла в том же, разумеется, направлении, но своими путями. Ими-то и следует заняться, дабы понять, ради чего узаконенный поэтический дискурс — пользуясь выражением Р. Якобсона,80
Но сам этот факт никоим образом не проясняет смысла литературной борьбы, которая шла в том же, разумеется, направлении, но своими путями. Ими-то и следует заняться, дабы понять, ради чего узаконенный поэтический дискурс — пользуясь выражением Р. Якобсона,80 исходный дискурс — Хлебников “разъял” и затем сложил пазл новой системы, которую впоследствии, увы, назвали “футуристской”. Мы предлагаем анализ её становления на примере трёх произведений “символистского” периода: «Снежимочка», «Маркиза Дэзес» и «Девий бог».81
исходный дискурс — Хлебников “разъял” и затем сложил пазл новой системы, которую впоследствии, увы, назвали “футуристской”. Мы предлагаем анализ её становления на примере трёх произведений “символистского” периода: «Снежимочка», «Маркиза Дэзес» и «Девий бог».81 Рассматривая их, мы обнаружим, что Хлебников уже тогда заложил основы того нового поэтического искусства, благодаря которому впоследствии был признан “пионером русского футуризма”.
Рассматривая их, мы обнаружим, что Хлебников уже тогда заложил основы того нового поэтического искусства, благодаря которому впоследствии был признан “пионером русского футуризма”.
Первые шаги дея деес.
а) анализ «Снежимочки»
Рождественская сказка «Снежимочка»
82
значилась в намётках репертуара театра «Будетлянин» наряду с «Железной дорогой» Маяковского и оперой «Победа над солнцем» Кручёных.
83
Пьеса эта, с точки зрения
будетлянского ареопага, должна была достаточно отличаться от “символистской” драмы, что позволило бы ей выдержать соседство двух других, внешне более “продвинутых” по языку и замыслу. При ближайшем рассмотрении видим, что «Снежимочка» вписывается в
речеложе как “символистской” драмы,
84
так и обработок фольклорных и мифологических сюжетов, предпринятых в XIX веке Пушкиным и Островским.
85
Достаточно сказать, что на обложке тетради с текстом пьесы Хлебников зачеркнул первоначальное
Снежимочка — Рождественская сказка — Подражание Островскому.
86
Цель исправления состоит в отказе от слова
подражание, надо полагать. Хлебников понимал, что его пьеса — нечто гораздо большее, нежели банальный перепев «Снегурочки» Островского, даже если «Снежимочка» изначально и задумывалась “на манер” (“манера” автора перерабатывает выбранный им “материал”, который зачастую оказывается “манерой” предшественника).
Пьеса Островского «Снегурочка» представляет собой литературную обработку87 сюжета, заимствованного из русского фольклора. Народные песни, эпический ритм «Слова о полку Игореве», былины, деревенские языческие праздники с обрядовыми песнями — всё это служит раскрытию драматической темы, независимой от перечисленного выше.
сюжета, заимствованного из русского фольклора. Народные песни, эпический ритм «Слова о полку Игореве», былины, деревенские языческие праздники с обрядовыми песнями — всё это служит раскрытию драматической темы, независимой от перечисленного выше.
Действием движет незамысловатое волебрó персонажей: сыновняя почтительность, материнская любовь, ревность, любовь, злоба...88 Подробности, которые, казалось бы, наименее всего годятся для драматической сценографии (Лель, Масленица, Ярилин день), всё же встраиваются в неё, хотя причиняют неудобства некоторой поэтической томностью,89
Подробности, которые, казалось бы, наименее всего годятся для драматической сценографии (Лель, Масленица, Ярилин день), всё же встраиваются в неё, хотя причиняют неудобства некоторой поэтической томностью,89 иногда замедляющей ход событий до полной остановки. Речь о феерических интермедиях с подлинными народными песнями, заимствованными из песенников и этнографических сборников (пролог, явление первое: «Хор птиц»; явление четвёртое: «Хор берендеев» | действие первое, явление третье: «Песня Леля» | действие третье, явление первое: «Песни и хороводы молодых берендеев»; «Песня Брусило» | действие четвёртое, явление четвёртое: «Общий хор»). В опере Римского-Корсакова90
иногда замедляющей ход событий до полной остановки. Речь о феерических интермедиях с подлинными народными песнями, заимствованными из песенников и этнографических сборников (пролог, явление первое: «Хор птиц»; явление четвёртое: «Хор берендеев» | действие первое, явление третье: «Песня Леля» | действие третье, явление первое: «Песни и хороводы молодых берендеев»; «Песня Брусило» | действие четвёртое, явление четвёртое: «Общий хор»). В опере Римского-Корсакова90 со всей силой, на какую только способно музыкальное искусство, раскрыты моменты поэтического очарования: это именно те места в произведении, где Островский даёт слово былинам, ритуальным распевам, старинным народным песням — короче говоря, где он с наибольшей осмотрительностью вмешивается в язык и особый строй русской народной речи, названный драматургом „эпическим ритмом”. «Снегурочка» Островского — в полном смысле слова “вариация на народную тему”.
со всей силой, на какую только способно музыкальное искусство, раскрыты моменты поэтического очарования: это именно те места в произведении, где Островский даёт слово былинам, ритуальным распевам, старинным народным песням — короче говоря, где он с наибольшей осмотрительностью вмешивается в язык и особый строй русской народной речи, названный драматургом „эпическим ритмом”. «Снегурочка» Островского — в полном смысле слова “вариация на народную тему”.
Рождественская сказка «Снежимочка» оказывается полной противоположностью драме, ибо действие развивается по иным, нежели психологическая эволюция персонажей, законам. С другой стороны, исчезает и “тема” как таковая: Хлебников строит говоряну не из русского фольклора, как то было у Островского, а из языка, который, прихотливо развиваясь, создаёт самовитый фольклор, являя свою народность без малейшей стилизации.91 Тем самым Хлебников завершает (или продолжает, но другими способами) то, что Вяч. Иванов провозгласил в эссе «Поэт и чернь»:92
Тем самым Хлебников завершает (или продолжает, но другими способами) то, что Вяч. Иванов провозгласил в эссе «Поэт и чернь»:92
Если музыку метко назвали бессознательным упражнением в счету и счислении, то творчество поэта — и поэта-символиста по преимуществу — можно назвать бессознательным погружением в стихию фольклора. Атавистически воспринимает и копит он в себе запас живой старины, который окрашивает все его представления, все сочетания его идей, все его изобретения в образе и выражении.
Символы — переживания забытого и утерянного достояния народной души.
‹...› Истинный символизм должен примирить Поэта и Чернь в большом, всенародном искусстве. Минует срок отъединения. Мы идём тропой символа к мифу. Большое искусство — искусство мифотворческое. Из символа вырастет искони существовавший в возможности миф, это образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского.
Отказ от психологизма как пружины действия и упразднение темы как “путеводителя по содержанию” делают «Снежимочку» наглядным примером того, что Хлебников в
прологе к «Победе над солнцем» назвал
преобразавлем.
93
«Снежимочка» предстаёт сводом лингвистических и поэтических изысканий Хлебникова 1906–1908 гг.94 Славянская мифология95
Славянская мифология95 рождается прямо-таки на глазах, по ходу создания слов от славянских корней:96
рождается прямо-таки на глазах, по ходу создания слов от славянских корней:96
Снезини. A мы любоча хороним... хороним.. А мы беличи-незабудчичи роняем... роняем... (Веют снежинками и кружатся над лежащим неподвижно Снегичем-Маревичем ).
Смехини. А мы, твои посёстры, тебе на помощь... на помощь... на помощь... Из подолов незенных смехом уста засыпем — серебром сыпучим...
Немини. А мы тебе повязку снимем... немину...
Слепини. А мы тебе личину снимем... слепину...
А мы, твои посёстры, тебе на помощь... на помощь...
Снезини. Глянь-ка... глянь-ка: приотверз уста... призасмеялся — приоткрыл глаза — прилукавился. Ой, девоньки, жаруй! (С смехом разбегаются. Их преследует Снегич-Маревич, продолжая игру и оставляя неподвижными тех, кого коснулся).
Березомир. Сколько игр я видел!... Сколько игр... (Поникает в сон) сколько игр...
(1-ое деймо)
В ткань “лингво-сказки” Хлебников вводит
97
несколько экспериментальных четверостиший, подобных множеству известных по его записным книжкам того времени:
98
Дрожит струной
Влажное чёрное руно,
И мучоба
Входит в звучобу ‹...›
‹...›
Крылом вселенновым овеяла
И в тихую мгляность растаяла.
Вселенничей-слезичей сеяла,
И душу прекрасным измаяла.
‹...›
Люд стал лёд.
И хохот правит свой полёт
О, город — из улиц каменный лишай,
Меня, меня не лишай. ‹...›
Игра с корнями, аффиксальные неологизмы, парономазы, рифмы-каламбуры,
внутреннее склонение — вот арсенал поэтических приёмов Хлебникова, ставших “приводными ремнями” драмы при отсутствии даже намёка на психологизм. Если
Снежимочка покидает сельскую местность ради города и там истаивает на глазах зевак, то мотив этого поступка следует искать не в безрассудной тяге молодой крестьянской девушки к городским благам (что было бы равносильно любознательности, заезженному психологизму), но в аллегории,
99
прозрачной
на уровне языка: русская сказка “вплавляется”
100
в городскую речь и как язык, и как тема именно потому, что сливается с этой речью, оплодотворяя её красотой языческих мифов и богатством языка сельской глубинки:
101
Кто-то. Но где же Снежимочка? Снежимочка где?
Рокот. Снежимочка где? Где Снежимочка?
смятение
Руководитель игры (после некоторого промежутка, всходя на помост). Снежимочки нет. Она таинственно исчезла, но то место, где она была, покрыто весенними цветами. Унесите же в руках, как негасимые свечи, разнесите по домам знак таинственного чуда и, может быть...
Голоса многих. Чудо! чудо! Снежимочка растаяла цветами.
Голос удаляющихся. Мы будем помнить её заветы...
(Проходят, наклоняясь, тела благообразных стариц, юношей, детей, и срывают благоговейно длинные голубые цветы;они горят, как свечи
).
В пьесе Островского истаивание Снегурочки и самоубийство Мизгиря встречены всеобщим ликованием и хвалебной песней в финале:
102
Даруй, бог света,
Тёплое лето.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.
Краснопогодное,
Лето хлебородное.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.
В хлебниковской
рождественской сказке на месте развоплощения
Снежимочки вырастают цветы, искони связанные у славян с духовностью, что, вопреки урбанизации быта
103
и в пику наносной вестернизации повторно одухотворяет русский язык:
104
Голоса удаляющихся
Забыли мы, что искóни
Проржали вещие кони.
Благословляй или роси яд,
Но ты останешься одна —
Завет морского дна —
Россия.
Новые голоса удаляющихся
Ушедшая семья морей
Закон предвечный начертала,
Но новою веков зарей
Пора текущая сметала.
Но нами вспомнится, чем были,
Восставим гордость старой были.
И цветень сменит сечень,
И близки, близки сечи.
3-е деймо «Снежимочки» — безоговорочное торжество славянства:
105
действующие лица общаются на языке национальной памяти и культуры. Пылкое славянофильство
106
в виде языческих клятв и поединков — наиболее воинственное выражение антисимволизма Хлебникова в области языка.
107
Переплетение действительности с вымыслом,
108
расхожий приём символистской драматургии, становится дополнительным аргументом литературной полемики: время от времени в пьесе появляются “настоящие” люди (молодой рабочий, барин-охотник, двое собеседников) — “символисты” и “реалисты”, надо полагать; и те, и другие едва ли верят в сказку, в волшебную силу русского языка, возвращаемого самому себе, вырываемого из рабской покорности заёмным образцам
Славодеем, восстановителем
Славии, которой принадлежит будущее (
Будеславль). Сверхцель
Славодея — воссоздание поруганного “западниками-символистами” славянского прошлого во всём его великолепии. Самый трогательный момент «Снежимочки», когда ставки в битве за будущее языка велики как никогда, совпадает с песнью, открывающей
3-е деймо:
109
Я тело чистое несу
И вам, о улицы, отдам.
Его безгрешным донесу
И плахам города предам.
Я жертва чистая расколам,
И, отдаваясь всем распятьям,
Сожгу вас огненным глаголом,
Завяну огненным заклятьем.
Разглагольствования о том, что поэт и жрец едины в одном лице — любимый конёк русских символистов. Но представление о поэте как приносимом в жертву жреце — новшество дочерней по отношению к символизму, но враждебной ему эстетической системы, на которую столь опрометчиво наклеили ярлык “футуризма”.
Ведатай, этот распятый пророк, жертвует себя безъязыкому городу (площадям, улицам), а не благостно священнодействует. Поэт-новатор добровольно сгорает в пламени самовыражения.
110
б) анализ «Девьего бога»
“Переоценка ценностей” символизма и классической драматургии — таков итог работы Хлебникова над
рождественской сказкой «Снежимочка». То же самое наблюдаем и в более позднем произведении «Девий бог».
111
Хлебников так истолковывает эту пьесу:
112
В «Девьем боге» я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, потянутыми от Волги в Грецию. Пользовался славянскими полабскими словами (Леуна).
‹...› Если определять землями, то в «Ка» серебряный звук, в «Девьем боге» золотой звук, в «Детях Выдры» — железно-медный.
Азийский голос «Детей Выдры», славянский «Девьего бога» и африканский Ка.
‹...› «Ка» писал около недели, «Дети Выдры» — больше года, «Девий бог» — без малейшей поправки в течение 12 часов письма, с утра до вечера. Курил и пил крепкий чай. Лихорадочно писал. Привожу эти справки, чтобы показать, как разнообразны условия творчества.
‹...› «Девий бог», как не имеющий ни одной поправки, возникший случайно и внезапно как волна, выстрел творчества, может служить для изучения безумной мысли.
Так же внезапно написан «Чортик», походя на быстрый пожар пластов молчания. Желание “умно”, а не заумно понять слово привело к гибели художественного отношения к слову. Привожу это как предостережение.
(Свояси)
Наиболее ценные указания касаются языка пьесы; но
словотворчество это,
заумный язык или
безумный язык? Вопрос заслуживает изучения, во-первых, с подачи самого Хлебникова
113
(
«Девий бог» ‹...›
может служить для изучения ‹...›); во-вторых, этим, возможно, удастся уяснить одно из самых тёмных мест “уложения о поэзии” великого преобразователя русской словесности —
Будеславль.
Если «Снежимочка» делает нас свидетелями пересмотра классического и символистского понятия драмы и, как следствие, внутренней “славянизации” языка (того, что Хлебников называет своим первым отношением к слову114 ), то «Девий бог» — первая полностью славянская “мистерия” в будетлянском репертуаре. Пародия разворачивается уже не только на сцене, как в «Снежимочке», но и за кулисами: «Девий бог» даёт ответ Хлебникова на вызовы “сработанной под античность” символистской “мистерии”,115
), то «Девий бог» — первая полностью славянская “мистерия” в будетлянском репертуаре. Пародия разворачивается уже не только на сцене, как в «Снежимочке», но и за кулисами: «Девий бог» даёт ответ Хлебникова на вызовы “сработанной под античность” символистской “мистерии”,115 практикуемой Вяч. Ивановым и Ф. Сологубом.
практикуемой Вяч. Ивановым и Ф. Сологубом.
“Мистерия” как форма “символистского” зрелища возникла, о чём сказано выше, в итоге филологических, философских и поэтических поисков целого поколения европейских символистов. В России она способствовала повторному, на более высоком уровне, открытию “любомудрия” Эллады, нагнетанию представления о трагизме существования (посредством ницшеанства) и почтительному отношению к античности, древним религиям и западному средневековому миропониманию. “Мистерия” представляет собой синтетическую форму религиозного искусства — но именно такую, какой, по мнению “символистов”,116 она бытовала в отдалённые времена европейской и эллинской культуры. Это сценическое представление — в некотором смысле квинтэссенция “символистской” поэтической системы, слепок её мировоззрения, языка, эстетики и художественных приёмов. Поэтому не следует удивляться тому, что именно в “мистерии” с неумолимой очевидностью проявляются слабые стороны этой системы. Отвлечённость “символистской” цели от жизни как таковой предельно ясна в языке и сценографии “мистерии”. Каковы же общие закономерности, обязательная структура той модели мира, которой она соответствовала? Тайна бытия, почитаемая “символистами” единственным залогом одухотворения искусства, обрекала их на абстрактное творчество: неведомое, сокровенное, таинственное (Бог, София...) могли проявиться лишь как аллегория или аллюзия. Список наиболее часто употребляемых символистами слов легко убедит в этом.117
она бытовала в отдалённые времена европейской и эллинской культуры. Это сценическое представление — в некотором смысле квинтэссенция “символистской” поэтической системы, слепок её мировоззрения, языка, эстетики и художественных приёмов. Поэтому не следует удивляться тому, что именно в “мистерии” с неумолимой очевидностью проявляются слабые стороны этой системы. Отвлечённость “символистской” цели от жизни как таковой предельно ясна в языке и сценографии “мистерии”. Каковы же общие закономерности, обязательная структура той модели мира, которой она соответствовала? Тайна бытия, почитаемая “символистами” единственным залогом одухотворения искусства, обрекала их на абстрактное творчество: неведомое, сокровенное, таинственное (Бог, София...) могли проявиться лишь как аллегория или аллюзия. Список наиболее часто употребляемых символистами слов легко убедит в этом.117 Онтологическая тайна, тщательно культивируемая, требовала эзотерического языка и абстрактных драматических тем, столь же вневременных, как и сущности, взращиваемые “символистской” философией. Образчик этого театра теней, равноудаленного от античной трагедии и средневековой мистерии (по крайней мере, в том виде, в каком её понимали символисты), — «Литургия мне»118
Онтологическая тайна, тщательно культивируемая, требовала эзотерического языка и абстрактных драматических тем, столь же вневременных, как и сущности, взращиваемые “символистской” философией. Образчик этого театра теней, равноудаленного от античной трагедии и средневековой мистерии (по крайней мере, в том виде, в каком её понимали символисты), — «Литургия мне»118 Ф. Сологуба, своего рода “алгебраическая формула” мистического театра. Ситуационная матрица предстаёт во всей своей безыскусности:
Ф. Сологуба, своего рода “алгебраическая формула” мистического театра. Ситуационная матрица предстаёт во всей своей безыскусности:
1) Место действия: ночное факельное шествие вокруг алтаря:
Наступает ночь. В пустынной долине собираются желающие совершить Литургию. Они приносят дары, хранимые до времени в покровах. Все приходящие снимают обувь и обычное платье, облекаются в белые одежды и увенчиваются цветами. Ждут Отрока-жреца. Светочи, ещё не все зажжённые, мерцают слабо; их держат юноши. Некоторые из юношей принесли флейты, бубен, лиры, тимпан. Ожидающие, приготовляясь к совершению Литургии, поют гимны предначинательных воспоминаний. В то же время воздвигают алтарь из каменных плит и возлагают на него сучки и ветки деревьев.
119
2) Действующие лица: юноши, Девы, мужи, старцы, странники, Хранитель преданий, Отрок, строители, Жёны, Хранитель алтаря.
3) Фабула священной драмы: жертвоприношение Отрока ради благоденствия Общины.
Топографическая и временнáя размытость допускает множество истолкований: христианская литургия? дионисийская мистерия? аллегория поэта в человеческом обществе? Всё, видимо, сразу и вдруг. Однако наиболее подозрительно не воображаемое место действия, а надуманность происходящего. Порукой тому язык действующих лиц: юноши, Девы и мужи все как один изъясняются церковнославянизмами, призванными передать сакральные понятия “символистской” философии:120
Познание истин невозможно
На этой суетной земле,
Но обещание не ложно, —
Святое кроется во мгле.
И ожиданию ночному
Явить законы бытия
Сойдет к свершению святому
Для нас и жертва и судья.
Мы создадим
Блаженный строй,
И над землёй
Прострём довольство и покой.
Грозя чарующему Змию,
Святыню злого дня кляня,
Как вы свершите Литургию,
Когда забыли вы Меня?
Отрок нежный и прекрасный!
Ты ли агнец непорочный,
Под ножом безгласный,
Здесь в великий час полночный
Искупающий страдания
Омраченного созданья,
Зло и лживость бытия?
Этот богословский театр практикует чересполосицу иератического языка и книжных штампов классического репертуара,
121
что западноевропейской средневековой мистерии отнюдь не свойственно. “Символисты”, несмотря на все их усилия, предельно далеки от культуры своего народа,
122
не говоря о владении родным языком.
«Девий бог» можно исследовать отчасти в свете задачи, которую “символистский” театр ставил перед молодыми поэтами в 1905–1910 гг.: “театрализация” слова.123 Доказательство тому налицо: соблюдая абстрактность как театральную формулу “символистской идеологии”, Хлебников предпринял семантический сдвиг: заменил “общечеловеческое” общеславянским.124
Доказательство тому налицо: соблюдая абстрактность как театральную формулу “символистской идеологии”, Хлебников предпринял семантический сдвиг: заменил “общечеловеческое” общеславянским.124 Для этого он избрал — и этот выбор оказался впоследствии весьма плодотворным в пору хлебниковского “футуризма” — новую площадку для разворачивания священной драмы: язычество125
Для этого он избрал — и этот выбор оказался впоследствии весьма плодотворным в пору хлебниковского “футуризма” — новую площадку для разворачивания священной драмы: язычество125 и праславянский язык, язык древнего эпоса, сказаний, былин. Увы, придерживаясь узаконенных рамок драмы, Хлебников попал в капкан “символистской” проблематики; в итоге пародия оказалась менее внятной, чем в «Снежимочке». Следы “старой песни на новый лад” улавливаются, но опять-таки в пределах “символистской” драмы, и автор с неизбежностью впадает в стилизацию — с той, однако, важной оговоркой, что это стилизация им же вымышленного! Сходство с образцом из области ирреального126
и праславянский язык, язык древнего эпоса, сказаний, былин. Увы, придерживаясь узаконенных рамок драмы, Хлебников попал в капкан “символистской” проблематики; в итоге пародия оказалась менее внятной, чем в «Снежимочке». Следы “старой песни на новый лад” улавливаются, но опять-таки в пределах “символистской” драмы, и автор с неизбежностью впадает в стилизацию — с той, однако, важной оговоркой, что это стилизация им же вымышленного! Сходство с образцом из области ирреального126 определяет одновременно и успех, и неудачу пьесы. В «Девьем боге» пародия, будь она и верхом совершенства (почему бы нет: модели-то не существует!), балансирует на грани, за которой начинается подделка под старину. Когда сдвиг элементов модели (реальных или вымышленных) пренебрежительно мал, пародийный замысел неизбежно подменяется технической виртуозностью автора. Впоследствии Хлебников никогда не возвращался к этой формуле; видимо, на этот выстрел творчества ушёл весь её заряд. Тем не менее, поэт навсегда сохранил тягу к чисто славянской поэзии — эпосу, драме, роману.127
определяет одновременно и успех, и неудачу пьесы. В «Девьем боге» пародия, будь она и верхом совершенства (почему бы нет: модели-то не существует!), балансирует на грани, за которой начинается подделка под старину. Когда сдвиг элементов модели (реальных или вымышленных) пренебрежительно мал, пародийный замысел неизбежно подменяется технической виртуозностью автора. Впоследствии Хлебников никогда не возвращался к этой формуле; видимо, на этот выстрел творчества ушёл весь её заряд. Тем не менее, поэт навсегда сохранил тягу к чисто славянской поэзии — эпосу, драме, роману.127 Он оставил лишь наброски128
Он оставил лишь наброски128 этого навязчивого проекта; ни один из них, думается, не оказался значительнее «Девьего бога».
этого навязчивого проекта; ни один из них, думается, не оказался значительнее «Девьего бога».
Несмотря на указанный изъян, «Девий бог» оказался судьбоносным в развитии ведавы Хлебникова, хотя впоследствии, повторяем, он эту форму театральности забросил.129 Именно в «Девьем боге» читатель во всей полноте осознаёт вызов, брошенный “символистской” — если не всей русской — культуре в её настоящем, прошлом и будущем: Хлебников, будетлянский поэт, в этой пьесе наделяет русскую культуру умозрительным прошлым; его нет в культурном коллективном сознании, но нечто подобное вполне могло и произойти, не случись крещения Руси. Религия славянского язычества, которую Хлебников полемически противопоставляет “дионисийскому христианству” своих учителей, представляет собой, разумеется, не метафизический вариант, а поэтический (эстетический) выбор: это не столько языческая вера (гипотетическая за отсутствием первоисточников), сколько порождение языка, “очищенного” от последствий насаждения православия. Сам язык пьесы “язычествует” (и предписывает себя дохристианской Руси), порождая славянскую эстетику и “религию”. Такого рода реставрация подтверждает отмеченную Мандельштамом вневременность130
Именно в «Девьем боге» читатель во всей полноте осознаёт вызов, брошенный “символистской” — если не всей русской — культуре в её настоящем, прошлом и будущем: Хлебников, будетлянский поэт, в этой пьесе наделяет русскую культуру умозрительным прошлым; его нет в культурном коллективном сознании, но нечто подобное вполне могло и произойти, не случись крещения Руси. Религия славянского язычества, которую Хлебников полемически противопоставляет “дионисийскому христианству” своих учителей, представляет собой, разумеется, не метафизический вариант, а поэтический (эстетический) выбор: это не столько языческая вера (гипотетическая за отсутствием первоисточников), сколько порождение языка, “очищенного” от последствий насаждения православия. Сам язык пьесы “язычествует” (и предписывает себя дохристианской Руси), порождая славянскую эстетику и “религию”. Такого рода реставрация подтверждает отмеченную Мандельштамом вневременность130 языковых и поэтических построений Хлебникова. Рассмотрим приёмы “секуляризации” языка, производящие эстетический эффект “славянской архаики”.
языковых и поэтических построений Хлебникова. Рассмотрим приёмы “секуляризации” языка, производящие эстетический эффект “славянской архаики”.
Текст «Девьего бога» напоминает свод всевозможных русизмов с налётом седой старины: ритмы народных песен, былин, единообразные обороты народных сказок, словоформы, словосочетания — все эти равномерно значимые типы (указывающие на их принадлежность к вполне определённому речевому регистру) изобилуют в говоре персонажей драмы и расцвечивают её тутотами народной, подлинно русской речи:131
Дочь князя Солнца. Мамонько! Уж коровушки ревьмя ревут, водиченьки просят, сердечные. Уж ты дозволь мне, родная, уж ты позволь, родимая, сбегаю я за водицей к колодцу, напиться им принесу, сердечушкам-голубушкам моим. Не велика беда, если княжеской дочке раз сбегать до колодца за водой идучи ‹...›
Старуха. О, мать-княгинюшка! Да послушай же ты, что содеялось! Да послушай же ты, какая напасть навеялась! Не сокол на серых утиц, не злой ястреб на голубиц невинных, голубиц ненаглядных, голубиц милых — Девий бог, как снег на голову ‹...› Явился незванный, негаданный. Явился ворог злой, недруг, соколий глаз.
Княгиня. ‹...› И лишь равно-мил синечёрный кудрями Сновид. Но он на далёком студёном море славит русское имя.
Мало того, что действующие лица имеют славянские имена (
Молва, Доброслава, Сновид, Гордята, Руд, Рокс, Ужас, Шум, Любава, Гомон, Смех, Белыня, Тишина, Крик, Осётр, Вепрь, Вечер, Ветер и т.д.), они зачастую говорят языком хрестоматий древнерусской литературы.
Бог неким образом пересекает воображаемую “синкретическую” Славию: одновременно дохристианский Киев, Новгородскую республику и владения свирепого полабского племени. Неопределённость “места” допускает расплывчатость культурных терминов, обычно обозначающих конкретную цивилизацию:
132 вече, храм, Перуново поле, тысяцкий
вече, храм, Перуново поле, тысяцкий. Весь декор (согласно указаний автора) несёт черты старинной (условной, разумеется) “деревянной Руси”:
133
Сзади, теснясь, из узкого, стеснённого жестокими суровыми брёвнами переулка — его безобразие уменьшено скатами крыш, скворешнями и старыми вётлами, — выливается, подобно весеннему пруду, толпа и наполняет лужайку перед двором князя ‹...›
Из ворот славного князя Солнца выбежали — куда, куда ? — две знатных боярыни. Мелькают кокошники, венки зелёных полевых трав, красные лица, яркие глаза, радость нежной и молодой толпы.
“Окультуренное” язычество, наряду с реваншем исторического Перуна, приумножается “этимологическими” божествами: Чёрной смертью, Чумноустом, Роком, Судьбой, Волей... Схема заимствована из греко-символистских мифов (о Дионисе, Диане, Артемиде, Эндимионе)134 и порой довольно убедительна за счёт редких слов, удачно использованных (знаменитая Леуна135
и порой довольно убедительна за счёт редких слов, удачно использованных (знаменитая Леуна135 ) для создания золотой липовости, придающей особый шарм произведению, которое в противном случае оказалось бы славянизированной “уценкой” символистской “мистерии”. Пародия достигается толикой юмора,136
) для создания золотой липовости, придающей особый шарм произведению, которое в противном случае оказалось бы славянизированной “уценкой” символистской “мистерии”. Пародия достигается толикой юмора,136 который имеет отношение не столько к природе языка, сколько к отмежеванию автора от своего детища. Ирония, этот едва уловимый диссонанс, обнажает искусственность литературной композиции. Один из способов самоустранения, выявляющий фиктивность драматического произведения, заключается в том, что “реальность”, приписываемая драме с молчаливого согласия воспринимающей стороны, грубым вторжением иной “реальности” лишается всякого доверия, и это кричащее противоречие общепризнанным законами правдоподобия намекает на зеркальность текста. В данном случае это два плана, хронологически несовместимые:137
который имеет отношение не столько к природе языка, сколько к отмежеванию автора от своего детища. Ирония, этот едва уловимый диссонанс, обнажает искусственность литературной композиции. Один из способов самоустранения, выявляющий фиктивность драматического произведения, заключается в том, что “реальность”, приписываемая драме с молчаливого согласия воспринимающей стороны, грубым вторжением иной “реальности” лишается всякого доверия, и это кричащее противоречие общепризнанным законами правдоподобия намекает на зеркальность текста. В данном случае это два плана, хронологически несовместимые:137
Светёлка, наполненная по большей части безусыми вооруженными юношами.
Один (с приподнятой смешно губой и устремлёнными поверх слушателей глазами). Вот что, этому нужно положить конец! Вам известно, что бродяга, отрок, ничем, решительно, не выдающийся, ничем не отличающийся, завладел, или, вернее, похитил сердца всех прекрасных барышень столицы. Мне достоверно передавали, что там ничего предосудительного не происходит — они просто собираются и проводят время вместе, как если бы у них отняли половину их лет. Но что их ожидает в будущем! Что с честью их и их семей! Да, мы должны его убить. Его участь решена не нами. Мы только исполнители. Его не следует порочить. Но и не следует щадить. Он должен пасть. Но, говорят, там есть отряд вооружённых девушек. Как с ними поступить? Нет никакого сомнения, что они станут защищать своего любимца. Я предлагаю поднять меч и на них, но пусть, кто не убьёт его, упадет грудью сам на меч. Я кончил. Несогласных с моим предложением прошу поднять руку. Раз... два... При одном воздержавшемся, семь за, два против. Угодно собранию...
Остальные. Мы согласны.
Княжич Шум. Я пришёл к вам. Я знаю, где он. Он в Священной Роще. Мне сказала об этом сестра.
Председательствующий. Я поздравляю вас с сообщительностью, которая привела вас сюда, и предлагаю собранию вернуться к порядку дня.
Вошедший. В чём цель вашего собрания?
Председательствующий. Мы решили переселиться в души наших предков. Для этого мы перешли в прошлое на 11 веков. Но пришёл он и смутил наш покой. Мы обсуждаем способы, опираясь на меч, восстановить покой.
Сомнение в достоверности языка пьесы усиливается до предела, когда один смысловой план перебивается внедрением другого, а то и нескольких. Ещё один приём представляет собой оригинальный шаг на пути к типизации “современной” литературной речи: это самопародия дискурса, который истребляет себя в потоке исправлений, наряду с оставляемыми как они есть ошибками, что показывает его надуманность и раскрывает как совокупность действий, способных самостоятельно творить “реальность” посредством произвольного расположения “сгустков” речи. Зрители (
присутствующие) играют роль коллективного комментатора воображаемого события:
138
Тот смотрит загадочно-открыто, и жрец наклоняется к нему шептать тайну и вдруг, расхохотавшись, касается его уст своими. Но тот смеётся. Жрец падает, откидываясь назад, на руки прислужников и умирает. Но нет, этого ещё нет. Это ещё только наше воображение. Ещё только отошёл от кумира жрец и идёт мимо стоящих неподвижно девушек с плащами на голове. К спокойно стоящему Девьему богу идёт он. И что будет? Дальше что? Несёт он с потупленными глазами смерть и бледный и смеющийся будет, сражаясь, падать, встретив лобзание, или бежать? Но бежать он мог бы и раньше. Но у него нет оружия!
Приём косвенного повествования классической драматургии подрывается тем, что рассказчик о чём-то без умолку говорит, но ровным счётом ничего, что бы выходило за пределы первоначально сказанного, не сообщает. Этот фиктивный комментарий, который подаётся как пьеса в пьесе, призван стать триумфом силы воображения, которую ощущает в себе писатель-“постсимволист”. Безудержная какофония финала «Девьего бога» обусловлена простейшей аксиомой: всё возможно, коли того хочет автор. Он, и только он оказывается верязём литературного события. Это великолепие воображения, не знающего границ, — “частная собственность” нового поколения, которое должно было изобрести “футуризм”, чтобы доказать своё превосходство над предшественниками. В этом смысле «Девий бог» вполне уместен под обложкой сборника ненавистников символистского искусства «Пощёчина общественному вкусу».
в) анализ «Маркизы Дэзес»
Борьбе литературного “внука” с всевластием “отца” споспешествует покровительство “деда”, резко повышающее правомерность притязаний подрастающего поколения.
139
В «Маркизе Дэзес»,
140
этом юношеском “эссе” и одновременно длинной экспериментальной поэме, Хлебников классическую модель
141
считает не образцом для подражания (обычный удел потомков), а орудием борьбы с
прошлецами и
вчерахарями. Напитанная прилежным изучением «Горя от ума», «Маркиза Дэзес» своей сатирической направленностью
142
и ритмикой может показаться подражанием великой комедии Грибоедова. Однако здесь, как и в других пьесах Хлебникова, ни сюжет, ни персонажи драматического посыла не создают. В «Маркизе Дэзес» мы слышим голоса, но действующих лиц за ними не различаем. Возможно, Хлебников заимствует у Грибоедова сценографию знаменитого возведения на Чацкого напраслины,
143
где Софья, Молчалин и слуги сбиваются на безымянность,
144
на сочленство толпе (в отличие от Фамусова).
Маркиза и её компаньон (
спутник, двойник мужского пола или эхо) — в лучшем случае эктоплазма персонажей, “сгустки жизни” среди безликой массы, ибо главный герой пьесы —
самовитое слово. Ю. Тынянов пишет:
145
‹...› До комизма ощутимое слово, превращаясь в звуковой жест, подсказывая своего носителя, как бы обратилось в этого носителя, подменило его; слóва вполне достаточно для конкретности героя, и “зрительный” герой расплывается.
Если это сатира (направленная против города и символистских литературных кругов столицы, надо полагать), то она обличением говорящих масок
146
не довольствуется: петербургская фамусовщина представлена безликой толпой посетителей выставки.
147
Сатиру следует искать в формальную области стихосложения. Хлебников пользуется многообразием возможностей свободного ямбического стиха и потрясающим богатством грибоедовских рифм,
148
доводя игру ритмическими и рифмованными пассажами до их главенства в пьесе.
149
“Ювеналов бич” отнюдь не предназначен “классической” модели;
150
автор, скорее, высмеивает ритуализацию просодии в “символистской” драматургии. В этом смысле пародия (“старая песня на новый лад”, памятуя о родовом значении этого слова) становится понятной: предлагается всё та же модель, но “с перехлёстом”, где одна из подробностей выпирает из целого наподобие шипа. Итак, ритмо-метрия (одна из многочисленных компонент художественной речи), усиленная Хлебниковым до чрезмерности, создаёт новую поэтику, разрывая мёртвую хватку драматического жанра: в «Маркизе Дэзес» именно ритмические и метрические приёмы придают смысл произведению, приковывая внимание зрителя к чехарде размеров и созвучий:
151
a) В взоров море тонучи,
Я хожу одетый в онучи.
b) Он в белое во всё одет, и лапоть с онучем
Соединён красивым лыком. Склонение местоимения “он” учим ‹...›
с) Пожилой господин
Кем — полькой, шведкой, Руси дочью?
Лель
Нет, но звёздной ночью,
Когда я обещанье дал расточить в Руси русской рать
И, растекаясь, в битвах неустанно умирать.
d) Поэт (одетый лешим)
Стан пушком златым золочен,
Взгляд мой влажен, синь и сочен.
Я рогат, стоячий, вышками.
Я космат, висячий, мышками,
Мои губы острокрайны.
Я стою с улыбкой тайны.
Полулюд, полукозёл,
Я остаток древних зол.
Мне, весёлому и милому козлу,
Вздумалось прийти с поцелуем ко злу.
Разочаруют, лобзая, уста,
И загадка станет пуста.
Взор весёлый, вещий, древен,
Будь как огнь сотлевших бревен.
Распорядитель вечера (слуге)
За Рафаэлем пошли.
Кто это пришли?
Слуга
Маркиза Дэзес!
Маркиза Дэзес
Я здесь не чувствую мой вес. ‹...›
е) Спутник
Быть может, да, но вот и он...
Маркиза Дэзес
Хотите дам созвучье — бог рати он.
Я вам подруга в вашем ремесле.
Спутник
Да, он Багратион ‹...›
f) Рыжий поэт
Я мечте кричу: пари же,
Предлагая чайкý Шенье,
(Казнённому в тот страшный год в Париже),
Когда глаза прочли: «чай, кушанье».
Подымаясь по лестнице
К прелестнице,
Говорю: пусть теснится
Звезда в реснице.
g) Слуга
Одни поют, одни поют,
И все снуют, и все снуют.
Пока дают живой уют. ‹...›
h) Смеясь, урча и гогоча,
Тварь восстаёт на богача.
Под тенью незримой Пугача
Они рабов зажгли мятеж.
И кто их жертвы? Мы те же люди, те ж!
Как спектакль, «Маркиза Дэзес» достигает более высоких степеней абстракции, чем «Снежимочка» или «Девий бог»: от “слов” языка и синтаксиса Хлебников переходит к “делу” отвлечённых принципов поэтики, к системе собственно поэтической. “Распредмечивание”
152
— ведущая драматическая тема пьесы (произведения искусства деэстетизируются и оживают, а персонажи пьесы превращаются в изваяния, объекты эстетического потребления
153
). Этот “сюр”, в свою очередь, оказывается способом построения речи (“сочинительство” и есть поэтическая деятельность в строгом смысле слова), сценической
реализацией переноса центра тяжести пьесы: драматическая тема оказывается на “обочине” — там, где мы полагаем оформление поэтического материала (просодию), в то время как сам этот материал превращается в “тему”. Знаки становятся вещами, вещи — знаками.
154
Просодическая, формальная сторона дела оказывается и содержанием пьесы, и единственной её темой; таковая “отвердевает” в полиморфии рифмованных строк. Фантасмагорическая схватка субъекта и объекта, содержания и формы (используя термины устаревшей доктрины) размывает очертания и сводит на нет смысл: “содержание” отсутствует, а “форма” тем более неуловима, что её нет.
155
Так, выставочный зал исчезает во тьме бессмысленности и небытия; в заключительном диалоге между
маркизой и её таинственным
спутником торжествует рифма в наиболее абстрактной форме,
никакого смысла в повторе
знаковых фонем (“знаков знаков”), если говорить о фонологической и поэтической стороне русского языка (в дореформенном написании см
ѣрьте /
смерти), нет и в помине:
Так! Я плачу. Чертоги скрылись, волшебные с утра.
Развеяли ветра.
Над бездною стою. Голос не умолкший смерти.
Не “ять” и “е”, а “е” и “и”! Кого — себя? Себя для смерти!
Себя, взиравшего! о, верьте, мне поверьте!
Бессмысленность жизни персонажа пьесы выражается через игру букв е и
ѣ (ять), которые в этом инфернальном дуэте отвечают друг другу в рифму. В поэтическом пространстве «Маркизы Дэзес» рифма,
156
этот символ изящной словесности, становится главным действующим лицом хлебниковской драмы.
————————
Примечания
* Иноземные соответствия руссейшей, по Н.И. Харджиеву, словесности Велимира Хлебникова даны всплывающими подсказками в именительном падеже. — В.М.
Принятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1
1 См. предыдущие главы.
 2
2 Как и в случае с “футуризмом”, мы для удобства изложения сохраним установившееся обозначение, в то же время исключив очевидность его
можéли в лексике литературной критики посредством кавычек.
 3
3 Следуя В. Орлову (Перепутья.
М. 1976. С. 11) и Л.К. Долгополову (История русской поэзии.
Л. 1969. Т. II. С. 283–284). По деликатному вопросу о периодизации, который кажется этим авторам очевидным (революционный 1905 год — якобы водораздел “символистского” течения), см.:
A.J. Greimas. Sémantique structurale.
Paris: Larousse. 1966. Р. 150–152.
 4
4 См. вступительную часть нашей работы.
 5
5 Возможно, в определённой степени он таким и был в начале творческого пути. Б. Лившиц усматривает „эпигонство” в таких произведениях, как «Журавль» (Полутораглазый стрелец. Указ. соч., с. 21).
 6
6 Мы называем анекдотом отказ редакции журнала «Аполлон» печатать произведения Хлебникова (см. письмо В.А. Хлебникову от 13 ноября 1909 г.,
СП V: 288). С февраля 1910 года Хлебников перестал посещать «Академию стиха», где вокруг Вяч. Иванова объединились столичные поэты, более или менее тесно связанные с “символистской школой”. См. также письмо В.А. Хлебникову начала 1910 г. (
СП V: 290) и сатиру «Карамора №2», направленную против группы (
НП: 202–204).
 7
7 Вопрос об отношениях между творческой личностью и группой (школой, движением, течением), с которой (которым) критика постановила его связать, гораздо более деликатный, чем вопрос об отношениях гражданина и политической партии, уже существующей и отлаженной. Понятие “школы” весьма изменчиво и строго не определимо. Творческая личность не “школярствует”, а преобразует господствующую стилистическую структуру своего времени, тем самым способствуя её отклонению в сторону других структур, других течений, других эпох, видоизменяя её таким образом, что понятие “школы” оказывается не более чем удобной абстракцией для обобщённой маркировки. Хлебников не “бросил” “символизм” ради “футуризма”, как если бы эти два течения существовали для поэта раздельно. Поменялся лишь стиль. “Школа” — общий знаменатель нескольких стилей и часто представляет собой самую бедную часть личной системы поэта.
 8
8 Маяковский в своей статье «Капля дёгтя» (1915) называет 1915 год датой смерти “футуризма” (в его
будетлянском изводе). Позже мы выясним, почему в конкретном случае поэзии Хлебникова эта дата приемлема как веха важного стилистического сдвига.
 9
9 Стилистические изменения, произошедшие после 1913 года, значительны — вплоть до изменения облика хлебниковской системы. Однако её глубинная структура затронута не была. Архитектура магистральных тем осталась неизменной, несмотря на поверхностные различия стилей. Таковые по-прежнему подчинены единственной семантической цели: наиболее действенно ответить на вызовы современности. Стилистические изменения возникали в порядке постепенного приспособления системы к изначально возложенной поэтом на поэтический “аппарат” миссии.
 10
10 Мандельштам решительно заявил:
‹...› Вся современная русская поэзия вышла из родового символического лона.
Собр. соч., т. II, с. 272.
 11
11 Феномен “символизма” связан с рядом политических, экономических и социальных факторов, рассмотрение которых нами заняло бы слишком много времени. Россия времён “символизма” — страна бурной перестройки промышленности на современный лад (см.:
Tibor Szamuely. La Tradition russe.
Paris: Stock. 1976. Р. 488–499) и европейских художественных начинаний (см.: Общественное движение в России в начале XX-го века. Т. 1.
СПб. 1909. С. 483–537). Навязывание прямой причинно-следственной связи политико-экономического базиса и идеологической надстройки, как это имеет место в работе А. Волкова (Поэзия русского империализма.
М. 1935), образчике топорного социологизма применительно к русской литературе начала века, представляется нам грубым упрощением. В. Орлов в первом разделе своей книги (Перепутья.
М. 1976. С. 7–178) в оценке “символизма” более сдержан: вульгарный социологический анализ соседствует с вдумчивым подходом к идеологическим и философским сторонам “символистского” учения и художественной практики. Разумеется, “символизм” возник в России не стихийно, и простым заимствованием с Запада назван быть не может; это естественное развитие формальной стороны русской литературы, подготовленное Достоевским, Толстым и Чеховым, Фетом, Тютчевым. Ни одна новая школа не смеет бахвалиться “непорочным зачатием”; точно так же и “символизм” подбирал себе “предков”, “перелопачивая” культурное наследие.
 12
12 Так, Вяч. Иванов ещё в 1889 году (Ars Mystica // Собр. соч. Т.1.
Bruxelles. 1971. С. 16) объявил духовный и поэтический крестовый поход против материализма и атеизма.
 13
13 В 1903 г. произошёл сдвиг в общественном сознании.
Там же, с. 70
‹...› То был период идейного перелома в передовой группе русской интеллигенции: философский позитивизм и художественный натурализм сменялись противоположными течениями.
Там же, с. 92
 14
14 Поэты-“символисты” отнюдь не манкировали выяснением сущности “символистского” искусства (у
будетлян, вообще равнодушных к подобного рода изысканиями, этого не наблюдаем). И всё-таки В. Брюсов в письме П.П. Перцову (Письма.
М. 1927. С. 25) сетует:
Бедный символизм! Чего ему не приписывают; кажется, нет более неопределённого термина.
(цит. по: Т. Родина. Блок и русский театр начала XX века. М. 1972. С. 61)
 15
15 Именно в смысле духовного противостояния Азии и христианской Европы Вяч. Иванов трактует русско-японскую войну (см. его статью «Русская идея» 1909 года). Точно так же революция 1905 года полагается им духовным испытанием, ниспосланным судьбой для проверки твёрдости христианской веры в России.
 16
16 Отказ от подобных критериев оценки определяет
лýчшадь, весьма близкую к автономии поэтического слова, отстаиваемую “футуристами”, активно противостоявшими „тенденциозности” литературы (см.:
В. Брюсов. Апология символизма // Учёные записки Ленинградского пед. института им. М.Н. Покровского.
Л. 1940. Вып. Z, т. IV).
 17
17 Издано в СПб. в 1893 г. Цит. по:
Д.С. Мережковский. Полное собрание сочинений.
СПб.–М. 1911–1913. Т. 15. 1912. В этом эссе Мережковский показал себя наиболее активным и твёрдым представителем группы литераторов, объединившейся вокруг журнала «Северный вестник» в начале 90-х годов. А. Волынского, Д. Мережковского, Н. Минского, Л. Гуревича ещё нельзя было назвать “символистами”, но своими весьма резкими выпадами против эстетики и философии народничества 60-х гг. они подготовили почву для “классического” символизма первого десятилетия следующего века.
 18
18 Там же, с. 242.
 19
19 Учитель и ученик (
СП V: 179–182):
‹...› Я думал, Моране или Весне служит русское искусственное слово.
‹...› Мережковский пророчил неудачу России, взяв на себя обязанности ворона; каково он чувствует себя?
На вопрос, что делать, отвечает и песнь сёл и русские писатели. ‹...›
Почему русская книга и русская песнь оказались в разных станах? Не есть ли спор русских писателей и песни спором Мораны и Весны?
Бескорыстный певец славит Весну, а русский писатель Морану, богиню смерти?
Я не хочу, чтобы русское искусство шло впереди толп самоубийц!
 20 Д.С. Мережковский
20 Д.С. Мережковский. Полное собрание сочинений.
СПб.–М. 1911–1913. Т. 15. 1912. С. 265.
 21
21 Там же, с. 266. Анализируя стиль критика В.Д. Спасовича, Мережковский находит слова, которые наверняка одобрил бы Хлебников (там же, с. 301):
В языке Спасовича вы чувствуете не совсем великорусский акцент, который не только не портит, а, напротив, придаёт оригинальную свежесть и простоту его стилю. Этот акцент стирает условную, мёртвую эмаль нашего современного литературного языка и приближает его к источнику всякой крепости и силы, к духу живой народной речи: ибо всё-таки чистая стихия русского языка — общая, древнеславянская стихия.
 22
22 Там же, с. 279.
 23
23 Там же, с. 293.
 24
24 Там же, с. 242–243.
 25
25 Там же, с. 281.
 26
26 Мы далеки от мысли, что теорий или манифестов достаточно для определения литературной “школы”. Только уровень “продукции”, в конечном счёте, определяет её значимость. Брюсов в 1894 г., на заре “символизма”, писал (
В. Брюсов. Собрание сочинений в 7-и томах. Т. VI. 1975. С. 28):
‹...› В теории символисты действительно делятся на много отдельных кружков. Тем замечательнее, впрочем, что в своих произведениях они приходят к одинаковым результатам.
Манифест или теория имеют относительную ценность, это “идеологический” функционал; но поэт с прокламацией, тем более с теоретическим эссе, как правило, больше, чем стихотворец: современная поэтика весьма “подкована” по части философии искусства. Наконец, особенно в случае с “символистами”, литературно-критические выступления в печати важны для выснения философско-поэтических пристрастий их авторов.
 27
27 Помимо охлаждения интеллигенции к марксизму, в начале века видим подлинное возрождение религиозной философии под определяющим влиянием Вл. Соловьёва. Известно, что эсхатологизм Н. Фёдорова находит отклик в утопических теориях Хлебникова (и в творчестве Маяковского). См.:
Б. Зеньковский. История русской философии. Т. II.
Раris: Gallimard. 1955. С. 136–153, 309–312.
 28
28 Русский символизм достаточно многообразен; традиционная критика знает как минимум два его периода, и разграничительная линия приходится на 1903–1905 гг. Однако даже “первый” символизм (1894–1903), объединивший мистиков, рационалистов, славянофилов и западников, весьма неоднороден. Развёрнутое определение двух волн “символизма” см.:
G. Donchin. The influence of French symbolism on Russian poetry.
’S-Gravenhage: Mouton. 1958. Р. 10–26.
 29
29 С той же двусмысленностью мы сталкиваемся и в случае “футуризма”, название которого со всей определённостью указывает на Италию. Одной из главных претензий консервативной прессы к “символизму” было его иностранное происхождение:
‹...› В нашей русской литературе символизм не более как подражание, не имеющее под собой почвы.
(цит. по: Брюсов В. Зоилам и Аристархам. 1895. // Собр. соч., т. VI, с. 33)
Постоянная забота “символистов” — отмежевание от французского символизма (см., в частности, теоретическую попытку отделить западный „идеалистический символизм” от русского „реалистического символизма”:
Вяч. Иванов. Две стихии в современном символизме // По звёздам.
СПб. 1909. С. 270–285). Было бы целесообразно пересмотреть понятие “влияние” (“подражание”), которое, будучи скверно сформулированным, допускает любые злоупотребления, и заменить его более осмысленным — пусть и столь же ненаучным — понятием “пересадка”. О “пересадке” византийской культуры в Киевскую Русь IX и X вв. см., в частности:
Д.С. Лихачёв. Развитие русской литературы X–XVII веков.
Л. 1973. С. 16–21.
 30
30 В археологии любого художественного “направления” (классицизма, романтизма, символизма, футуризма и т.д.) неизбежно встаёт “метафизический” вопрос его зарождения, начала. Такого рода изыскания — прерогатива науки, занимающейся периодизацией зыбкого континуума, называемого “историей” (в качестве примера сомнения в правомерности традиционных исторических категорий см.:
H.I. Marrou. Décadence romaine ou Antiquité tardive.
Paris: Éd. du Seuil. 1977). Как частный вариант, это проблема “границы”. Человек, „мера всех вещей”, разграничивает совокупность явлений, и это позволяет ему периодизировать то, что в противном случае представляло бы собой набор событий. В наше время понятие “границы” подвергают сомнению, отдавая предпочтение понятию уровень (порог) или даже область (регион); см.:
A.J. Greimas. Sémantique structurale.
Paris: Larousse. 1966. Р. 150–151.
 31
31 Суждениям такого рода следует быть взвешенными, ибо в литературе не бывает “переворотов”, полностью порывающих с прошлым. Бодлер, отойдя от “классического” романтизма, продолжал его, неким образом завершая. Точно так же не все “символисты” порвали столь решительно, как им казалось, с просветительством XIX века. В мистике Вяч. Иванова, например, есть добрая толика здравого смысла. В свою очередь, “футуристы” дополнили “символизм” там, где тот не справился с возложенной на себя миссией.
 32
32 Антиромантичный “по долгу службы”, русский “символизм” порой схож с предшественником до степени перепева, даже неоромантизма. То же самое можно сказать, впрочем, и о “футуризме”. При этом “романтическая” и “символистская” тематики радикально различны. См.:
В. Брюсов. О искусстве // Собр. соч., указ. соч., т. VI, с. 43–54, а также
Т. Родина. Цит. соч., стр. 47).
 33
33 “Символизм” объединял тех, кто его исповедовал — за исключением В. Брюсова, „самого французского из поэтов русского символизма” (
G. Donchin. The influence of French symbolism on Russian poetry, op. cit., p. 19), — и был настоящей философско-мистической “сектой”, предлагавшей своим последователям мировоззрение, основанное на пересмотре “религиозных скреп” жизни.
 34
34 Трудами В.Г. Васильевского в «Византийском временнике» (1894).
 35
35 Было ли это первым актом клерикальной цензуры, обещавшей долгую жизнь в различных проявлениях? Разумеется, нет. Мандельштам противопоставил книжную, византийскую поэтическую и языковую культуру пастернаковской или хлебниковской „вульгате” (Собр. соч., т. II, с. 304–305), но историческая правда не на его стороне. Первым в Древнюю Русь проникло Священное Писание и обряды богослужения. В IX веке страна гораздо более христианизируется, чем эллинизируется. Это должно было спровоцировать, по удачному выражению Джеймса Карни о христианской Ирландии (
James Carney. The Irish bardic poet.
Dublin: The Dolmen Press. 1967. Р. 6–11), многовековую культурную “шизофрению”, приведшую к “футуристскому” кризису и “параноидальной” попытке Хлебникова вынести за скобки десять веков отечественной лингвопоэтической культуры византийского толка. О двойственности русской культуры (фольклор, пропитанный язычеством — и славяно-византийская “книжность”), а также о русском “двоеверии” см.:
А. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу.
М. Т. III. 1869. С. 596–601. Если целью “символизма” было примирение языческого и христианского наследия, то “футуризм”, главным образом в изводе
будетлянства, вскрыл изъяны такого подхода, предложив решение на совершенно другом уровне.
 36
36 Это слово обычно употребляется метафорически (см.:
Olga Dechartes. Introduction aux œuvres de V. Ivanov // Собрание сочинений.
Bruxelles. 1971. Р. 97), что приемлемо лишь в том случае, если мы согласимся признать реальность предыдущего русского Возрождения после падения Византии... (см.:
Д.С. Лихачёв. Развитие русской литературы X–XVII веков, указ. соч., с. 43 и далее).
 37
37 Обращение с понятием “ренессанс” требует (как и с понятиями “символизм” и “футуризм”) определённой осторожности, поскольку оно понимается в нескольких смыслах. Все культуры (Древняя Греция, Византия, Западная Европа, Россия и т.д.) знали своё “возрождение”. Одна и та же культура могла испытать его несколько раз! Нечёткая постановка вопроса таит в себе дополнительную опасность скрытого преувеличения феномена при одновременной попытке опорочить предшествующие и последующие эпохи, отождествляемые или с “тьмой” культурного невежества, или с закономерным упадком чрезмерно утончённой культуры. Палингенетическую метафору эту нейтральной не назовёшь. Концепция “ренессанса” (применительно к Западу), сфабрикованная “задним числом”, — часть усилий по вразумительной периодизации истории. Как и в отношении античности, она представляет собой умопостроение, основанное зачастую на субъективных критериях. Э. Жильсон, например (
E. Gilson. La Philosophie au Moyen Age.
Paris: Payot. 1976. T. 1 et 2), показал, что интеллектуальный, философский Ренессанс — гуманизм эпохи Возрождения — немыслим без античной подпитки в средние века, причём на постоянной основе. Некоторые приметы западноевропейского Возрождения явственны в период российской истории 1895–1915 гг. с его социальными, политическими, экономическими, техническими, научными и духовными нововведениями, ставящими под сомнение всю аксиологию. Старые убеждения отмирают, парадигма обновляется. На рубеже двух столетий возникла вера в науку, от которой ожидали обновления мира (непререкаемая уверенность в этом очевидна у Хлебникова). Русские “символизм” и “футуризм” наглядно демонстрируют кризис ценностей, сопутствующий переосмыслению человеческой личности (см.:
Вяч. Иванов. Кризис индивидуализма // По звездам.
СПб.: Оры. 1909. С. 86–102). Православный миф о “соборности” рушится с вторжением новой — буржуазной, “европейской” — идеологии; “символисты”, как и славянофильствующие “футуристы”, попытались идеологизировать фантастику: “соборность” Вяч. Иванова, “коммуна” Маяковского или
Ладомир Хлебникова. Наконец, отметим, что каждое “рождение” или “возрождение” культуры сопровождается активизацией переводческой деятельности. Так было и в России на переломе веков, когда мы наблюдаем расцвет именно поэтического перевода: Мережковский, Брюсов, Анненский (Еврипид), Бальмонт, Блок, Иванов (Эсхил). Хлебников противопоставил славянские культурные заветы иноземным: налицо всё тот же перевод, но соответствующий другой парадигме (см.: О расширении пределов российской словесности //
НП: 341–442.)
 38
38 Когда священник Фома обвиняет Климента Смолятича в том, что тот небрегает трудами Отцов Церкви ради древних, это банальность славяно-византийской гомилетики, а не обличение Климента в знании “языческих” авторов из первых рук. По сути, разглагольствования Фомы — вариация на излюбленную тему греческой и латинской патристики (см. Св. Иероним, гл. XXII, 29: «Что общего между Горацием и Псалтирью, Вергилием и Евангелием, Цицероном и апостолом?»). Грамотей Древней Руси не имел прямого доступа к наследию языческой древности (
А.Н. Егунов. Гомер в русских переводах 18–19 веков.
М.–Л. 1964. С. 7–11;
В.П. Зубов. Аристотель.
М. 1963. С. 332 и далее).
 39
39 Вяч. Иванов, возможно, в силу своего “александризма”, лучше других понял “анамнестический” аспект феномена “символизма”, породившего культуру, перегруженную воспоминаниями, жаждущую отыскать свою идентичность в коллективной памяти, возбуждаемой (а не наличествующей) искусственно. Символистский “гуманизм” складывался в попытке примирить язычество и христианство, веру и философию. По мнению Вяч. Иванова, “символизм” должен завершиться искуплением общечеловеческой культуры во Христе; посредником этого духовного синтеза призван стать русский язык, чудесный дар византийского эллинизма (
В. Иванов. Наш язык // Из глубины.
Paris: YMCA-Press. 1967. Р. 175–178). О подспудном “эллинизме” русского языка действительно есть что сказать. Одни — Вяч. Иванов, О. Мандельштам (О природе слова // Собр. соч, т. II, указ. соч., с. 287–288), И. Анненский — убеждены в “греческой” внутренней форме русского языка (что заставляет подозревать их в культурном идеализме), другие решительно осуждают отрыв от античного наследия, обусловленнный, по их мнению, славяно-византийским идеологическим отбором (
К. Зелинский. Поэзия как смысл.
М. 1929. С. 52–53):
Да, не повезло русскому народу, просто как народу, в его юности. “Солунские братья” тоже нас подкузьмили. Получив язык их, болгарский, веру мы приняли греческую. Историей вынуты мы были из общих стыков европейской культуры. Не зная античного наследия, которое получил Запад, мы всю жизнь питались с чужого стола.
Для Хлебникова эллинизм станет “волостью” потаенной Славии, лежащей в основе его поэтической системы:
В «Девьем боге» я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию.
(СП II: 7)
Тем не менее, отношения его к эллинизму, как и у большинства “футуристов”, отмечены неприятием эстетических воззрений “символизма”, с которыми, в конечном итоге, отождествлялся “эллинизм”.
 40
40 Традиционные названия “школ” (символизм, футуризм и т.д.) весьма несовершенно обозначают определённые поэтические системы и поэтические структуры. Устранить это вряд ли возможно, не придумав новых, столь же неясных и столь же произвольных названий. Самое разумное — сохранить общепринятые, но без иллюзий относительно их истолковательной силы. Скажем так: русский “символизм” охватывает различные исторические и индивидуальные “символизмы”.
 41
41 Именно “декаданс” взрыхлил во Франции начала 1880-х годов почву для “символизма”. Само это слово, полагают, взято из стихотворения Верлена «Томление»: „Я — империя в конце упадка…” (см.: Œuvres complètes de Verlaine.
Paris: Gallimard. 1977. Р. 370). В России слово ‘декадент’ приобрело уничижительное значение и употреблялось не только критиками из числа
прошлецов и
вчерахарей, но и некоторыми поэтами-“символистами” в отношении других поэтов-“символистов”. Так, И. Анненский в своей статье «О современном лиризме» (Аполлон, октябрь 1909 г.) чётко разделяет “декадентство” и “символизм”. Первое представляет собой вполне определённую франко-русскую школу, озабоченную „введением в общий литературный оборот различных усовершенствований в технике стихосложения”. По мнению Анненского, Вяч. Иванов — почти декадент, его поэзия грешит начётничеством, вредящим лирическому эффекту; напротив, творчество символистов — истинная поэзия, вознесшаяся на недосягаемую высоту благодаря своей независимости; символистский стих — сама природа; подлинная поэзия может быть только символистской. В. Брюсов в «Русских символистах» (вып. I, М., 1894) о различиях “символизма” и “декадентства” пишет:
‹...› Я считаю нужным напомнить, что язык декадентов, странные, необыкновенные тропы и фигуры, вовсе не составляет необходимого элемента в символизме.
Правда, символизм и декадентство часто сливаются, но этого может и не быть. Цель символизма — рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нём известное настроение.
Всё так, но Г. Тастевен рассудил, что в России подлинное воплощение упадка, “русский Верхарн” — Брюсов! Декаденство, добавлял он, было в России искусством эпигонов, чуждым “русской идее”... (
Г. Тастевен. Футуризм: на пути к новому символизму. Указ. соч., с. 16).
 42
42 Все религии, все мистические учения, поскольку они претендуют на выход за пределы “видимого”, приветствовались “символистами”, вследствие чего их философия донельзя эклектична. Это не позволяет говорить о ней как о единой доктрине:
Истинной философии предлежит задача проследить все возможные типы миросозерцания. Ныне это совершается синтетически, через обозрение уже созданных систем; пора ввести в эту работу анализ. Надо лишь сознать, что все возможные миросозерцания равно истинны.
(В. Брюсов. Собрание соч., указ. соч., т. VI, стр. 56–57)
 43
43 В России популярность спиритизма, теософии, магии, индийских вероучений на рубеже веков зашкаливала (см.:
В. Брюсов. Об искусстве // Собр. соч., указ. соч., т. VI, с. 53–54.). Идеи Р. Штейнера, безусловно, повлияли на Вяч. Иванова; в ещё большей степени их притягательную силу испытал на себе А. Белый. “Символисты” со времён Малларме „приветствовали звоном щита” эзотерику и магию: „Я говорю, что между старыми приёмами и чарами поэзии налицо тайное побратимство” (см.: Variations sur un sujet — Grands faits divers). Герметизм, первоначально гностическое учение, приписываемое Гермесу Трисмегисту (см.:
A.J. Festugière. Hermétisme et mystique païenne.
Paris: Aubier-Montaigne. 1967. Р. 28–87), маги от изящной словесности приспособили для текущих нужд: любого рода “закрытая” поэзия объявлялась “символистской”. Поэт-“чародей” (в этимологическом смысле) — “заклинатель букв”. Русские “символисты” подхватили эту банальность французского “символизма”, выработав из неё (Вяч. Иванов и А. Белый) концепцию поэта-теурга.
 44
44 Для В. Брюсова Ницше был ниспровергателем общепризнанных ценностей (см.:
В. Брюсов. Священная жертва // Собрание соч., указ. соч., т. IV, с. 99). Очевидно, Ницше с его „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik” и был вдохновителем ивановского “дионисийства”, хотя русский поэт ни в коем случае не одобрял безбожия немецкого философа (см.: Ницше и Дионис // По звездам. Указ. соч., с. 1–20). А. Белый без колебаний присоединил Ницше к “символизму”, назвав его первым поэтом-“символистом” (Ницше в «Так говорит Заратустра», по мнению Белого, говорит аллюзиями, символами: „Заратустра эго-ряд символов. Символы не говорят у Ницше; они только кивают...” (
А. Белый. Фридрих Ницше // Арабески.
М.. 1911. С. 61–90).
 45
45 “Символистская” магия (этой проблеме посвящены статьи Бальмонта «Поэзия как волшебство» (1915) и «Магия слов» А. Белого (1909) из книги «Символизм») — практическое воплощение выдвинутой Рембо, Верленом и Малларме теории внушения. Однако внушение — краеугольный камень этики Бергсона, какой она сформулирована в «Непосредственных данных сознания» (1889). При этом “интуитивизм” В. Брюсова, культ “творческого мгновения” заимствован им как у Бергсона, так и у Шопенгауэра (
В. Брюсов. Ключи тайн // Весы, 1904, №1). С Шопенгауэра, видимо, началось и почитание музыки высшим искусством, и мысль, что мир творится человеческой субъективностью (
В. Брюсов. Истины IV // Собр. соч., т. VI, с. 57–58)
 46
46 Увлечение античностью разделяли далеко не все “символисты”. Бальмонт, например, пребывал вне, скажем так, античной идеи. Напротив, поэтическая система Вяч. Иванова немыслима без греческих первоисточников (за что, кстати говоря, его порицал более умеренный поэт-“эллинист” И. Анненский, см. т. II, стр. 350, С. 189,7). Дионисийские “мистерии” и “оргии” получили в лице Иванова ярого защитника и неустанного пропагандиста. У этого учёного-“символиста” несть числа стихотворениям на тему страдающего бога. Этому же посвящены весьма серьёзные исследования, включая докторскую диссертацию (Эллинская религия страдающего бога — Опыт религиозно-исторической характеристики.
СПб. 1909; Дионис и прадионисийство.
Баку. 1923). Наконец, Вяч. Иванов попытался привить к русской поэзии древние жанры дифирамба, пиндаровской оды и философской трагедии (Примечание о дифирамбе — Тезей-дифирамб Вакхилида // Прозрачность.
М. 1904; Первая пифийская ода Пиндара.
СПб. 1899; Тантал.
М. 1905; Прометей.
М. 1919).
 47
47 Мережковский писал о Вл. Соловьёве (О причинах упадка..., цит. соч., с. 302–303):
‹...› На примере Соловьёва видно, как в новом человеке возможно это сочетание глубокого религиозного чувства с искренней и великой жаждой земной справедливости. ‹...› После многих лет, как в молодые годы у Пушкина, у Белинского, у всех лучших русских людей, любовь к народу и общественная справедливость снова являются у Вл. Соловьёва, как идеал бесконечный и божественный, как святыня, как вдохновение, в ореоле красоты и поэзии.
Вл. Соловьев, хотя и вдохновил “символистскую” философию (первым заговорил о “божественной Софии”, первым понял искусство как “теургию”), не был последователем новой эстетики впоне: присовокупил, например, остроумные пародии на первых “символистов” (в частности, на В. Брюсова) к рецензии на третий выпуск сборника «Русские символисты» (Вестник Европы, №10, 1895). См.: Вл. Соловьёв. Стихотворения и шуточные пьесы. М. 1922. С. 287–289. Его роль посредника между русской культурой XIX века и “символизмом”, безусловно, весьма существенна (См.: Вяч. Иванов. Религиозное дело Вл. Соловьева // Борозды и межи. М. 1916. С. 97–115):
Значение Соловьёва — поэта небесной Софии, Идеи Идей, и отражающей её в своих зеркальностях Мировой Души — определяется и по плодам его поэтического творчества: он начал своею поэзией целое направление, быть может — эпоху отечественной поэзии. Когда призвана Вечная Женственность, — как ребёнок во чреве, взыграет некий бог в лоне Мировой Души; и тогда певцы начинают петь. Так было после Данта, так было — в лице Новалиса — после того, кто сказал: „Das Ewig Weibliche zieht uns hinan”. Кроме того, Вл. Соловьев нашёл, как учитель, слова, раскрывшие глаза поэту и художнику на его истинное и высочайшее назначение: Соловьёв определил новое искусство как служение феургическое.
Но значительнее и святее всех его других дел было то самоопределение нашей национальной души, которое говорило его устами. Упразднитель славянофильства — как судят о нём обычно, — он только очистил старое предание верования нашего в народное назначение наше от лжи, лежащей в уклонах национализма, как начала отвлечённого, т.е. оторванного от вселенской Правды. Но веру в народную душу, как живую реальность, и в особенное провиденциальное назначение наше он сохранил, и из этого наследия не расточил ничего. Чрез Достоевского русский народ психически (т.е. в действии Мировой Души) осознал свою идею, как идею всечеловечества. Чрез Соловьёва русский народ логически (т.е. действием Логоса) осознал своё призвание — до потери личной души своей служить началу Церкви вселенской. Когда приблизится чаемое царство, когда забрезжит заря Града Божьяго, избранные и верные Града вспомнят о Соловьёве, как об одном из своих пророков.
 48 Вяч. Иванов
48 Вяч. Иванов. Кормчие Звёзды // Собр. соч. Т. I.
Bruxelles. 1971. С. 606.
 49
49 “Символистское” искусство есть созерцательный аскетизм. Мир задуман как фантасмагория, “майя”, пелена иллюзий скрывает “истинную” реальность. Перед поэтом-“символистом” и его читателем закономерно встаёт глубинный вопрос античной поэзии о взаимосвязи поэтического
λόγος и
ἀλήθεια (
Платон. Государство. Кн. III, X). Достоинства самого поэтического факта не рассматриваются: это другой вопрос, тоже, по мнению Э.А. По, “метафизический” (в «Маргиналиях» — «Что такое поэзия?»); его-то и ставит “футуризм” и, вслед за ним, “формальная” школа.
 50
50 Для “символиста” образность как поэтический приём приемлема только в том случае, если фигура речи “исчезает” при своём появлении, служа простым ретранслятором Истины, которую она отражает, словно зеркало. Вот почему большинство “символистов” (большинство, ибо в зависимости от случая найдётся множество нюансов) так настаивали на двойственной природе поэзии, на прозрачности и призрачности, которые делают её “привидением” невыразимой Реальности. См.:
К. Бальмонт. Элементарные слова о символической поэзии.
М. 1904:
‹...› Как определить точнее символическую поэзию? Это — поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два содержания: скрытая отвлечённость и очевидная красота сливаются так же легко и естественно, как в летнее утро воды реки гармонически слиты с солнечным светом.
Мережковский ещё более откровенен; опираясь на афоризм Тютчева „Мысль изреченная есть ложь”, он заявляет (О причинах упадка..., указ. соч., с. 249):
‹...› В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самоё художественное вещество поэзии одухотворённым, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя.
А вот что сказано им о поэзии Фофанова (там же, с. 293):
Подобного лирика привлекает не сама природа, а то, что лежит там, за пределом её. ‹...› Все предметы, все явления для него в высшей степени прозрачны. Он смотрит на них, как на воодушевленные иероглифы, как на живые символы, в которых скрыта божественная тайна мира.
Согласно В. Брюсову, искусство начинается где-то там, за границами физического мира; оно, по сути, метафизично (Ключи тайн // Весы, №1. 1904):
Исконная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения, вдохновения. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои тёмные, тайные чувствования. Где нет этого уяснения, нет художественного творчества. Где нет этой тайности в чувстве, нет искусства, Для кого всё в мире просто, понятно, постижимо, — тот не может быть художником. Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы познаваемого, в жажде зачерпнуть хоть каплю „стихии чуждой, запредельной”.
 51
51 Одно из достоинств “символизма” состоит в доведении поэтическую культуры до поразительной утончённости. Виртуозность исполнения сопровождается всесторонним знанием приёмов воздействия на читателя. В высшей степени овладев технической стороной дела, “символисты” проложили путь “футуристам”. Это не значит, что первые оказались адептами искусства ради искусства (этот упрёк скорее относится к “акмеистам” и “футуристам”): совершеннная форма означает для поэта-“символиста” исчерпывающую полноту выражения мысли.
 52
52 Для Вяч. Иванова, например, „прозрачность” (название одного из его поэтических сборников), а также сияние „кормчих звёзд” (название другого) позволяют познать “запредельное”, изучить топографию идеального мира. Такой взгляд на роль поэзии возможен только потому, что Вяч. Иванов, как почти все поэты-“символисты”, считает язык и “слово” чистыми формами. Номинация (поименование) суть “эйдетический” акт чистого мышления (идеации). Но сущности или “идеи” не могут быть полностью этим постигнуты: налицо барьер, за которым безмолвный язык Тайны остаётся навсегда замкнутым сам на себя. “Символизм” изменил бы самому себе, не отдавая должное невыразимому. Тайна — исконный миф “символистской” поэтической системы, который “футуристы” и “акмеисты” попытаются разрушить во имя объективного подхода к произведению искусства и языку. Для “символистов” такого рода предприятие казалось, видимо, невыносимым осквернением теургического акта, посредством которого поэт выдавал себя за священнослужителя, за посредника между мирским и священным.
 53
53 Для “футуристов”, в особенности для Хлебникова, миф будет иметь совершенно другое значение. Он станет прообразом форм, долженствующих осуществиться (миф как предвестник науки), т.е. возымеет эвристическую функцию.
 54
54 В выпусках 9 и 10 «Аполлона» (1913) Н. Пунин, подводя итог “авангардному” искусству, обвиняет его в “формализме”. Он приравнивает современную поэзию к поэзии великих риторов XV века, приписывая обеим чистую игру ума. Чтобы выйти из „колеи реализма и формализма”, он обращается к искусству иконы, которое, по его мнению, является подлинной символизацией и откровением. В области живописи эта критика ошибочна, ибо мы знаем роль византийской и русской иконографии в изобразительных системах Ларионова, Гончаровой, Малевича и Филонова. См.:
В. Шкловский. О Маяковском // Собр. соч., т. III, с. 42.
 55
55 Вяч. Иванов — один из немногих, кто осознал опасность неуклонного следования “символистской” доктрине. В эссе «Две стихии в современном символизме» он прибегает к изощрённой словесной акробатике, дабы разграничить идеалистический “символизм” и реалистический “символизм”. Первый — западный “символизм” — по сути своей монологичен; второй исполнен соборности:
Идеалистический символизм есть интимное искусство утончённых; реалистический символизм — келейное искусство тайновидения мира и религиозного действия за мир.
(По звёздам. Указ. соч., с. 277)
Но этому очень тонкому различению противоречит его собственная поэтическая и драматургическая практика, своего рода “славянофильская” попытка освобождения от западной модели (французской, по преимуществу).
 56
56 Музыкальную парадигму распространяют на изящную словесность со времен Верлена и Малларме. Однако не следует обольщаться этой “моделью”: разница между поэзией и музыкой — по крайней мере, в современных нам западных цивилизациях — едва ли преодолима; следует с величайшей осторожностью соотносить структурные законы музыки с законами звуковой организации поэзии. См.:
R. Jakobson. Musicologie et linguistique // Questions de poétique, op. cit., p. 102–104.
 57
57 Драма — это форма “символистского сознания”, поскольку эпоха ощущается как трагическая, а человек — как разделённый. Поэт, остро переживающий это усугубление, жаждет „примирительного елея” в соборности, художественной ипостасью которой ему кажется мистическая драма. Драматический театр, объединяющий своим хоровым принципом актёров и зрителей вокруг вновь открытого мифа, даёт, таким образом, возможность разрешить кризис общества и кризис личности. См.:
Вяч. Иванов. Поэт и чернь // По звёздам, соч. цит., с. 33–42; Новые маски, там же, с. 54–64; Вагнер и дионисово действо, там же, с. 65–69; Заветы символизма // Борозды и межи, соч. цит., с. 121–144;
А. Блок. О театре // Cобр. соч., в 8-ми томах,
М.–Л. 1960–1963. Т. V. С. 261–263 и далее;
А. Белый. Театр и современная драма. С. 17–42; Символический театр. С. 299–313; Искусство и мистерия // Арабески.
München: Fink. 1969. С. 318–321.
 58
58 Греческая трагедия с её хоровым началом служит образцом для “символистов”, ищущих синтетическую и действенную форму искусства (см.
В. Брюсов. Ник. Вашкевич — Дионисово действо современности // Cобр. соч., указ. соч., т. IV, с. 112–114, где содержится критика воззрений Иванова). Именно у Вяч. Иванова очевиднее прочих надежда на „кафолическое, соборное, экуменическое” искусство (русское слово ‘соборность’ имеет религиозный оттенок, который французское ‘rassemblement’ бессильно передать; c другой стороны, греческие термины “кафолический”, “экуменический” затемняют этимологическое значение русского слова, в котором фигурирует глагол ‘собирать’). Более того, для Иванова дионисийская драма — прообраз таинства Страстей Христовых. Античная драма, таким образом, получает дополнительную ценность как художественный метод, благодаря которому может быть обновлён вышедший из употребления средневековый жанр “мистерии” и достигнуто примирение язычества и христианства. Принцип “соборности”, своего рода Communio Sanctorum в “самодеятельном” богословии Вяч. Иванова, рассматривается как форма искусства и жизни, посредством которой преодолевается инаковость пространства-времени и сама Смерть. Эта идея не будет забыта некоторыми “футуристами”, которые возьмут её на вооружение в обмирщённом виде, как тему (см. у Хлебникова в «Ладомире»,
СП I: 184:
Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне ‹...›Поскольку этот жанр нужно было создавать с нуля, “символистская” попытка закончилась провалом.
 59 А. Блок
59 А. Блок. Собр. соч., цит. соч., т. V, с. 183:
Комедия о Евдокии приближается к роду “лирической драмы”, “мистерии”, “священного фарса”.
 60
60 Углублённое размышление над литургической формой “символистского” искусства необходимо для понимания, с одной стороны, критического аспекта русской культуры 1895–1915 гг., с другой — значения “футуристского” бунта. Искусство (следовательно, литературный или “поэтический” дискурс) в любом обществе наделено определённой функцией. Художник предчувствует (или думает, что предчувствует) ещё не оформленные желания какого-либо сообщества, глашатаем которого он полагает себя, утверждая (в форме преувеличения или преуменьшения, хвалы или сатиры), что эти неясные стремления и тайные мечты непременно возобладают. Так возникает основополагающая роль художественного дискурса, которая соответствует насущной или отложенной потребности этого сообщества. Поэтический (художественный) дискурс парегоричен в том смысле, что его собственная “реальность” оказывается единственно возможной. Литература (взятая в совокупности поэтических и художественных дискурсов) не учит и не создаёт иллюзий: она устанавливает и закрепляет определённый миропорядок. “Мир” не бесповоротно такой, какой он здесь и сейчас; литература — хранительница его потенциала: она показывает, что всё возможно. Таким образом, поэтический дискурс фактически является призывом изменить мир, и способом этого хорошо понятного дискурса является действие. Если мир должен быть создан, он будет создан. Греческая мысль прекрасно понимала двусмысленность
μίμησις ποιητική, которое оказывается не столько “имитацией”, “дублированием” какого-либо “реального” мира, сколько представлением, выдумкой мира, и в данном случае участвует в
πρᾶξις, в действии.
Символистская “литургия” есть признак острого восприятия тех глубоких перемен, которые затрагивают “служение” искусства (и художника) в русском обществе конца XIX – начала XX века. Представления о художнике как об
δημιουργός, человеке из народа на службе обществу, сплочённому вокруг “идеи” (той самой “русской идеи”, о которой говорит Вяч. Иванов в статье «О русской идее», в «По звездам», соч. цит., С. 309–337) подготавливает почву для великих размышлений 1920-х годов о функции искусства и месте художника в обществе. Положение художника-“символиста” воистину трагично: предчувствуя неумолимое скатывание русской культуры к “светской” системе ценностей, которой он не одобряет или страшится, на поприще художественной литературы ему приходится вносить во всех отношениях несвоевременный сакральный дискурс. Поэт-“символист” ищет свои темы, свой язык, свою аудиторию и, не находя их, утешается фантастико-трагической выспрью, подобно Светловидову в пьесе Чехова «Лебединая песня».
 61
61 Русская “мистерия” — часть религиозной философии, согласно которой Второе Пришествие разрешиться вселенским Собором обожествлённого человечества (см.:
Д. Мережковский. Теперь или никогда). Но “мистерия” для русских “символистов” имела и преимущество технического характера: благодаря условности религиозного театра зритель мог следить за духовным действием, вникать в смысл произносимого, не задаваясь вопросом о предметности/условности сценической обстановки.
 62
62 Русские “символисты”, естественно, играли на двусмысленности слова ‘мистерия’. Более вероятную этимологию слова, которая, к тому же, не противоречит сакральному аспекту, см.:
L. Petit de Julleville. Les Mystères.
Paris. 1880. P. 187–189 (mistère = лат. mysterium — драма, должность, служение, действие (Страсти и Искупление). Таков же смысл греческого слова
δράμα (деяние, действие).
 63
63 Упрек относится не ко всем “символистским” драмам без исключения. Блок ясно видел недостатки “символистской” драматургии и даже пародировал их в своих пьесах «Балаганчик» и «Незнакомка». Его критика современных “символистских” драм не лишена суровости. См.:
А. Блок. О драме // Собр. соч., цит. соч., т. V, с. 169:
Драма символическая в России — опять случайна, не национальна, вспоена чужеродными токами; таковы: «Земля» Брюсова, «Тантал» Вячеслава Иванова.
 64
64 Сами того не подозревая, русские “символисты” этим обеспечили торжество воображения в поэзии. Идея поэтической графики, освобождённой от всякого смысла, будет подхвачена, усилена и систематизирована футуристами, особенно заумниками (И. Зданевич в его „дра”). Но уже Бодлер говорил, что
поэтическая фраза может имитировать (и, тем самым, напоминать музыкальное искусство и математическую науку) горизонтальную линию, прямую восходящую линию, прямую нисходящую линию; она может взмыть к небу, не задохнувшись, или низвергнуться в ад с неимоверной скоростью; она может следовать по спирали, описывать параболу или зигзаг, образующий собой серию наложенных друг на друга углов.
(Черновик предисловия к «Цветам зла»)
 65
65 См., в частности, признание В. Брюсова (Собр. соч., указ. соч., т. VI, с. 581)
Истин много, и часто они противоречат друг другу. ‹...› Моей мечтой всегда был пантеон, храм всех богов. Будем молиться и дню и ночи, и Митре, и Адонису, Христу и Дьяволу.
и его грандиозные начинания (Сны человечества, Фильма веков // Литературное наследство.
М. 1976. Т. 85. С. 69). Брюсов, Бальмонт, Иванов, Белый отличались той же “александрийской” ненасытностью ко всему, что касалось культур всевозможных народов и эпох.
 66
66 Сдачу в архив “символизм” более всего заслужил своей проповедью того, что искусство вне произведения (перефразируем В. Шкловского: „Искусство в самом произведении, а не за произведением” // О Маяковском). Шкловский убедительно обосновановал “акмео-футуристский” бунт “улётностью” своих “отцов”:
Символизм хотел быть не только школой в искусстве.
Он жил пересечениями с другими системами и больше всего пытался жить религией.
Он жил на замене одних смыслов другими, часто жил шорохом сопоставлений. ‹...›
Символисты не верили в мир, не верили в воздух и скрывались под крышей соответствий.
(Собр. соч., цит. соч., т. III, с. 22, 27)
В «Жили-были» о поэтических приёмах “символистов” сказано так:
Мы противопоставляли своё понимание литературы теориям символистов — Брюсова, Вячеслава Иванова, Андрея Белого. По их теории, литературное произведение было важно тем, что оно превращало строй жизни в рой соответствий. Символист хотел рисовать не натуру, а то, что натура от него заслоняла. Перемещая источник света, символист рой теней и отблесков принимал за открытие тайны. Символист считал “тайну” не только разгадкой мира, но самим миром, входом в него. Рой символов должен был быть раскрытием скрытого, трансцендентного, тайного, мистического смысла жизни.
Обратно к жизни реальной, экзотичной, грубой, или интимной, потому, что интимное всё же менее изношено, звали акмеисты, но не все. ‹...›
Поэтика символистов дала ряд наблюдений очень технологичных, но всё время старалась обратиться из поэтики в введение в курс тайноведения.
(Там же, с. 114, 115)
 67
67 Точную дату краха “символизма” назвать невозможно. 1905 год знаменует собой первый кризис, 1910 год — второй. Именно в 1910–1912 гг., когда “символизм” добился главенствующего положения в русской литературе, его благополучие оказалось под угрозой:
Символизм в 1910 году уже растёкся по журналам, обжился, расквартировался.
Думал он завоевать страну, а вот, оказывается, стал наёмным войском, как были наёмные варвары у римлян. Брюсов в «Русской Мысли». Даже в журнале для семейного чтения «Нива» — и там символисты. Только Блок пишет мало.
Настоящий поэт Бальмонт потерял упор, потерял сопротивление.
Переводил со всех языков, читал бесконечно много, пил вино, писал стихи. Он настоящий поэт, воин даже, только обезоруженный, расквартированный, ходит в тулупе или в каких-нибудь римских сандалиях, снятых с хозяина, и жена хозяина живёт с ним, как с достопримечательностью, а он ставит самовары, рассказывает за чаем о походах, о Дании или о Дакии.
Шло чествование старого Бальмонта. Всё было как у людей. Говорили речи академические, читали стихи, приветствовали, и Бальмонт, картавя, читал стихи. И тут выступил Маяковский...
(В. Шкловский О Маяковском. Указ. соч., стр. 36–37)
Однако не следует сгущать краски, представляя “символизм” образца 1910 года полумёртвым, если не добитым “отцеубийцами” из числа “акмеистов” и “футуристов”. “Символизм” процветал вплоть до 1915 года, а стычки между ним и его преемниками были значительно менее жестокими, чем принято считать; достаточно вспомнить сотрудничество “символистов” и “футуристов” в сборнике «Стрелец» в 1915 году. Пастернак настаивает на благопристойности поэтических вечеров, собиравших “футуристов” и “символистов” (Охранная грамота. Указ. соч., с. 284–285); о популярности “символизма” в 1912 г. см. показания В. Пяста, цитируемые Э. Голлербахом в статье «Поэзия Давида Бурлюка» (указ. соч., стр. 3–4). Тем не менее, кризис 1910–1912 гг. был действительно глубоким: сами “символисты” признали его завершением периода в русском поэтическом искусстве (
А. Белый. Арабески. Вместо предисловия // Указ. соч., с. II–III). Именно триумфальное шествие “символизма” парадоксальным образом предопределило его печальный конец; отметим, что в 1915 году завершилась экспансия и гегемония “футуризма” (гилейской версии, т.е.
будетлянства), что вызвало его самоустранение как поэтической “школы” (см.:
В. Маяковский. Капля дёгтя // Полн. собр. соч., указ. соч., т. I, с. 349–351). Первопричина банкротства “символизма” предельно ясна: гегемон впал в им же самим порицаемый грех излишества. Витиеватая отвлечённость “символистской” поэтической речи обернулась утратой смысла. Превращение поэтической категории (символа) в универсальную философскую категорию привело к алогизму и даже “глоссолалии”:
будетлянская заумь Кручёных — гротескный перепев асемии обыденной поэтической продукции предшественников. Тынянов (Промежуток // Архаисты и новаторы, указ. соч., с. 549–550) заявил, что «символизм» умер от преизбытка тематики и поэтической культуры, однако воздержался от разъяснения.
 68
68 “Разбитое корыто” — вполне заслуженный поэтами-“символистами” итог. Подозреваю, что головокружение от пустоты и небытия доставляло им не одни только неприятные ощущения, и что страх перед безмолвием бесконечных пространств можно не без удовольствия использовать как возбуждающее средство (
А. Белый. Маска // Арабески, соч. цит., с. 130–137).
 69
69 Кубистскую “революцию” начала века можно не без оснований считать подготовленной развитием живописи и поэзии в XIX веке. Уже Рембо призывал художников покончить с раболепием перед окружающей действительностью, ибо живопись создаёт свою собственную реальность. Импрессионисты, а вслед за ними Сезанн, Матисс, Мондриан, Брак, Пикассо отказались от правдоподобия, ранее оправдываемого дихотомией искусство/природа (см.:
Marcelin Pleynet. Système de la peinture.
Paris: Le Seuil. 1977. Р. 11–97). На высоком уровне абстракции “революция” кубистов означает поиск новой формы; в этом смысле правомерно структурное подобие изобразительной, музыкальной и поэтической систем (см.:
В. Шкловский. Жили-были // Указ. соч., с. 111):
Смена литературных школ связана с изменением задач, которые ставит перед собою искусство. В то же время, каждая литературная форма, пользуясь общим языковым мышлением, задаёт себе программу использования общечеловеческого мышления, по-новому определяет значение красивого, трогательного, нужного, страшного и переосмысливает взаимоотношение смыслов, то есть форму произведения.
Изменения стиля продиктованы потребностями формы, адекватной новому мировосприятию (эстетике). Замена музыкальной парадигмы на изобразительную в русской поэтической системе начала ХХ века стала возможной только потому, что поиски новой формы по времени совпали с кризисом “символизма”:
Никогда поэзия не была так открыта для вторжений. В поэзии шла гражданская война формы. И вот в неё вторглась живопись.
В. Шкловский. О Маяковском.
(Соответствующий анализ структурного единства в многообразии средств см.:
Mario Praz. Mnemosyne.
Princeton University Press. 1974. Р. 55–78. О преемственности моделей и преодолении приёмов “символизма” посредством живописи см.:
R. Jakobson. Sur la prose du poète Pasternak // Questions de poétique, op. cit., p. 128–129). В живописно-поэтическом “футуризме” торжествует дух геометрии: мир уплощается до совокупности внятных разуму “линейных схем” (см.:
Hugo Friedrich. Structures de la poésie moderne, op. cit., p. 64–70).
 70
70 “Репрезентативное” утверждение, как и его противоположность, не является ни истинным, ни ложным. Это часть изобразительной (или поэтической) системы, элемент того, что мы сейчас назвали бы её идеологией.
 71
71 Проблемы преемственности художественных “школ” и эстетических систем во многом схожи. Эстетическая система (любая поэтическая система подчинена
αἴσθησις и манифестирует её) конструирует мир, подобно научной теории. Как таковая, она подчинена культурной модели, определяющей “стиль” своего времени. “Символизм”, “акмеизм” и “футуризм”, несмотря на все различия, представляют собой разные стадии одного и того же поиска формы, адекватной “генополитизму” XX века — той общемировой городской культуре, решительно заявившей о себе в России начала века. “Акмеисты” и “футуристы” на новый лад задавали те же самые вопросы, что и “символизм”.
 72
72 Большинство “футуристов” занимались — иногда эпизодически, иногда на постоянной основе — живописью (Хлебников, Маяковский, Кручёных, Каменский). Д. Бурлюк, прежде чем увлёкся сочинительством, был художником. О соотношении “футуристской” поэзии и живописи см.:
Н. Харджиев. Маяковский и живопись // Маяковский: материалы и исследования, соч. цит., с. 337-–400, особенно с. 347:
Большинство русских поэтов-футуристов пришли к поэзии от живописи. Кроме Д. Бурлюка и Маяковского можно указать на А. Кручёных, Елену Гуро, а из представителей других футуристических группировок — на С. Боброва и Хрисанфа (Лев Зак). Занимались также живописью Хлебников, В. Каменский, Божидар (Богдан Гордеев), И. Зданевич, рисовал Н. Бурлюк.
Для Хлебникова живопись (в том совершенно особом смысле, в котором он её понимал, т.е. “идеография”) начиналась там, где кончалась поэзия (Записная книжка В. Хлебникова, указ. соч., с. 26). См. также его статью «Художники мира!» (
СП V: 216–221). О Д. Бурлюке-художнике см.:
K. Dreier. Burliuk.
N.Y. 1944. Р. 69–70 и
Э. Голлербах. Соч. цит., с. 27–28. Д. Бурлюк — автор любопытной статьи «Русские “дикие”», вышедшей в сборнике Кандинского и Ф. Марка «Der blaue Reiter» (
München. 1912. Р. 13–19), где очевиден преобладающий интерес к живописи в то время, когда русский “футуризм” ещё находился в подвешенном состоянии.
 73
73 Отношения между Вяч. Ивановым и В. Хлебниковым всегда отличались взаимным уважением, не распространявшимся, однако, на различия воззрений в области поэзии (см. обращённое к Хлебникову стихотворение
Вяч. Иванов. Подстерегателю // Собр. соч., оп. цит., т. II, стр. 340; см. также показания Дм. Петровского:
Итак, Хлебников решил предложить вступление в 317 некоторым, по его мнению, близким “идее государства времени”, лицам, в том числе Вячеславу Иванову и о. П. Флоренскому.
В этот же вечер — 29 февраля 1916 г., в Касьянов день отправились мы вдвоём с Хлебниковым к Вячеславу Иванову. Кажется, он дал свою подпись на опросном клочке Хлебникова, во всяком случае вечер провели хороший и серьёзный. Вячеслав Иванов любил и ценил Хлебникова, только жалел, что тот уходит от поэзии и увлекается своими законами, хотя самому ему идея Хлебникова: свести все явления к числу и ритму и найти общую формулу для величайших и мельчайших и, таким образом, возвысить мир до патетического — была близка.
Дм. Петровский. Воспоминания о Велимире
Хлебникове // ЛЕФ, № l, март 1922 г., стр. 146.
Об отношении Хлебникова к “мэтру” русского “символизма” свидетельствует его переписка (СП V: 286–287, 296 и НП: 354–355). В. Шкловский сообщает важный анекдот о почтительном отношении Хлебникова к М. Кузмину (О Маяковском // Собр. соч., т. III, указ. соч., стр. 49). Разумеется, дружеские или учтивые личные отношения сами по себе не предполагают какой-либо поэтической близости. Что не могло не привлекать молодого Хлебникова в Иванове и Кузмине, так это замечательная “русскость” их языка. Эта может показаться странным, но Иванов и Кузмин, вопреки наносному их западничеству, — глубоко русские, “национальные”, даже варварские писатели; см.: А. Блок. О драме // Собр. соч., т. V, соч. цит., с. 182–183; об “азиатчине” Вяч. Иванова см.: К. Зелинский. Поэзия как смысл, соч. цит., с. 104, где приводится суждение Н. Гумилёва о поэзии Вяч. Иванова (опубликовано в: Н. Гумилёв. Статьи и заметки о русской поэзии // Собр. соч. в 4-х томах. Т. IV. Washington. 1968. С. 297–298: „Мне хочется показать, что Вячеслав Иванов — с Востока...”). Мандельштам оставил о поэтике и языке Вяч. Иванова суждение, проливающее свет на эстетическое родство поэта-“символиста” и молодого “футуриста” (Буря и натиск // Собр. соч., указ. соч., т. II, с. 385):
Вячеслав Иванов более народен и в будущем более доступен, чем все другие символисты. Значительная доля обаяния его торжественности относится к нашему филологическому невежеству. Ни у одного символического поэта шум словаря, могучий гул наплывающего и ждущего своей очереди колокола народной речи, не звучит так явственно, как у Вячеслава Иванова — «Ночь немая, ночь глухая», «Мэнада» и проч. Ощущение прошлого, как будущего, роднит его с Хлебниковым. Архаика Вячеслава Иванова происходит не от выбора тем, а от неспособности к относительному мышлению, то есть сравнению времен. Эллинистические стихи Вячеслава Иванова написаны не после и не параллельно с греческими, а раньше их, потому что ни на одну минуту он не забывает себя, говорящего на варварском родном наречии.
Эту “филологическую” страсть, эту любовь к родному языку в Хлебникове подметил именно М. Кузмин, см. некролог великому футуристу (М. Кузмин. Условности: Статьи об искусстве. Париж. 1923. C. 164–165, 173):
‹...› Хлебников умер. Это был гений и человек больших прозрений. Органическая косноязычность, марка “футуриста” и выдавание исключительно филологических, хотя и блестящих, опытов за поэтические произведения, сделают надолго его непонятным, но Вы давно уже оценили его опьянение русским языком и южно-русской природой, его лирико-эпическую силу, детскую нежность под шершавой корой, и, наконец, его способность проникать в самую глубь, сердцевину творчеств русских сил и предвидения. «Ночь в окопе» и «Зангези» — произведения длительного и неослабевающего дыхания. К сожалению, я не смог достать книги «Доски Судьбы», где, вероятно, немало острых догадок и острых размышлений. Современность проходит по творчеству Хлебникова, как лучи прожектора по облачному небу, образуя странную и смутную игру сдвигов, но, перенесённая в метафизический план, приобретает тем более устойчивую и убедительную реальность. Хлебников был бы величайшим поэтом, “ведуном” наших дней, если бы можно было надеяться, что со временем он будет понятен. Но органическая невнятность и сознательное пренебрежение к слушателю ограничивают его место в искусстве. Он имеет сходство с немцем Гаманом, “северным магом” эпохи “бури и натиска”, превосходя, конечно, его гениальностью. ‹...›
Хлебников и Вячеслав Иванов замечательные поэты, несмотря на символизм и футуризм, а не благодаря своей принадлежности к этим школам.
 74
74 О влиянии на Хлебникова Ф. Сологуба и А.Н. Толстого см. в следующей главе.
 75
75 Проблема “подражания” единосущна истории искусства. Среди прочего, вспомним борьбу французских гуманистов XVI в. за аргументированное подражание Древним, а век спустя — охлаждение Новейших к Древним. На гносеологическом уровне такая постановка вопроса недопустима, но “правомерность” (именно в кавычках) этой псевдоконцепции заключается в её полемической стороне: писателя или литературное движение, заподозренных в “подражании”, принято считать полностью дискредитированнными. См. полемику В. Брюсова с „Зоилами и Аристархами”, где дан ответ на обвинение в подражании:
‹...› На второе обвинение мы ответим, что для нас существует только одна общечеловеческая поэзия.
В. Брюсов. Статьи и рецензии // Собр. соч., цит. соч., т. VI, с. 33.
Но, как это ни парадоксально, верно и обратное. Не бывает литературы без подражания. Лотреамон об этом высказался так: „Плагиат необходим. Прогресс подразумевает это. Он заимствует фразу автора, использует его выражения, удаляет ложную мысль, заменяет её правильной”. В качестве контрпарадокса позволим себе заметить, что каждый писатель заранее подражает своим последователям... В самом деле, именно единство структуры поэтических систем разных периодов даёт повод говорить о подражании или влиянии (см.:
Н. Харджиев. Маяковский и живопись. Цит. соч., с. 395). Термины затемняют активную, творческую сторону акта подражания, который всегда является итогом выбора, отбора (никакая новая школа, включая “футуристов”, не избегла обычая выдумывать себе генеалогию и назначать “предков”). От чего критика должна отказаться в обращении с понятиями “подражание” или “влияние”, так это от reductio ad cognita (К. Чуковский, сводя новаторство “футуристской” поэтики к перепевам Уитмена, поступил крайне опрометчиво).
В отношении “влияния” мы должны различать:
а) близкое влияние, непосредственную преемственность (в случае “футуризма”, например, от “символизма”;
б) отдалённое влияние, избираемое “наследие”, что гораздо важнее (и то сказать, поэт как творец отнюдь не игралище причинного детерминизма “шаг за шагом”. Никакой “обусловленнности” тем, что находится рядом или прямо предшествует, не существует). Статические причинные категории “до” и “после” целесообразнее заменить динамической
актуальностью. Насущное для поэта, участвующего в коллективной памяти своего языка и своей культуры, опосредовано литературной памятью, то есть жанром (см.:
В. Шкловский. Третья фабрика. 1926. С. 100;
М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского
М. 1972. С. 178–179) — таковой принадлежит и настоящему, и прошлому, и будущему (особенно это относится к “футуристам”, озабоченным “памятью о будущем”). Вот где сосредоточен важнейший элемент поэзии, столь трудно поддающийся критике (воссоздать “воображаемую библиотеку” поэта невероятно сложно) — в памяти, благодаря которой только и возможна поэтическая культура. Греческий миф о Мнемозине, матери Муз (см.:
Hésiode. Théogonie.
Paris: Les Belles Lettres. 1967. Р. 34) весьма поучителен: ни одна культура не способна выжить без памяти. Даже самый оголтелый “футурист” не осмелится провозгласить поэтическую амнезию приёмом своего искусства: такой жест приличествует
глупоствари. Наиболее “отвязные” из “заумников” А. Кручёных и И. Зданевич без устали твердили о преемственности своих ничинаний от поэтических предков, полагаемых “символистской”
верхарней ничтожными. Ум поэта ищет и возрождает древние формы мысли в той мере, в какой они соответствуют его потребностям и заботам (в конкретном случае В. Хлебникова «Слово о полку Игореве», Аввакум, Кирша Данилов, русские народные сказки, американский эпос («Гайавата» Лонгфелло, «Листья травы» Уитмена), Веды, восточные мифы и т.д. — его современники в такой же мере, что и Блок, Кузмин, Иванов или Сологуб). Именно это замечательное свойство поэтического “пространства”, единого по своей сути и причастного всем временам и народам, подмечено Ахматовой (
А. Ахматова. Избранное.
М. 1974. С. 464 ):
Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата. 76
76 Пародия-высмеивание (обычное значение этого термина) — обязательный этап литературного ученичества. Именно благодаря ей перенимается “сделанность” произведения. Ни один поэт не “рождается” ex nihilo. Разрыв с нынешним вкусом и неким прошлым, канонизированным этим предпочтением, происходит через художественную деградацию культурных мифов, лежащих в основе господствующей эстетики. Пародия знаменует конец диктатуры литературного “фетишизма” и навязывания определённой эстетической системы культового обожания. Рембо “снижал” Венеру классиков и парнасцев («Vénus Anadyjmène»); Хлебников переносит Венеру, изгнанную из её храмов, в ледяную пустыню Сибири, где богиня становится прислужницей старого шамана («Шаман и Венера»). Малевич высмеивает Венеру „с большими ягодицами”, символ ненаглядной красоты неоклассицизма «Мира искусства». “Кубофутуристы” противопоставляют „чёрного Аполлона” “покровителю” “символистов”, одноименному богу с обложки знаменитого журнала. Маяковский “развенчивает” религиозные мифы, популяризируемые “символистами” («Владимир Маяковский», «Облако в штанах»); о его пародийных приёмах см. ценное замечание В. Шкловского (О Маяковском // Собр. соч., указ. соч., т. III, с. 31–33). Это не “конец искусства”, не триумф гуннов или варваров; наоборот — вторжение в жизнь, коснеющую от бесконечного повторения одного и того же. “Футуристская революция”, разрушая одни культурные мифы, “поднимает на щит” другие, тем самым оказываясь необходимым условием обновления эстетических воззрений. “Символистская” поэзия, деградировавшая до риторики, преемственностью “акмеизма” и “футуризма” возрождается как ценность. О механизме литературной эволюции, помимо упомянутой статьи Тынянова (Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Архаисты и новаторы.
München. 1967; там же: «О литературной эволюции»; там же: «Литературный факт»; о диалектике традиция/новаторство см.:
R. Jakobson. La Dominante // Questions de poétique, op. cit., p. 145–151; ibid.: «Sur la prose du poète Pasternak», p. 129–130, где учёный остроумным генетико-лингвистическим сравнением доказывает постоянство традиции в системах, которые она без устали порождает. Весьма любопытно, что подобное лингвистическое сравнение Мандельштам использовал в своей брошюре 1922 года «О природе слова», чтобы обозначить преемственность русской традиции в поэтической системе Хлебникова (
О. Мандельштам. Собр. соч., указ. соч., т. III, с. 287).
 77 Ю. Тынянов
77 Ю. Тынянов. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Архаисты и новаторы. Соч. цит., с. 412–455.
 78
78 Эти известные по статьям и воззваниям обвинения (которое мы, разумеется, никоим образом не одобряем) — явное недоразумение. Что на самом деле Хлебников с такой горячностью и последовательностью осуждал в своих памфлетах, так это “символистский” стиль Брюсова и Бальмонта, “перелагающих” фольклор классическими размерами. См. «Зовы древности» Бальмонта (1908); его же «Жар-птица» (1907), «Зелёный вертоград» (1909) и статью в №3 «Весов» за 1904 год. Такой же “упрёк”, ещё более несправедливый, выскажет Блоку Маяковский, правда, в форме поэтической полемики, в седьмой главе «Хорошо!» (см. на эту тему:
З.С. Паперный. Маяковский и революция слова // Поэт и социализм — К эстетике В.В. Маяковского.
М. 1971. С. 110–132).
 79
79 Эту “идеологию” излагает Б. Лившиц (Полутораглазый стрелец. Соч. цит., с. 211–256).
 80 R. Jakobson
80 R. Jakobson. Notes marginales sur la prose du poète Pasternak // Questions de poétique, op. cit., p. 130. В этой статье Р. Якобсон раскрывает многоликость “символистского” дискурса, способного порождать столь же разные системы, как системы Пастернака, Маяковского, Хлебникова. Действительно, поэтический дискурс в высшей степени множественен, драматичен, лиричен и эпичен одновременно. Это свойственное “символизму” противоречие было воспринято Блоком как трагический диссонанс в “музыке” “символистской” поэзии (см.:
Т. Родина. А. Блок и русский театр начала XX века. Указ. соч.).
 81
81 С тем же успехом можно было бы заняться «Зверинцем» и «Журавлём», не без основания названными Б. Лившицем „чистым эпигонством, последними всплесками символической школы” (Полутораглазый стрелец. Указ. соч., гл. I, с. 21). Три рассматриваемые ниже пьесы тоже во многих отношениях “перепевы”, но факт остаётся фактом: они открывают стиль, который порывает — правда, не слишком решительно — со стилем “мэтров”. Для анализа «Журавля» отсылаем к превосходному исследованию:
Felix Philipp Ingold. Zur Komposition von Chlebnikovs Kranich-Poem
Zuravl // Slavica Helvetica; о «Зверинце» речь впереди.
 82
82 Пьеса написана в 1908 году (во всяком случае, закончена к концу 1908 года; см. письмо Хлебникова В. Каменскому от января 1909 года (
НП: 355). Частично опубликована Бурлюком (Весеннее контрагентство Муз.
М. 1915) в довольно искажённом виде. Текст, восстановленный по оригинальной рукописи, опубликован Н. Хардижевым (
НП: 64–75).
 83
83 «Железная дорога» — первоначальное название трагедии «Владимир Маяковский» (вариант: «Восстание вещей»; см.:
В. Маяковский. Полн. собр. соч., указ. соч., т. I, с. 439). В. Шкловский (О Маяковском // Собр. соч., указ. соч., т. III, с. 40–42) отмечает формальное сходство и принципиальное различие между замыслом пьесы Маяковского и “символистским” репертуаром (Матюшин также отмечает её символистское “происхождение” в «Русских кубофутуристах», указ. соч., с. 142).
О «Декларации первого всероссийского съезда Баячей будущего (поэтов-футуристов)» (1913) см.:
K. Malevič. Le Miroir suprématiste, op. cit., p. 41–42. О пьесах из репертуара «Будетлянина» см.:
J.-C. Marcadé. Postface à
la Victoire sur le Soleil, op. cit., p. 65–67. В примечании 7 к с. 90 сказано, что «Снежимочка» (1908) — вариация на тему «Снегурочки» А. Островского (1873). Мы увидим, что это далеко не так. По сути, в этой пьесе уже идёт борьба за жанр новой поэзии. См.:
Ю. Тынянов. Ода как ораторский жанр // Архаисты и новаторы. С. 85–86; и там же, С. 48–50, о проблеме статуса литературного произведения искусства.
 84
84 См. цитированное выше замечание В. Шкловского о трагедии «Владимир Маяковский». Вместе со «Снежимочкой» вспоминаются сказочные пьесы Блока («Балаганачик», «Незнакомка»). Блок прекрасно сознавал хрупкость русской драмы, обусловленную, по его мнению, чрезмерным уклоном в лирику (О драме // Собр. соч., указ. соч., т. V, с. 172):
Кроме того, что в русской драме отсутствует техника, язык и пафос, — в ней нет ещё и действия. Она парализована лирикой, и, зачастую только потому, что это — родная нам лирика широких русских просторов, мы принимаемся ценить драматическое или иное произведение, никуда не годное с точки зрения искусства.
Однако наиболее вероятная причина “малокровия” русской драматургии начала ХХ века — отсутствие длительной национальной театральной традиции (см.:
Д.С. Лихачёв. Поэтика древнерусской литературы,
Л. 1971. С. 321–330). “Символисты” вернулись к уже поднятому Пушкиным вопросу театральной народности («О народной драме и о «Марфе Посаднице» М.П. Погодина»);
будетляне предложили гораздо более остроумное решение; этот вопрос ставится на повестку дня каждой эпохи литературы в пику стилю господствующей школы.
 85
85 К перечню драм, представляющих собой литературную обработку мифологических сюжетов и народных сказок — «Русалка» Пушкина, «Снегурочка» Островского и др., — добавляются музыкальные обработки тех же тем и в том же духе воскрешения национального прошлого («Русалка» Даргомыжского, «Снегурочка» Римского-Корсакова).
 86 НП
86 НП: 394.
 87
87 Под литературной обработкой в данном случае мы понимаем согласование стилистически и тематически разнородных произведений (народных песен, сказок, былин, пословиц, частушек и т.д.), сводимых (и, следовательно, преобразуемых) в единое целое с общей структурой (лирическая драма), причём единство в этом жанре обеспечивается „фабулой, композицией действия”, согласно определению Аристотеля синтетического начала в драме (Поэтика, 1450а, 4–5).
Подготовительная работа Островского (сбор материалов) была значительной: «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева (
М. 1855–1863), народные песни, собранные П.В. Киреевским (изд. Общества любителей российской словесности при Московском университете в 1860–1874 гг.), личные записи, сделанные во время этнографических экспедиций, русская эпическая литература (в частности, «Слово о полку Игореве», по свидетельству самого Островского 15 марта 1873 г., см.: Полн. собр. соч., т. XV, 1953, с. 10). Пьеса имела огромный успех благодаря своему одновременно сказочному, лирическому и эпическому характеру. “Многоликость” существенно затруднила постановку «Снегурочки» 24 сентября 1900 г. Станиславским (см.:
М.Н. Строева. Режиссёрские искания Станиславского. Т. 1, 1898–1917.
М. 1973. С. 59–65). Очевидное и для Хлебникова внутреннее противоречие “тона” пьесы Островского будет использовано начинающим “футуристом” как лазейка, через которую можно ввести новую поэтическую форму.
 88
88 Все эти чувства были мастерски выражены игрой актёров Малого театра в постановке А.П. Ленского (8 сентября 1900 г.). См. свидетельство Н. Эфроса (Театр и искусство, 1900, №38, С. 671).
 89
89 Преобладание лирического элемента, несомненно, объясняет провал пьесы на конкурсе (Уваровская премия): её воспринимали как “поэтическую сказку”, к драме как таковой отношения не имеющую.
 90
90 Лирические места оперы Римского-Корсакова совпадают с лирическими паузами в пьесе Островского: пролог с восходом солнца и хором птиц, празднование Масленицы, свадебный обряд и Ярилин день. Именно поэзия народного язычества, обострённое чувство пантеизма в русском фольклоре побудили Римского-Корсакова к созданию этой оперы (или музыкальной сказки); см. воспоминания композитора (А.Н. Островский и русские композиторы.
М. 1937). Народность оперы Римского-Корсакова, заметим, не только в
αἴσθησις (том чувстве языческой радости, которым пронизано даже такое произведение, как «Русская Великая Пасха»), но и в тематической, ритмической и инструментальной “материи”. Этого достаточно, чтобы сказать, что народность в искусстве есть комплекс форм (“материя” есть лишь вторичная форма
αἴσθησις , системы форм).
 91
91 Понятие “народности” крайне неоднозначно и варьируется у разных авторов в зависимости от эпохи. Отточенное немецким романтизмом конца XVIII века (Volksgeist des Stürmer und Dränger) и вошедшее в русский словарь в начале XIX века, это понятие, оставаясь неопределённым, имеет чисто оппозиционное назначение (народное противопоставляется подражательному, “заморскому”). Пушкин попытался точно определить значение этого слова методом “от противного” (О народности в литературе // Собр. соч. в 10-и томах, т. VI.
М. 1962. С. 267–268). Попутно мы узнаём — и тем ценно его краткое замечание, — что лексика или тема сами по себе “народности” не создают. Пушкин полагает, что таковая не сводится к тому или иному формальному элементу, а сосредоточена в эстетическом эффекте, внятном соотечественникам автора.
С тех пор это понятие обогатилось политическим подтекстом, что только усложнило дело: народный = исходящий от народа или предназначенный для народа, причём под таковым понимается определённый класс общества. О изменчивости этого термина см.:
А. Карпенко. О народности Н.В. Гоголя.
Изд. Киевского университета. 1973;
Ж.Д. Хмарский. Народная поэзия А.С. Пушкина.
М. 1970, а также словарную статью «Народность» в Краткой литературной энциклопедии (Т. V.
М. 1968. С. 115–119). Обобщим эти значения и трактовки:
а) народное — то, что принадлежит стилю, жанрам, культурной теме (мифы, сказки, суеверия, легенды и т.д.) народа, понимаемого как совокупность некультурных и неграмотных членов общества. Фольклор — наука об этой народной культуре. Такое понятие фольклора могло возникнуть только у господствующих классов как противодействие моделями, которые эти классы в определённый исторический момент воспринимали как чуждые духу нации, принадлежностью к которой они гордились. Фольклор в этом смысле — “исконные” ценности, которые “необразованные” низшие классы сохранили от разлагающего влияния иноземных культурных моделей. В России, по понятным историческим причинам, этот “народ” издавна отождествлялся правящими и культурными классами с крестьянской массой;
б) народное — то, что “подделывается” под стиль, речь, тематику и т.п. людей, понимаемых в смысле а). Таким образом, мы можем говорить о народности Пушкина и Гоголя;
в) народное — то, что предназначено для потребления народом, понимаемым в смысле а). Претензия на эту форму народности приводит к литературному народничеству, посредственные результаты которого известны;
г) наконец, народный — в самом тонком смысле этого слова — тот (или то), кто полагает народность ниже своего достоинства, включая высмеивание, но, в конечном итоге, создает её. Именно в этом смысле Пушкин называл Расина и Шекспира подлинно „национальными, народными” писателями (цит. по: Собр. соч. 10-и томах, т. VI.
М. 1962. С. 267). Этот последний пункт ясно показывает конструктивный аспект понятия, его полемическую ценность в качестве контр-аргумента: “народность” — пример бунта против засилья эстетических канонов, полагаемых чуждыми поэзии; во Франции Мореас и его романская школа претендуют на роль галльской музы, отвергая „романтизм и его парнасских, натуралистических и символистских потомков” и ссылаясь на авторитет труверов, Вийона, Ронсара и его школы, Расина и Лафонтена и А. Шенье; в России “символисты” обращают оружие “народности” против натурализма и позитивизма; А. Блок восстаёт против “культурного этатизма” (приспособившего “народность” к самодержавию и православию, см. письмо Блока К.С. Станиславскому от 9 декабря 1908 г. (Собр. соч., цит. соч., т. VIII, с. 266):
‹...› К возрождению национального самосознания, к новому, иному “славянофильству” без “трёх китов” (или по крайней мере без китов православия и самодержавия) и без “славянства” (этого не предрешаю, но мал ведь и мало реален вопрос хотя бы о Боснии и Герцеговине) влечёт, я знаю, всех нас).
“Футуристы” противопоставили “символистам” отечественное, народное искусство (см.: СП V: 179–182). Несомненно, Хлебникова, кроме языческого, славянского, народного аспекта «Снегурочки», привлекал и антигосударственный, либертарианский потенциал сюжета; в этом смысле он воспроизводит в своей рождественской сказке весьма своеобразными средствами славянофильские чаяния, подобные цитированным выше, и доказывает своё “идейное” родство с таким великим, не подлежащим классификации поэтом, как А. Блок.
Определение стилизации см.: Ю. Тынянов. Достоевский и Гоголь // Архаисты и новаторы, цит. соч. соч., с. 416:
Стилизация близка к пародии. И та и другая живут двойною жизнью: за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый. Но в пародии обязательна невязка обоих планов, смещение их; пародией трагедии будет комедия всё равно, через подчёркивание ли трагичности, или через соответствующую подстановку комического, пародией комедии может быть трагедия. При стилизации этой невязки нет, есть, напротив, соответствие друг другу обоих планов: стилизующего и сквозящего в нём стилизуемого. Но всё же от стилизации к пародии — один шаг; стилизация, комически мотивированная или подчёркнутая, становится пародией.
Стилизация, как мы увидим, отчасти присутствует в рассматриваемых здесь пьесах Хлебникова, которые, повторяем, оригинальны лишь по отношению к некоторым моделям, преобладавшим в то время, когда эти пьесы были написаны. Но стилизация, граничащая с пародией на эти модели, использована лишь для того, чтобы “выправить” язык, раскрыть его внутреннюю поэтичность.
Подражание Островскому — это реконструкция, овладение методом литературной композиции.
 92 Вяч. Иванов
92 Вяч. Иванов. Поэт и чернь.
СПб. 1909. С. 40–41. Блок, считавший концепцию Иванова замечательной, резюмировал её в краткой формуле (Творчество Вячеслава Иванова // Cобр. соч., указ. соч., т. V, с. 10):
Миф есть раскрытие воплощения — таков вывод Вячеслава Иванова. Он знаменателен.
 93
93 Это “преображающее” свойство хлебниковского театра формально сближает его с театром Блока в его “мистериальным” аспекте (особенно в пьесе «Балаганчик»).
 94
94 О
словотворчестве Хлебникова в 1906–1908 годах см.: Записная книжка В. Хлебникова, оп. цит., с. 4–5:
Ещё более ранним надо считать вклеенный листок из черновиков X-а; даты не имеется, но, судя по написанному, надо отнести его к первому периоду словотворчества Х-а, к 1907–1910 г.
Мы можем проследить по этому черновику и вариантам огромную лабораторно-звучебную работу искусного словотворца, его сумления, смятобу, и его гремельный вир (вихрь, водоворот).
Вот наиболее разборчиво написанное:
Домирное дебло мирами зацвело.
Дебязь деблязь — дух дебла
браги, брагязь
бражог-хаос.
————————
Праматый вар метает стрелы
Метейных дел восторг исторг у века
единый клик: Прометей защитязь человека.
————————
Смеянейное вино
славяней пой вино
————————
Кто в славобе чародей
славодейное искусство
почитает славянина называя:
соловей.
————————
В вырей волхований
взвились
закрутились грезобные
станицы ‹...›
Зоре-то что видно
греть-горе
мреть — море.
См. также стихотворения, опубликованные в: НП: 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 119, 121, 122, 125, 126... Вот два образца из наиболее типичных:
Гроб леунностей младых.
Веко милое упало.
Смертнич, смертнич, свет-жених,
Я весь сон тебя видала.
(с. 96)
Снегич узывный, белый и длинный,
Где приютилася мать?
Снегич узывный, белый и длинный,
Где схоронилася мать?
(с. 111)
Благодаря повторяемости приёмов словотворчества мы можем построить типовую схему поэзии Хлебникова 1907–1910 годов, конкретизирующую данный период становления его поэтической техники. Этот тип, развитый и драматизированный в «Снежимочке», можно назвать мифопоэтическим: языковые процессы (неологизмы, деривации и т.д.) автономно порождают “фабулу стихотворения”, где лирические и эпические элементы тесно связаны, как в этой миниатюрной драме:
Студа бесстыдных нег
Убила неголя зари.
Угас невинный маловек,
А хоронили жарири.
(этот приём, доминирующий в рассматриваемый период, — константа хлебниковского искусства).
 95
95 Р. Якобсон (Poésie de la grammaire et grammaire de la poésie // Questions de poétique, op. cit., p. 219–233) отмечает по этому поводу, что новейшая мифология предопределена скрытыми возможностями языка, выявленными поэтом. Язык в этом случае “делится” своими тайными оборотами, которые обычная риторика называет тропами. Язык “по доброй воле” метафоризирует и мифологизирует, создавая миф (“персонификация”, “просопопея” и другие обороты этого типа, например, представляют в поэтическом дискурсе гиперболу функции (вымышленного!) агента в непроработанном, “бытовом” дискурсе).
В поэмах мифологического (т.е. отмеченного преобладанием этого приёма) периода тематическое язычество у Хлебникова уступает место язычеству эстетическому, язычеству чистой апперцепции языкотворчества; см.:
Ю. Тынянов. О Хлебникове // Архаисты и новаторы, соч. цит., с. 588:
Хлебников — не коллекционер тем, задаваемых ему извне. Вряд ли для него существует этот термин — заданная тема, задание. Метод художника, его лицо, его зрение сами вырастают в темы. Инфантилизм, языческое первобытное отношение к слову, незнание нового человека естественно ведёт к язычеству как теме. Сам Хлебников “предсказывает” свои темы.
Это прекрасное замечание подтверждается на примере «Снежимочки» и стихотворений мифологического периода: тема возникает, “программируется” отношением поэта к языку как “материи-форме”.
Тематизм слова, порождённый им самим (вернее сказать, отношением поэта к “материалу”), есть следствие будетлянского отношения к языку, общего и у Хлебникова, и у Каменского, и у Асеева (мифологический лиризм «Леторея», например, во многом обязан хлебниковской модели, см. Н. Асеев. Путь в поэзию // Стихотворения и поэмы. Л. 1967. С. 57). См. также: В. Каменский. Стихотворения и поэмы. М. 1966. С. 20:
‹...› Я беру слово ‘песня’ и нагибаю, и, отпуская его трепетать, я произвожу из него девушку, которую называю ‘песниянкой’. Далее я поступаю так: мне нужно вызвать образ Весны, и я пою:
Песниянка
Песниянная
Песниянных
Песниян.
 96 НП
96 НП: 64.
 97
97 Приём включения в сценическую систему драматургии лирических и эпических мифопоэм изобретением Хлебникова не является. Мы, например, находим его у Блока. Это доказывает, помимо “подражания” в разоблачённом выше расхожем смысле, глубокое структурное тождество лирики Блока и лирики Хлебникова. Подобно тому, как короткие лирические пьесы Блока 1902–1905 гг. богаты драматическими возможностями (реализованными в его театре), так и короткие хлебниковские мифопоэмы представляют собой фактически драматические или эпические “фабулы”. См.:
R. Jakobson. La génération qui a gaspillé ses poètes // Questions de poétique, op. cit., p. 74): „Велимир Хлебников дал нам новый эпос, первые подлинно эпические произведения после многих десятилетий безвременья. Даже его мелкие стихотворения производят впечатление осколков эпоса, и Хлебников без труда сшивал их в повествотельную поэму. Хлебников был эпичен вопреки нашему анти-эпическому времени, и в этом одна из разгадок его чуждости широкому потребителю”. Благодаря своей транзитивности (обусловленной многовалентной родовой потенциальности) эти небольшие пьесы мигрируют, как отмечает в цитированном отрывке Р. Якобсон, из эпического произведения в драму, из драмы в лирическую поэму и т.п.; так, короткие лирические отрывки из «Крымских стихов» (
СП II: 284–285) были преобразованы Хлебниковым в реплики двух (вымаранных при правке рукописи) персонажей:
Углублённый в себя и
Ребёнок с сумкой ученика.
 98 НП
98 НП: 64 — 1-е стихотворение;
НП: 67 — 2-е стихотворение;
НП: 70 — 3-е стихотворение. См. также
НП: 71–73.
 99
99 Аллегоризм — самая слабая сторона пьесы, именно та, благодаря которой она и выглядит „чистым эпигонством, последними всплесками символической школы” (Б. Лившиц). Эта “подделка”, достойная самого худшего “символистского” театра, использует возможности сцены реализовать самые банальные метафоры языка (в этом смысле Маяковский в своей трагедии гораздо оригинальнее). В данном случае речь идёт о такой довольно плоской метафоре, как „любовь убивает, заставляя сердце таять” (в опере Римского-Корсакова метафора выражена явным образом: „Люблю и таю / От сладких чувств любви”, — поёт Снегурочка, истаивая на самом деле). Хитроумие Хлебникова состоит во встраивании аллегории в “недра” поэтического языка и поэтической культуры.
 100
100 Именно это чудо („Чудо!” — кричит толпа) и создает “тайну” этого парасимволистского произведения: непреходящий миф языка, вечная фабула, оставаясь верными себе, тождественны в смене своих проявлений. То, что предчувствовали Вяч. Иванов и Блок, Хлебников реализует своей “лирической мифодрамой”, уже не поддающейся вообще никакой классификации. Радея
самовитости языка, Хлебников одновременно обретает и “тему”, и народность, и форму этой пьесы (которую мы называем лирической мифодрамой — но это первое, что приходит в голову, и далеко не исчерпывает богатство новоявленной формы); разумеется, о “вариациях на народную тему” здесь говорить не приходится. «Снежимочкой» Хлебников положил начало серии произведений “чистой поэзии”, основанных исключительно на внутреннем развитии языковых форм, — образцов
самовитой поэзии
будетлянского искусства.
 101 НП
101 НП: 74.
 102 А.Н. Островский
102 А.Н. Островский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. VI.
М. 1960. С. 439.
 103
103 Хлебников писал в «Свояси» (
СП II: 8):
Город задет в «Маркизе Дэзес» и «Чортике».
Но ещё глубже город
задет в «Снежимочке», благодаря самой структуре пьесы (шествие фабулы по городу).
 104 НП
104 НП: 75.
 105
105 Эстетическое неоязычество в России (как и в Западной Европе) начала ХХ века исповедывали в изобразительном искусстве: Васнецов, Рерих, Врубель, Конёнков; на музыкальном поприще: Скрябин, Прокофьев (сюита «Скифы»), Стравинский («Весна Священная»). Это признак изменения эстетики как миропонимания; “языческому примитивизму” присуще более острое ощущение “сопротивления материала”, обретшего автономию; неоязычество заново открыло достоинство примитивной эвритмии. Особенно это заметно в музыке И. Стравинский (см.:
Ю. Лощиц, В.Н. Турбин. Тема Востока в творчестве В. Хлебникова // Народы Азии и Африки, №4, 1966, с. 148).
 106
106 О театральной ксенофобии В. Хлебникова см.:
K. Dreier. Burliuk.
N.Y. 1944. Р. 66–67.
 107 НП
107 НП: 73–74.
 108
108 Эти категории чисто условны в искусстве, которое успешно игнорирует их на практике, но часто использует в полемике. То, что разыгрывается в искусстве, выходит за рамки дихотомии “реальное/фантастическое” или “истинное/ложное”. Искусство выявляет категорию “Мира” как совокупность отношений, построенных
αἴσθησις.
 109 НП
109 НП: 73.
 110
110 Гимн увертюры третьего действия — лирическая пьеса, вероятно, “вмонтированная” в драму (смешение жанров — правило в хлебниковской формуле, о чём достаточно уже сказано). В художественном тексте ничто не способствует выявлению авторского “Я” (существенное отличие художественного, литературного дискурса от бытовой речи). Когда “Я” лирического отрывка мы отождествляем с поэтом, то не выходим за пределы законности его поэтической системы, как если бы уподобляли это “Я” персонажу «Снежимочки» (что, впрочем, было бы столь же вероятно): “Я”, “Поэт”,
Снежимочка — поэтические создания, которые навязывают пьесе прочтение в своём ключе (эпическом, повествовательном, драматическом, лирическом и т.д.; в «Снежимочке» проблема усложняется вследствие наложения этих категорий на традиционный литературный дискурс). Сказанное относится и к “Я” в прологе трагедии «Владимир Маяковский», которая, напомним, должна была исполняться одновременно со «Снежимочкой» на сцене «Будетлянина»:
Вам ли понять,
Почему я,
Спокойный,
Насмешек грозою
Душу на блюде несу
К обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
Стекая ненужной слезою,
Я,
Быть может,
Последний поэт.
(
В. Маяковский. Полн. собр. соч. в 13-и томах, указ. соч., т. 1, 1955, с. 153) “Я” здесь соотносимо с Маяковским столь же мало, как “Я” гимна в «Снежимочке» с Хлебниковым. Это абстрактный знак выражаемой поэтической функции. Поэтому правомерно присвоение “безличного” местоимения “Я” надличному существу “Поэт”, который порой может скрываться, как в трагедии Маяковского, под обманчивой маской автора.
 111
111 Пьеса «Девий бог» (
СП IV: 164–194) опубликована в сборнике «Пощёчина общественному вкусу» (
М. 1912). Следовательно, написана, как и «Снежимочка», до возникновения
будетлянства, но немедленно была признана образчиком нового искусства, которое продвигала
будетлянская “школа”. Таким образом, ценность «Девьего бога» как программы более доказательна, чем в случае «Снежимочки».
 112 СП
112 СП II: 7–10.
 113 СП
113 СП II: 10.
 114
114 Свояси,
СП II: 9.
 115
115 В «Девьем боге» налицо пародия второго уровня: под сомнение ставится не только форма “символистской” мистерии, но и заимствование (предосудительное, по мнению Хлебникова) некоторых структурных схем классической традиции. Через «Девьего бога» и
нити, потянутые от Волги в Грецию (
СП II: 7), мы возвращаемся к вакханкам Еврипида, незримое присутствие которых руководит
безумной мыслью Хлебникова (о трагической интерпретации мифа и “кризисе” поэта см.:
R. Girard. Dionysos et la genèse violente du sacré // Poétique, n° 3, 1970, p. 266–281). Тот же миф о трансверсальности (в первом случае — фабулы, во втором — Бога-поэта) распространяется и на «Снежимочку», и на «Девьего бога». Это, несомненно, основной хлебниковский миф, с неодолимой силой проявляющийся, когда
разгорается быстрый пожар пластов молчания. См.
СП II: 10 и письмо Хлебникова В. Каменскому от 10 января 1909 (
НП: 354–355).
 116
116 Символистская “мистерия” — порождение теории, согласно которой воссоздание прошлого должно происходить в соответствии с приёмами, свойственными эстетике настоящего дня. “Тайна” в “символистской” мысли и в поэтической системе “символизма” играет роль культурного архетипа, характерного для “символистского” сознания. О попытках возрождения древней и средневековой мистерии в начале ХХ века в России см.:
V. Vassutinsky-Marcadé. La Littérature dramatique en Russie de 1900 а 1914 // L’Année 1913, les formes esthétiques de l’œuvre d’art а la veille de la Première Guerre mondiale.
Paris: Klincksieck. 1971.
 117
117 См., например, весьма показательный анализ:
Б.И. Арватов. Контр-революция формы (О Валерии Брюсове) // ЛЕФ, №1, март 1923, с. 215–230.
 118
118 Напечатана в №2 (февраль) журнала «Весы» за 1907 год. Сологуб также является автором античной драмы «Дар мудрых пчёл», сюжет которой тождественен сюжету “греческой трагедии” И. Анненского «Лаодамия».
 119 Ф. Сологуб
119 Ф. Сологуб. Литургия мне. Соч. цит., с. 9.
 120
120 Там же, с. 10–11, 14–15 и 17.
 121
121 Эти два лингвистических и стилистических регистра взаимозаменяемы, начиная с византийского периода, в форме научного театра (см.:
L. Bréhier. La Civilisation byzantine.
Paris: Albin Michel. 1970. Р. 347). Следует отметить на примере “
Χριστός πάσχων”, цитируемого Л. Брейером, знаменательную перестановку ролей Христа и Диониса в византийской драматургической системе.
 122
122 Драмы А. Ремизова «Русальные действа» представляют собой стилизацию научного театра XVII века.
 123
123 Этот вопрос о театральном “слове” ясно сформулировал Маяковский в статье 1913 года «Театр, кинематограф, футуризм» (Полное собрание соч., указ. соч., т. 1, с. 276–277):
‹...› Вторая половина театра — “Слово”. Но и здесь наступление эстетического момента обусловливается не внутренним развитием самого слова, а применением его как средства к выражению случайных для искусства моральных или политических идей.
И здесь современный театр выступает только поработителем слова и поэта. Значит, до нашего прихода театр как самостоятельное искусство не существовал.
«Девий бог» — продолжение “символистских” попыток “идеологически” примирить две культуры, языческую и православную. Оригинальность хлебниковского решения заключается в стремлении формально устранить вторую:
αἴσθησις определена отношением к слову, и это отношение предполагает игнорирование славяно-византийских наслоений в языке. «Девий бог», как иронично заметил автор статьи «Эго-футурист о футуристах» (Эго-футуристы.
СПб.: Всегдай. 1913), представляет собой славянскую крестьянскую драму, мало совместимую с городской идеологией
будетлян.
 124
124 Этого не происходит, конечно, без определённой абстрактной стилизации, поскольку персонажи «Девьего бога» говорят по-славянски, по-русски и знают полабское наречие! См. замечание Хлебникова в «Свояси» (
СП II: 7):
Пользовался славянскими полабскими словами (Леуна).
 125
125 Народные жанры (“фольклор”) и язычество тесно связаны с истоками русской культуры (
Д.С. Лихачёв. Развитие русской литературы. Указ. соч., с. 3–74). Книжный язык писарей и учителей служит разным целям и удовлетворяет далеко не одни и те же с просторечием “необразованных” классов духовные потребности; исторически именно “темы” управляют жанрами и языком, им свойственным. С этой точки зрения предприятие Хлебникова противоречиво. Народность, как мы уже отметили, не может быть целью.
 126
126 Даже в «Снежимочке» Хлебников отчасти остаётся пленником “символистских” прописей. Пьеса-аллегория — следствие подчинения жёсткому правилу образности произведения; эстетический эффект, производимый новым поэтическим языком, достигается посредством действующих лиц, тем самым обновляя “символизм” на уровне глубинных структур языка. Таков
Девий бог — бог девственного языка, свободного от наносной скверны. Отрицание исторической необходимости — итог нежелания признать свершившийся факт, метафизическое восстание против диктатуры времени. Хлебников делает вид, что не замечает простейшую данность: воссозданное писателем прошлое — умопостроение, лежащее вне плоскости правдоподобия. “Эллинизм” или “славянство” — художественные условности, ставшие возможными лишь благодаря высочайшему мастерству в искусстве внутреннего перевода греческой или русской “идеи”. О деликатной проблеме духа языка — чисто эстетической, формальной проблеме, основанной на рецепции поэтических воздействий, и в этом отношении аналогичной проблеме народности, — см.:
Н. Гумилёв. Статьи и заметки о русской поэзии, XXXI // Cобр. соч., цит, соч., т. IV, с. 330–331;
О. Мандельштам. О природе слова // Собр. соч. цит. соч., т. II, с. 294–296. См. также проницательное замечание Ю. Лотмана (О воскреснувшей эллинской речи // Вопросы литературы, 1977, №4, с. 215–217) по поводу статьи:
С. Аверинцев. Славянское слово и традиция эллинизма // Вопросы литературы, 1976, №11.
 127
127 Напомним в этой связи мысль Мандельштама о „речевой судьбе” Хлебникова (Собр. соч., указ. соч., т. II, с. 305):
‹...› Чтение же Хлебникова может сравниться с ещё более величественным и поучительным зрелищем, как мог бы и должен был бы развиваться язык праведник, необремененный и неосквернённый историческими невзгодами и насильями. Речь Хлебникова до того мирская, до того вульгатна, как если бы никогда не существовало ни монахов, ни Византии, ни интеллигентской письменности. Это абсолютно светская и мирская русская речь, впервые прозвучавшая за всё время существования русской книжной грамоты. Если принять такой взгляд, отпадает необходимость считать Хлебникова каким-то колдуном и шаманом. Он наметил пути развития языка, переходные, промежуточные, и этот исторически небывший путь российской речевой судьбы, осуществлённый только в Хлебникове, закрепился в его зауми, которая есть не что иное, как переходные формы, не успевшие затянуться смысловой корой правильно и праведно развивающегося языка.
Именно о такого рода нереализованности рассуждает С. Аверинцев в статье о двойственной природе “славянского слова”.
 128
128 Вспомним Аспаруха (
СП IV: 195–199), Управду (
НП : 303–304) и возможные темы славянского эпоса из статьи «О расширении пределов русской словесности» (
НП: 341–342).
 129
129 «Девий бог», как и «Снежимочка» (да и почти все произведения Хлебникова), вне классических жанров, это “трансродовые” произведения. На границе эпического повествования и драмы они предвосхищают такие великие произведения, как «Дети Выдры» и «Ка». В «Девьем боге» налицо трансверсальность воображаемого (
бог пересекает времена дискурса, подобно
Снежимочке, Детям Выдры, Ка, Зангези...).
 130 СП
130 СП II: 305, 385, 390.
 131 СП
131 СП IV: 164–166.
 132 СП
132 СП IV: 167 —
вече,
СП IV: 169 —
Перуново поле и
тысяцкий.
 134 СП
134 СП IV: 168.
 135
135 Как то следует из метаморфозы
Девьего бога в священном лесу богини Леуны (там же, с. 181–182):
3-я латница: Он проходит между деревьев, посвящённых Леуне.
2-ая латница: Идёмте же быстрее, так как его может ожидать опасность.
1-ая латница: Кто это между нами? Она появилась вдруг там, где она сейчас, ниоткуда не приходя. Смотрите, смотрите, я через неё прохожу, и она возникает тотчас за мной. В руке её копьё, а на стане лёгкий плащ.
2-ая латница: И я тоже. Я пересекла её копье, и оно тотчас же сомкнулось за мной.
3-я латница: Я свободно прохожу через неё, но смотрите, не держит ли она на привязи двух гончих, двух быстрых собак.
Все: Да, держит.
3-я латница: Но всмотритесь, не возникают ли на его голове рога, и не бежит ли он, преследуемый, бегом оленя.
Все: Да, он бежит как преследуемый, и над ним рога. Да, мы видим, он — гонимый олень.
 136
136 Именно это качество Блок отмечает в театре М. Кузмина и называет его иронией (О драме. Собр. соч., указ. соч., т. V, с. 184).
 137 СП
137 СП V: 179–180.
 138
138 Там же, с. 193.
 139
139 Весомое доказательство этого явления, хорошо изученного “формальной” критикой, даёт завершающая часть статьи Н. Гумилёва «Заветы символизма и акмеизма» (Аполлон, №1, 1913 г.), полагаемой одним из важнейших манифестов “акмеизма” (см.: Собр. соч., указ. соч., т. IV, с. 175–176):
Всякое направление испытывает влюблённость к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имён не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность; Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей всё, — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашёл в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собой людей, так смело назвавших себя акмеистами.
Мандельштам, в свою очередь, предметом „влюблённости” избрал “готическую” парадигму и художественный конструктивизм И.С. Баха... (см.: Утро акмеизма // Собр. соч., указ. соч., т. II, с. 366–367).
 140
140 Пьеса вошла в «Садок судей I» (
СПб. 1910); перепечатана в
НП по экземпляру сборника, исправленному Хлебниковым (
НП: 76–88).
 141
141 Предприятию, если можно так выразиться, Хлебникова весьма способствовала неоднозначность «Горя от ума», “классического” лишь по вкусовым предпочтениям конца XIX – начала XX века в России. Уникальность пьесы Грибоедова в том, что она способна порождать, имея потенциал одновременно и “классического”, и революционного свойства (в отличие от общепринятого комического жанра XIX века), драматические “изводы”, подобные «Маркизе Дезес», в которой прописями драматического искусства начала ХХ века и не пахнет. Особенность моделей заключается в том, что они могут создавать чрезвычайно разнообразные художественные эффекты (помимо разнообразия эффектов эстетических). Литературно-структурное исследование «Горя от ума» см.:
J. Bonamour. A.S. Griboedov et la vie littéraire de son temps.
Paris: PUF. 1965. Р. 223–307, 348–384.
 142
142 Свояси (
СП II: 8).
 143
143 Наветы, нарастая, охватывают несколько явлений III действия (с 14 по 16) и заканчиваются драматической кульминацией в явлении 22 (монолог Чацкого с его угрызениями совести и вынужденным раздвоением личности“, см.: . J. Bonamour, op. cit., p. 382).
 144
144 Многоголосие как поэтический приём в высшей степени развит Хлебниковым в период создания “советских стихов”. Затем к грибоедовской модели добавится полифоническая поэма Блока «Двенадцать».
 145 Ю. Тынянов
145 Ю. Тынянов. Иллюстрации // Архаисты и новаторы, op. цит., с. 504.
 146
146 Язык персонажей «Маркизы Дезес» оказывается их “внутренней маской”, “этической формой”. Хлебников едва не переходит грань, за которой этос, определяющий “личность” в классической драме, превращается в этос
самовитого слова; в этом случае драма (действие) упраздняется, и сценой овладевает дискурс, самовольно распадающийся на множество голосов и отголосков надличностного начала языка. Так, в 1910 году Хлебников одновременно с «Маркизой Дезес» набросал сценарий лиро-эпической (фактически многожанровой) монодрамы, добиваясь, надо полагать, “зангезийского” совершенства. Но (и в этом различие между «Маркизой Дезес» и «Зангези») в 1910 году Хлебников отчасти оставался пленником “символистской” темы маски, и его произведение, независимо от намерений автора, вызывает “ужас пустоты”, столь ценимый “символистами” (см.:
Вяч. Иванов Новые маски // По звёздам. Указ. соч., стр. 54–64;
А. Белый. Маска // Арабески. Указ. соч., стр. 130–137).
 147
147 Фабула «Маркизы Дезес» в первой части пьесы (до отъезда гостей,
НП: 84) невзыскательна: светская болтовня, беззлобная сатира на выставки, устраиваемые редакцией журнала «Аполлон». Гениальным ходом представляется смешение приёмов “живых картин” и бала-маскарада (
НП: 66–69), усиленное игрой смысловых рифм,
Он в белое во все одет, и лапоть с онучем
Соединён красивым лыком. Склонение местоимения “он” учим ‹...›
Упорный, своей смерти. ‹...›
Я слышу властный голос: „смерьте” ‹...›
что подготавливает крен второй части (
НП: 194 и далее) в сторону метафизической темы восстания “вещей” (
НП: 208–211).
 148
148 О технике стихосложения Грибоедова см.:
J. Bonamour. Оp. cit., p. 359–367:
Вольный ямб, который часто называют стихом «Горя от ума», был в ходу ещё до Грибоедова. Примером тому — некоторые элегии Пушкина и басни Крылова; но только в 1818 году пьеса Шаховского «Не любо — не слушай, а лгать не мешай» положила начало использованию его в комедии (в 1823 году Шаховской поставил вторую написанную свободным ямбическим стихом пьесу — «Урок женатым»). Это нововведение можно считать высшей точкой культивирования вольного ямба на протяжении XVIII века в опере и даже, с изрядной неряшливостью, в трагедии. Таким образом, в то время, когда им воспользовался Грибоедов, свободный ямбический стих не связывали с определённым жанром, а его использование не ограничивалось эмоциональным регистром. Стих элегии — отнюдь не стих басни; гибкость вольного ямба соответствует разнообразным требованиям диалога и повествования.
 149
149 Там же, с. 361: „Стих — это лишь усиление слова ради игры ритма и рифмы”.
 150
150 Наоборот, можно даже утверждать, что хлебниковский “перехлёст” обнажает у Грибоедова громадную роль рифмы, “оттираемой” фабулой. См.: см.:
J. Bonamour. Оp. cit., p. 362–369:
Рифма играет существенную роль в стихе «Горя от ума», находясь в центре художественных задач, поставленных перед собой Грибоедовым. Вольный ямб по определению не имеет постоянного числа стоп, только рифма маркирует его окончание, тем самым показывая само наличие стиха; это единственный надёжный ориентир для слушателя: рифма богата, а зарифмованное слово имеет исключительную стилистическую ценность. С другой стороны, рифма служит связующим звеном между стихом и его непосредственными соседями. Фиксируя длину стиха, она объединяет его в строфу, где он обретает своё выразительное значение. ‹...›
Судя по письму к Бегичеву от июня 1824 года, Грибоедов придавал громадное значение богатству и точности рифмы: „Представь себе, я переделал более восьмидесяти стихов, или, вернее, рифм, теперь они отполированы, как стекло”. ‹...›
Смешением с другими драматическими и стилистическими эффектами рифма способствует прихотливости дискурса и позволяет играть метрами, что придаёт стиху «Горя от ума» чрезвычайное своеобразие ‹...› как правило, рифма — движущая сила мысли через “строфы”, одну из особенностей «Горя от ума» ‹...› Таким образом, рифма расставляет речевые акценты. Именно она придаёт монологам упорядоченность, именно она в своих наиболее искусных проявлениях позволяет выразить ту или иную сторону характера действующего лица или события. В то время как александрийский стих своей размеренностью придаёт тексту более логическую структуру и более риторический тон, вольный ямб позволяет бесконечно варьировать ритм и, следовательно, более точно воспроизводить живой разговор. Отождествление с прозой вольному ямбу не грозит: если он и приближается к ней, то благодаря гораздо большей, нежели в александрийском стихе, выразительной силе. Рифма, обозначающая конец стиха, играет в нём важную роль, не только не умаляя его достоинств, но всемерно подчёркивая таковые: именно так она становится ключом, “отпирающим” музыку стиха и диалога. Анжамбеманы становятся более выразительными, ритм — более разнообразным. Грибоедов раскрепостил стих, сочетая совершенную гибкость и высочайшую строгость.
Если “футуризм” есть обнажение приёма (см.:
М. Левидов. О футуризме необходимая статья // ЛЕФ, №2, апрель-май.
М. 1923. С. 131–132) Хлебников предстаёт в «Маркизе Дэзес» “футуристом” до “футуризма”.
 151 НП
151 НП: 77–80, 83–84, 86.
 152
152 “Распредмечивание” — операция, посредством которой изделия рук человеческих превращаются в живых существ. Эта “тема” — общее достояние фантастической литературы и многих поэтических произведений начала века, см. наброски В. Брюсова «Восстание машин» и «Мятеж машин» (Литературное наследство, т. 85, М., 1976, с. 95–103), трагедию «Владимир Маяковский», первое название которой знаменательно — «Восстание вещей» (Полн. собр. соч., указ. соч., с. 439), и поэму Хлебникова «Журавль» (
СП I: 76–82). О значении этой темы см.:
В. Шкловский. О Маяковском // Собр. соч., указ. соч., т. III, с. 21:
Хлебников ощущал будущее. Он писал о будущей войне и будущем разрушении государства, определяя срок этого крушения годом 1917 («Учитель и ученик»). Он говорил о восстании вещей, о том, что трубы вместе с годами, на них написанными, и вместе с дымом над ними двинутся на город, что Тучков мост отпадёт от берега, что железные пути сорвутся с дороги, что в нашей жизни, как в мякоти, созрели иные семена. Начинается новое восстание, новый разлив, и на нём поплывет, прижимая к груди подушку, обезумевшее дитя.
Так поплывет, как плыл потом белым медведем на льдине, гребя лапой, через десятилетия Маяковский в поэме «Про это».
То, о чём столь красочно выразился Шкловский, — распад форм в начале XX века, признак пересоздания эстетики. Такого рода “мета-ритм” или трансфлюанс эстетических форм воспринимался как „шум времени” (О. Мандельштам) или „музыка революции” (А. Блок) и был отличительной чертой эпохи 1890–1914 гг. Н. Асеев в поэме «Маяковский начинается» о нагнетании такого рода страстей пишет:
— „Да,
миром владеет
бездушный Кащей...
Давайте устроим
восстанье вещей!
Ведь: слово ‘весть’
и слово ‘вещь’
близки и родственны корнями, —
они одни — в веках —
и есть
людского племени
орнамент!
Смотрите же,
не забудьте обещанья:
отныне —
об одних больших вещах
вещанье”.
(Н. Асеев. Стихотворения и поэмы. Указ. соч., с. 595; первое предложение — переработка строк «Журавля» (СП I: 78):
Злей не был и Кощей
Чем будет, может быть, восстание вещей.
Зачем же вещи мы балуем?
Эту “заединщину” Брюсов объясняет остротой проблем, поставленных неуклонным и стремительным прогрессом науки и техники в конце XIX – начале XX века (Литературное наследство, т. 85, указ. соч., с. 96–98). Но суждения Шкловского и Асеева позволяют предположить, что эта “тема” раскрывает гораздо более глубокое духовное явление, чем это может показаться на первый взгляд. Для семиотики культуры восстание вещей — симптом кризиса ценностей в русской культуре, вернее, кризиса статуса знаков, то есть семиотических систем, неотъемлемой частью которых является искусство. Метаморфизм в искусстве (этот “погром” форм, засвидетельствованный Шкловским в цитируемой работе) вращается вокруг внутреннего бунта искусства против “типов” господствующей школы. Таким образом, “бунт предметов” участвует (на глубинном уровне смысла) во всеобщем восстании знаков против фиксации, навязываемой “символистской” риторикой. “Вещь” и “слово” хотят снова стать сами собой; эта надоба предполагает расширение прав и возможностей обоих в отношении того, что порабощает их раз и навсегда установленной роли: быть чьей-то собственностью. Именно этот подспудный бунт знаков и вещей против неправомерного их присвоения с замечательной образностью показан Мандельштамом в статье «О природе слова» (Собр. соч., указ. соч., т. II, с. 297):
Они (символисты) запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значит такое, что сам потом не рад будешь.
Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в Церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное значение). Хозяина выгнали из дому, и он больше не смеет в него войти. Как же быть с прикреплением слова к его значению: неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не вещь.
У Мандельштама „утварь” — иносказание символа, знака функционирования внутреннего эллинизма русского языка и русской поэзии (у Анненского, например. — Там же, с. 295–296); таким образом, бунт утвари есть отказ имён и вещей от приручения; отсюда становится понятным, почему “футуристское” иконоборчество было направлено как на “символизм”, так и на классическое наследие: это внутренняя форма русской культуры (понимаемой в самом широком смысле этого слова). Р.В. Иванов-Разумник показал, что главным преткновением “футуризма” был конфликт человека и “вещи”, и что ставкой в этой борьбе оказалась духовная свобода человека (Р.В. Иванов-Разумник. Маяковский — «Мистерия» или «Буфф»? Берлин: Скифы. 1922. С. 18):
Надо было, наконец, победить в футуризме внешнее, победить Вещь, тирана старчески-футуристических душ.
В этом поединке, полагал Иванов-Разумник, “футуризм”, бессильный победить
Вещь изнутри, терпит поражение. Автор трагедии «Владимир Маяковский» и «13-й апостол» оказывается Хомой Брутом XX века, „осёдланным”, словно гоголевский бурсак, „ведьмой Панночкой” (там же, стр. 22 и далее). Материалистический “футуризм” унижен
Вещью, которую он задумал схватить, прочувствовать и присвоить; “символизм” же, глядя сквозь
Вещь, пал жертвой её призрака, будучи „осёдлан” „не вещью”. Иначе говоря, “мелким бесом” “футуризма” оказалась
Вещь (Иванов-Разумник в своём задорном наскоке на “футуристов” не удосужился определить употребляемые им термины:
Вещь у него то материальный “предмет”, то понятие, то уточнение типа „вещизм словаря, рифм”). К сожалению, критику не удалось дознаться глубинного смысла борьбы “футуризма” за восстановление достоинства поэтического знака. Мандельштам с его интуицией поэта-акмеиста (следовательно, “вещиста”) значительно лучше оценил и выразил суть семиологического восстания нового искусства (“футуризма” и “акмеизма”) против “символистской” поэтической системы.
 153
153 Инсценировка этой основной “темы” показывает её “формальность” (тема — часть формы); метафизический кризис знака порождает мифологию, которая наиболее приличествует сцене в форме драмы, “реализующей” имманентную драму языка: восстание знака против объекта-концепции вне знака. С этим восстанием знака рушится целый пласт античной риторики — теория „эпонимии” (Аристотеля – Платона), и вместе с ней сама возможность метафоры. Обретя свою сущность, поэтическая речь отныне может быть только “прямой”. “Футуристское” великое смещение (сдвиг) — это смещение смещения (т.е. метафоры). Понятие метафоры теряет свою актуальность, поэтический дискурс оказывается „реальностью, данною нам в ощущениях”, поскольку он же и создаёт её. Искомое примирение слова и вещи как “принадлежности” поэтического дискурса подчёркнуто Ю. Тыняновым (Промежуток // Архаисты и новаторы. С. 562–563); однако, по его мнению, в поэзии Пастернака происходит разбалансировка соотношения “слово/вещь”, которое было “плавающими” у таких великих потрясателей основ, как Маяковский и Хлебников). Самым удивительным в спорах о диалектике слова/вещи является молчаливое согласие критиков с использованием таких неопределённых терминов, как “слово” и “вещь” (псевдопонятий, если они когда-либо вообще были!). Вся работа “футуристов” заключалась в том, чтобы показать посредством своей поэтической практики несущественность “слова” и “вещи” в создании формы, где они выступают лишь как узлы отношений.
 154
154 Налицо удвоение диалектики жизнь/смерть, составляющее фабулу «Маркизы Дезес» (строки 222–240–248–270 и далее), и тонкая этимологическая игра слов живопись/живой, подчёркнутая рифмами строк 225–226 и 234–236:
козочки ступают осторожно по полу,
Глазом блестя, оставив живопись.
И взгляд стыдливо просветлён,
Той, которая, внизу камень, взором жива.
От каждой шеи, от каждой выи
Вспорхнули тени. Зачем живые?
Живопись, понимаемая русскими как “живая картина” (по греческому образцу ζωγρᾱφία, ζωγράφος, ‘зография’, калькой которого является русский термин; см.: И.И. Срезневский. Материалы... СПб. 1893. Т.1. С. 866, словарная статья «Живопись»), непреодолимо противопоставлена в пьесе Хлебникова жизни (το ζώον, живое): искусство есть преступление, а вивисекция “живописует”. Противоположное преступление (см. ст. 222)
И всё перешло какую-то таинственную черту,
метаморфоза в обратном направлении, которую
разыгрывает пьеса, раскрывает убийственную суть искусства. Вся античная диалектика философии искусства (противопоставление “жизни, действительности, бытия” фиксированному искусством “предмету”, “зографеме”, стихотворению, “двойнику” бытия и жизни (
φύσις/μίμησις ) воспроизводится в трагическом режиме диалектической оппозиции жизнь/смерть (
смерьте/
смерти). См.:
J. Derrida. La double séance // La Dissémination.
Paris: Seuil. 1972. Р. 199–317, особенно p. 211–213, n. 8 et p. 214–220.
 155
155 В этом смысле “Маркиза Дезес” бесконечна далека от шутливой сатиры. Это философская драма, в которой Хлебников ставит вопросы, которые не перестанут волновать его всю оставшуюся жизнь: что “производит” искусство (особенно поэтическое искусство)? Каковы отношения между искусством и “жизнью” (приравниваемой к “бытию”)? Способно ли искусство “экстемпорализировать” форму, то есть созидать смысл, который придаст “вещам” надлежащую форму? (см.:
Aristote. Poétique, 1454b 10). Эти предельные вопросы поэт ставит в один ряд, заставляя соседствовать — но не более того, ибо форма художественного изложения исключает веру в пустоту, как заметил А. Белый (Маска // Арабески. Цит. соч., с. 133), представление же о nihil или “инобытии” в искусстве не имеет смысла: бездна, небытие, смерть по самой неадекватности этих формулировок несовместимы с “понятием” вещи, субъекта, объекта и т.д. Страх перед “футуризмом” есть страх пустоты.
 156
156 Об особенностях современной рифмы, разработанной “футуристами”, см:
В. Брюсов. О рифме // Собр. соч., цит. соч, с. 544–556, особенно с. 549;
R. Jakobson. Post-scriptum // Questions de poétique, op. cit., p. 497–498.
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 183–208; 343–381.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию.
Выборочный перевод иноземных заимствований
на руссейший, по Н.И. Харджиеву, язык:
скандальный → бешено-сладкий
иллюзия → блазýнья | маннь
теорема → бугóиск
традиция → бывáва
ординарность → бытáва
поэтическая система → ведáва
константа → векыня
торговая марка, брэнд → величава
информация → верéль
термин → вéрень
термины → вéрязь
реальность → вéроста
константа → вéроста
доминирующая литературная школа → верхáрня
практика → вещедéя
конструкция → видожизнь
трансцендентность → внéродь
психосоматика → волебрó
ὄντα → воявль
хронономия → временель
традиция → всегдава
универсальность → вселеннáва
мировая гармония → вселеннель
композиция → всутствие
оппортунист → вчерáхарь
анализ → выиск
процесс → вылязень
дискурс → вымолвь
жанр → выпыт
категория → дейёл
радикал | экстремист → дерзáвец
стиль → деюга
синтез → дóлево
геометрия → доломерие
эпоха → дóльза
архаика → древлезём
ансамбль → единéбен
символ → зáзовь
фонема → звучея
форма → зовéль
архитектоника → зодчбá
конфигурация → зриязь
аспект → зрыня
базовая теория → камнепрáвда
абстрактная фигура речи → колослóва
концепция → лýчшадь
культура → людоятие
эксперимент → мнóвие
гармония → многозвугодье
вариация → множáва
материя → можáва
теория-предположение могвá
метод → можбá
статус → можéль
метафора, метафоричность, метафоризация → морóль
антиномия → незь
нейтральность → ничтвá
абстракция → ничтимéя
классификация → нынёж
проекция → озерцáя
поэзия → певáва
модальность → перекóн
литература → письмёж
парадигма → прáвязь
консерватор → прошлéц
проект → продýма
модель → разумнядь
риторика → речёжь
формула → роковыня
автономия → самовизнá
композиционный центр → сердь
структура → слáда
неология → словéль
модуляция → струинá
ситуация → сущёл
типографская продукция → тисьмó
имманентность → тутóба
норматив, стандарт → улоýм
интеллигенция → умнечество
литературная школа → учáрня
иллюзии → хотежи
элемент → частерик
авторитет → чтязь
идея → этотá
был бы невозможен без справочного пособия
В.П. Григорьев. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта.
М.: Наука. 1986 г. С. 124–164. здесь
Продолжение 




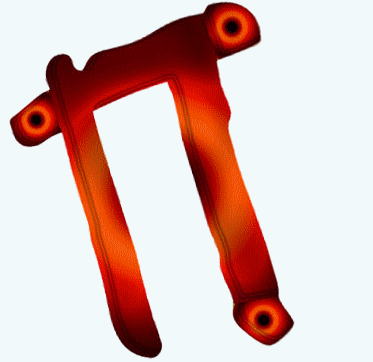 оэтическая биография грешит произволом её составителя; вероятно, поэтому не особенно и нужна.1
оэтическая биография грешит произволом её составителя; вероятно, поэтому не особенно и нужна.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()