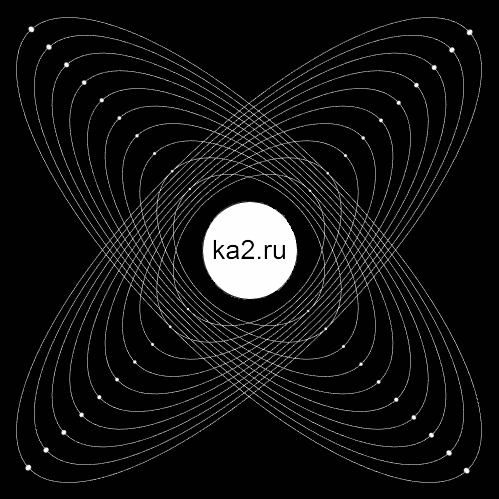Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Продолжение. Предыдущая глава: 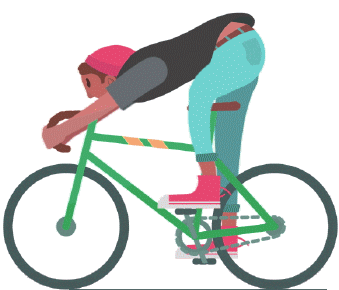
Футуризм и “футуризм”
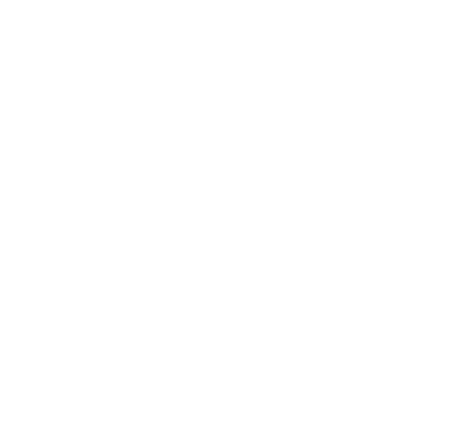
аким образом, уже приблизительно к 1910 году Хлебников противопоставил “символистским” прописям и наставлениям собственное представление о поэтическом искусстве, сделав упор на одной из самых трудных его сторон —
зовéли.
* «Снежимочка», «Девий Бог» и «Маркиза Дезес» — наиболее значительные достижения на пути, который привёл Хлебникова к овладению невостребованными возможностями “подручного сырья” — русского языка.
Ведава Хлебникова мало-помалу вырастала из этой
всегдавы, чтобы стать поэзией русской “грамматики” в двух её измерениях: диахроннном и синхроннном. Хлебников работал над языком как преемником и продолжателем, т.е. с оглядкой на историческое время; это была поэзия взращивания
слова-льна с прицелом на
слово-пяльцы и
слово-ткань. Выбыв из “символистской”
учарни, молодой поэт неминуемо должен был пересечься с подобными ему
мятежатами от “символизма” и классицизма, искателями новых путей в искусстве. Объединения новаторов то и дело заявляли о себе в обеих столицах; одному из таких
воявлей предстояло содействовать известности
1
Хлебникова, объявив его произведения образцовыми для “новой поэзии”. Однако более или менее добровольное вступление Хлебникова в ряды русского “футуризма” (гилейского извода) имело — и имеет до сих пор — следствием навязывание Хлебникову чуждого ему литературного ярлыка. Страсть упорядочивать всё и вся привела, с одной стороны, к ошибочному мнению о русском “футуризме” как движении, вполне соответствующему своему названию, с другой — к огульной “футуризации” творческого наследия
предтечи этой своеобразной
учарни.
2
Хотя в 1909–1910 гг. Хлебникова печатали в «Студии импрессионистов» и «Садке судей I», а в последующие годы он принимал участие в составлении манифестов и давал стихи в будетлянские сборники, он не отторг себя от “символизма”, “войдя” в якобы сложившееся движение соперников ветшающей
верхарни, но в этом полугробу продолжал “гнуть свою линию”, которая ещё только грозила разрывом — в поэтической практике гораздо менее решительным, кстати говоря, чем следовало ему быть по тону “футуристских” воззваний. Поприще3 Хлебникова в годы его становления — торжестварня Вяч. Иванова, М. Кузмина, А. Блока, В. Брюсова, А. Ремизова, Ф. Сологуба, С. Городецкого и А.Н. Толстого.4
Хлебникова в годы его становления — торжестварня Вяч. Иванова, М. Кузмина, А. Блока, В. Брюсова, А. Ремизова, Ф. Сологуба, С. Городецкого и А.Н. Толстого.4 Важно понять, почему в 1910–1912 гг. окружающая среда вдруг поменялась, почему имя Хлебникова отныне связывают с именами Кручёных, Каменского, В. Маяковского, Д. и Н. Бурлюков, Б. Лившица... Предстоит выяснить, действительно ли — и в какой степени — примыкание Хлебникова к не блиставшему нововведениями в поэтической технике гилейскому “футуризму” (Хлебниковым же, подчёркнем ещё раз, и предугаданному произведениями 1908–1910 гг.) вызвало творческий подъём и приснопамятные духодраки гилейцев; необходимо также дознаться, каким образом тутчина Хлебникова способствовала возникновению учарни, соответствие названия которой её внутренней сути — большой вопрос.
Важно понять, почему в 1910–1912 гг. окружающая среда вдруг поменялась, почему имя Хлебникова отныне связывают с именами Кручёных, Каменского, В. Маяковского, Д. и Н. Бурлюков, Б. Лившица... Предстоит выяснить, действительно ли — и в какой степени — примыкание Хлебникова к не блиставшему нововведениями в поэтической технике гилейскому “футуризму” (Хлебниковым же, подчёркнем ещё раз, и предугаданному произведениями 1908–1910 гг.) вызвало творческий подъём и приснопамятные духодраки гилейцев; необходимо также дознаться, каким образом тутчина Хлебникова способствовала возникновению учарни, соответствие названия которой её внутренней сути — большой вопрос.
Слова не склонны к “вмешательству во внутренние дела” только на поверхностный взгляд, даже если их смысл кажется предельно ясным. Классицизм, романтизм, символизм, реализм, футуризм, акмеизм — все эти упорядочивающие ярлыки удобны при условии, что они обеспечивают наилучшее представление о том или ином литературном явлении, а это предполагает их точное определение или “врождённую” внятность. Однако это не так, особенно в отношении футуризма. Подобно едва ли не всей вéрязи, принятой на Западе для наиболее чёткого обозначения явлений западной же культуры, заёмный вéрень “футуризм” не работает в самобытной русской двигаве. Логический ход, распространяющий вполне оправданные применительно к некой области культуры5 обозначения на первопроталины вне таковой, немало способствовал заблуждению Запада (и России) относительно явлений русской действительности. Применяя к ним свои улоýмы, Запад — ради удобства — всегда вестернизировал проявления жизни русского духа, достойные иного подхода, иных истолкований, иного поименования. Вследствие подобного рода практики познание русской культуры извне стало невозможным. Русская критика несёт свою долю ответственности за столь печальный итог, ибо в целом приняла навязанные правила игры, не предвидя пагубных последствий соглашательства. Так было уже в случае “символизма”, который охватывал ряд разнородных явлений, объясняемых культурным прошлым страны и отечественной летописью второй половины XIX века в области искусства. Как мы видели, русские “символисты” скептически отнеслись к достижениям европейских изумеев, самостоятельно выстроили мировоззрение и, пересмотрев достижения своих предшественников непосредственно в России, разработали теоретические основы собственной ведавы. Хотя в этом смысле были предприняты некоторые усилия, поименование осталось прежним.6
обозначения на первопроталины вне таковой, немало способствовал заблуждению Запада (и России) относительно явлений русской действительности. Применяя к ним свои улоýмы, Запад — ради удобства — всегда вестернизировал проявления жизни русского духа, достойные иного подхода, иных истолкований, иного поименования. Вследствие подобного рода практики познание русской культуры извне стало невозможным. Русская критика несёт свою долю ответственности за столь печальный итог, ибо в целом приняла навязанные правила игры, не предвидя пагубных последствий соглашательства. Так было уже в случае “символизма”, который охватывал ряд разнородных явлений, объясняемых культурным прошлым страны и отечественной летописью второй половины XIX века в области искусства. Как мы видели, русские “символисты” скептически отнеслись к достижениям европейских изумеев, самостоятельно выстроили мировоззрение и, пересмотрев достижения своих предшественников непосредственно в России, разработали теоретические основы собственной ведавы. Хотя в этом смысле были предприняты некоторые усилия, поименование осталось прежним.6 Да и какое оно имело значение? “Символисты” едва ли не единодушно наделили вéрень “символизм” смысловым содержанием, отличным от принятого на Западе, и довольствовались тем, что отграничили новодел от его французского и немецкого тёзок эпитетом “русский”.7
Да и какое оно имело значение? “Символисты” едва ли не единодушно наделили вéрень “символизм” смысловым содержанием, отличным от принятого на Западе, и довольствовались тем, что отграничили новодел от его французского и немецкого тёзок эпитетом “русский”.7 Для них русский “символизм” был домашним делом.8
Для них русский “символизм” был домашним делом.8 Однако неужели “русификация” настолько изменила первоначальное движение, что, кроме названия, таковое уже не имело ничего общего с европейским символизмом? Или сопричастники естественного развития русской культурной и духовной жизни в поисках имени, которое позволило бы им самоопределиться, банальным заимствованием разоблачили себя и, тем самым, достойны обвинения в переимчивости? Выбор между этими двумя предположениями весьма щекотлив для временнóго отрезка, когда Россия оказалась гораздо более прозападной8
Однако неужели “русификация” настолько изменила первоначальное движение, что, кроме названия, таковое уже не имело ничего общего с европейским символизмом? Или сопричастники естественного развития русской культурной и духовной жизни в поисках имени, которое позволило бы им самоопределиться, банальным заимствованием разоблачили себя и, тем самым, достойны обвинения в переимчивости? Выбор между этими двумя предположениями весьма щекотлив для временнóго отрезка, когда Россия оказалась гораздо более прозападной8 в своей культуре и художественных предпочтениях, нежели в политических институтах. На переломе XIX – XX вв. страна как никогда была покорна зовелям европейской культуры; под таковыми следует понимать то, что укореняется наиболее глубоко: приёмы художественного творчества, соответствующие эстетике как системе миропонимания.9
в своей культуре и художественных предпочтениях, нежели в политических институтах. На переломе XIX – XX вв. страна как никогда была покорна зовелям европейской культуры; под таковыми следует понимать то, что укореняется наиболее глубоко: приёмы художественного творчества, соответствующие эстетике как системе миропонимания.9 Война и её последствия благие российские и европейские порывы обнулили. Тем не менее, культурная восприимчивость России 1890–1914 гг. в высшей степени способствовала дóлеву10
Война и её последствия благие российские и европейские порывы обнулили. Тем не менее, культурная восприимчивость России 1890–1914 гг. в высшей степени способствовала дóлеву10 ряда идежéй отечественной былеописи (христианство и язычество, Восток и Запад). Благодаря усвоению европейских новшеств и стремлению к общемировым ценностям, Россия смогла осознать свою самобытность и размер вклада россиян в копилку вселеннавы. Случай “футуризма” — наглядный пример “переваривания” Россией чужеземного низлома и переосмысления своей собственной культуры как отличной от западной.
ряда идежéй отечественной былеописи (христианство и язычество, Восток и Запад). Благодаря усвоению европейских новшеств и стремлению к общемировым ценностям, Россия смогла осознать свою самобытность и размер вклада россиян в копилку вселеннавы. Случай “футуризма” — наглядный пример “переваривания” Россией чужеземного низлома и переосмысления своей собственной культуры как отличной от западной.
Футуризм безотносительно оценочных суждений — свежая струя в итальянском искусстве начала ХХ века. Это сугубо местное (с лёгкой руки Ф.Т. Маринетти11 ) культурное явление обладает всеми признаками художественной партии: уставом, программой, манифестами, декларациями, камнеправдой; многочисленные произведения итальянских футуристов12
) культурное явление обладает всеми признаками художественной партии: уставом, программой, манифестами, декларациями, камнеправдой; многочисленные произведения итальянских футуристов12 раскрывают новые установки и приёмы более убедительно, нежели заявления о намерениях. “Официальное” свидетельство о рождении — «Манифест футуризма», опубликованный в газете «Фигаро» от 20 февраля 1909 года, — разумеется, не следует путать с первопричинами двигавы,13
раскрывают новые установки и приёмы более убедительно, нежели заявления о намерениях. “Официальное” свидетельство о рождении — «Манифест футуризма», опубликованный в газете «Фигаро» от 20 февраля 1909 года, — разумеется, не следует путать с первопричинами двигавы,13 однако именно это воззвание послужило толчком к распространению футуризма в Европе. Благодаря прессе, новинка стала известна и русскому умнечеству,14
однако именно это воззвание послужило толчком к распространению футуризма в Европе. Благодаря прессе, новинка стала известна и русскому умнечеству,14 однако потребовалось два года, чтобы заморский вéрень вошёл в местный литературный обиход15
однако потребовалось два года, чтобы заморский вéрень вошёл в местный литературный обиход15 как величава поэтов круга Игоря Северянина16
как величава поэтов круга Игоря Северянина16 и, посредством приставки эго-, закрепился в сознании публики как младший брат (один из самых известных в мире, по мнению Игоря Северянина)17
и, посредством приставки эго-, закрепился в сознании публики как младший брат (один из самых известных в мире, по мнению Игоря Северянина)17 итальянского футуризма. О достоинствах и недостатках “якающего” футуризма можно судить по камнеправде, вторящей мнимо-глубокомысленному тону манифестов Маринетти, и произведениям участников движения.18
итальянского футуризма. О достоинствах и недостатках “якающего” футуризма можно судить по камнеправде, вторящей мнимо-глубокомысленному тону манифестов Маринетти, и произведениям участников движения.18 При анализе русского “футуризма” не следует забывать, что пионером и эталоном в ряду последующих “футурят” — как правило, соперников эго-футуризма — в России не год и не два считалось именно детище Игоря Северянина.
При анализе русского “футуризма” не следует забывать, что пионером и эталоном в ряду последующих “футурят” — как правило, соперников эго-футуризма — в России не год и не два считалось именно детище Игоря Северянина.
Эго-футуризм провозгласил себя наследником всех учарен и художественных направлений, путеводителем по мировому искусству и философии. При этом нимало не отрицалась и связь с символизмом, заявленной задачей которого было, напомним, искоренение реализма, романтизма, классицизма и натурализма.19 Упор на субъективность и признание главенства интуиции20
Упор на субъективность и признание главенства интуиции20 — главная особенность мировоззрения, подбиравшего себе иконостас в музее мировой философии. Поэтическая практика эго-футуризма оказалась гораздо менее последовательной, чем ей надлежало быть, следуя букве самодельного улоýма. Внутренний раскол движения произошёл, когда Игорь Северянин порвал с основанной им группой. По своим литературным пристрастиям лидер эго-футуристов был закоренелым прошлецом и вчерахарем: он продолжил “декадентскую” субсимволистскую линию Фофанова и Лохвицкой,21
— главная особенность мировоззрения, подбиравшего себе иконостас в музее мировой философии. Поэтическая практика эго-футуризма оказалась гораздо менее последовательной, чем ей надлежало быть, следуя букве самодельного улоýма. Внутренний раскол движения произошёл, когда Игорь Северянин порвал с основанной им группой. По своим литературным пристрастиям лидер эго-футуристов был закоренелым прошлецом и вчерахарем: он продолжил “декадентскую” субсимволистскую линию Фофанова и Лохвицкой,21 привнеся в неё цветастую лексику, соответствующую, по его мнению, стилю “эго”. Вот взятые наугад названия стихотворений из его самого знаменитого сборника «Громокипящий кубок»: «В берёзовом коттэдже», «Berceuse осенний», «Примитивный романс», «Лесофея», «Рондели», «Nocturne», «Эскиз вечерний», «Chanson Russe», «Чёткая поэза», «Фиолетовый. транс», «Качалка грезэрки», «Боа из кризантэм», «Шампанский полонез», «Диссона», «Эпиталама», «В шалэ берёзовом». Эго-футуризм он оставил, чтобы воспеть деревенский „примитив”.22
привнеся в неё цветастую лексику, соответствующую, по его мнению, стилю “эго”. Вот взятые наугад названия стихотворений из его самого знаменитого сборника «Громокипящий кубок»: «В берёзовом коттэдже», «Berceuse осенний», «Примитивный романс», «Лесофея», «Рондели», «Nocturne», «Эскиз вечерний», «Chanson Russe», «Чёткая поэза», «Фиолетовый. транс», «Качалка грезэрки», «Боа из кризантэм», «Шампанский полонез», «Диссона», «Эпиталама», «В шалэ берёзовом». Эго-футуризм он оставил, чтобы воспеть деревенский „примитив”.22 Сподвижники отца-основателя Г. Иванов и Грааль-Арельский вскоре перешли в противоборствующий лагерь «Цеха поэтов», alma mater акмеизма. Внутренние расколы и “предательства”23
Сподвижники отца-основателя Г. Иванов и Грааль-Арельский вскоре перешли в противоборствующий лагерь «Цеха поэтов», alma mater акмеизма. Внутренние расколы и “предательства”23 красноречиво говорят о прозрачности границ между соперничающими группировками и доказывают неопределённость пристрастий литературных “кланов”, которые все как один признавали символизм первопредком,24
красноречиво говорят о прозрачности границ между соперничающими группировками и доказывают неопределённость пристрастий литературных “кланов”, которые все как один признавали символизм первопредком,24 но пытались его превзойти, непременно заявляя об истинной современности своего, и только своего, поэтического искусства — без долгих слов о смысле этой самой современности. И.В. Игнатьев, единственный, кто удосужился снабдить эго-футуристскую учарню последовательной доктриной, в этом отношении весьма напоминает Б. Лившица, поэта-теоретика группы гилейцев. Игнатьев, заступивший место лидера после самоустранения Игоря Северянина, считал наиболее важным для понимания сути возглавляемого им движения следующее: футуризм (т.е. эго-футуризм, или, как автор предпочитает его называть, „вселенство”25
но пытались его превзойти, непременно заявляя об истинной современности своего, и только своего, поэтического искусства — без долгих слов о смысле этой самой современности. И.В. Игнатьев, единственный, кто удосужился снабдить эго-футуристскую учарню последовательной доктриной, в этом отношении весьма напоминает Б. Лившица, поэта-теоретика группы гилейцев. Игнатьев, заступивший место лидера после самоустранения Игоря Северянина, считал наиболее важным для понимания сути возглавляемого им движения следующее: футуризм (т.е. эго-футуризм, или, как автор предпочитает его называть, „вселенство”25 ) — не литературное явление, но культурная революция, вызванная восстанием личности („духовного атома”), отчуждённой в современном обществе и городе (этим обнаруживается двусмысленность футуристского “урбанизма”), — революции, которая в силу своей всемирности безусловно предполагает преобразования в искусстве:26
) — не литературное явление, но культурная революция, вызванная восстанием личности („духовного атома”), отчуждённой в современном обществе и городе (этим обнаруживается двусмысленность футуристского “урбанизма”), — революции, которая в силу своей всемирности безусловно предполагает преобразования в искусстве:26
Христианство — религия рабов, протест против римской цивилизации. Идеи пролетариата — религия Труда и Капитала.
Эгоизм же — религия рабов духовного крепостничества, Культуры, Города (т.е. общежития).
Далее, проповедуя безоговорочную оправданность футуризма как эстетическую
зовéль этого индивидуалистического бунта, он отмечает важнейшие для искусства последствия вторжения будущего как эстетической категории настоящего:
27
‹...› За Ассоциацией мы можем указать заслуги:
а. Движение и игнорирование темы в прозе.
б. Обновление и игнорирование метра стиха.
в. Сдвиг в области рифмы.
г. Эго-призму.
д. Современность и
е. Механичность.
‹...› Движение в прозе мы можем проследить в opus’e И.В. Игнатьева «Следом за...» (Бей, но выслушай. П: Глашатай. 1913. Цена 50 к.).
Игнорирование темы иллюстрируется Василиском Гнедовым, большим мастером в области эго-футуристической прозы.
Заявленным способам поэтического самовыражения отчасти соответствует “стенография”
28
литературного дискурса:
29
Одними из эго-футуристов делаются попытки к “объединичению Дроби”, другими наша речь т.с. “стенографируется”.
Синкопирование слов, телескопирование значений, выработка новых смыслов созданием небывалых словосочетаний, восстановление забытых значений посредством
ἔτυμα — всё это должно было способствовать выявлению достоинств поэтики эго-футуризма. Увы, Игнатьев не успел свести воедино свои теоретические построения и доказать их справедливость на деле (т.е. не заменил искусство как таковое предваряющим всё и вся знанием без единого слова):
30
‹...› Будущий, нескорый путь литературы — безмолвие, где слово заменится книгою откровений — Великой Интуицией.
Уход Игнатьева из жизни стал последним звонком в эго-футуристской
учарне, но педагогические приёмы “завуча” нашли подражателей. Так, через год после премьеры русского эго-футуризма в поле зрения московской публики попала брошюра с задорным названием «Пощёчина общественному вкусу».
31
Открывалась она одноименным манифестом за подписями Д. Бурлюка, А. Кручёных, В. Маяковского и В. Хлебникова. В этом воззвании, украшающем ныне все без исключения антологии “футуристской” литературы, содержался — пока без пояснений —
вéрень, которому суждено было стать знаком радикально нового искусства “футуристов”-гилейцев:
самовитое слово:
32
Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только
мы — лицо нашего Времени. Рог Времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей
первой любви, не узнает последней. ‹...›
Мы
приказываем чтить
права поэтов:
1) На увеличение словаря в
его объёме произвольными и производными словами (Слово–новшество),
2) На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку,
3) С ужасом отстранять от гордого чела своего, из банных веников сделанный Вами Венок грошовой славы.
4) Стоять на глыбе слова “мы” среди моря свиста и негодования.
И если пока ещё и в наших строках остались грязные клейма Ваших “Здравого смысла” и “хорошего вкуса”, то всё же на них уже трепещут
впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (
самовитого) Слова.
Д. Бурлюк,
Александр Кручёных,
В. Маяковский,
Виктор Хлебников.33
За исключением этого воззвания, ничто в сборнике не позволяло считать его участников футуристами. Тем не менее, осенью 1913 года, с выходом в свет сборника «Дохлая луна»,
34
они решили объявить себя таковыми, и сделали это довольно-таки заносчиво:
Сборникъ
единственныхъ футуристовъ мiра!!
поэтов «Гилея» Некоторые из гилейцев, ныне “футуристов”, уже привлекли внимание публики участием в «Садке судей»
35
(1910), который считается первым из многочисленных изданий группы (помимо этого сборника, известна «Студия импрессионистов»
36
Н. Кульбина). Вглядываясь в предысторию гилейского “футуризма”, обнаруживаем кое-кого вне обоймы подписантов «Пощёчины»: Н. Бурлюка, Б. Лившица, Е. Гуро, В. Каменского... Если заняться археологией группы, столь важной в истории литературы благодаря поэтическому гению Хлебникова и Маяковского, можно прийти к выводу, что первоначальное поименование
37
ни о чём не говорит, но именно в силу непредвзятости и смысловой неопределённости вполне соответствует боевому настрою молодых новаторов, сплочённых непримиримой враждой к заклятому врагу — насквозь прозападному, по их мнению, русскому “символизму”.
38
В. Шкловский, по своему обыкновению сдержанно и немногословно, сообщает “родословную” группы:
39
‹...› С низовьев Днепра приехали Бурлюки, издав маленький квадратный сборник на обратной стороне обоев; он назывался «Садок судей».
В нём напечатались Бурлюки, Василий Каменский, Велимир Хлебников, Гуро.
Кружок получил имя древней греческой колонии на Днепре — «Гилея». Она давно исчезла, но Бурлюки оказались хорошими соседями: они сохранили имя Гилеи.
Сама группа ещё только образовывалась. Потом она приняла имя будетлян (от слова ‘буду’), издав книжку «Пощёчина общественному вкусу».
В этом свидетельстве обращают на себя внимание две подробности: с одной стороны, “перевооружение” группы одновременно со сменой “вывески”; с другой — эти два факта для Шкловского взаимозависимы — появление слова
будетляне. «Садок судей» своих участников ни к чему не обязывал: идеологическая платформа заявлена не была, объединение под одной обложкой целостным проектом и не пахло. «Пощёчина...» же размахом своих притязаний в полной мере соответствовала убеждённости
будетлян в независимости поэтического слова и его самоценности.
40
Уже одно это, даже при отсутствии каких-либо признаков литературного “уклона”, доказывает новаторский дух «Пощёчины....». Налицо типично хлебниковский подход, подкреплённый словоновшеством
будетляне как знаком избранничества: славянизация иностранного заимствования без обиняков заявляет „особенную стать” вчерашних гилейцев. Применительно к России приходится заключать слово футуризм в кавычки, дабы подчеркнуть разительное отличие первоначально вкладываемого в него смысла от постигаемого далеко не сразу
будетлянства.
41
Своеобразие движения состояло ещё и в том, что
будетляне с порога заявили себя противниками не только итальянского футуризма, но и (в гораздо большей степени
42
) северянинского новодела; нетерпимость лишь нарастала в последующих манифестах и сборниках,
43
главным образом, радикального крыла, представленного Кручёных и Хлебниковым.
44
Развёрнутое определение этого своеобразия находим в статье Б. Лившица «Освобождение слова».
45
Лившиц
46
взял на себя труд озвучить вывод, который
сам напрашивается из лозунга о неподвластности поэтической речи внешним
улоýмам, а именно классическому понятию темы и устоявшемуся в изящной словесности разделению на
выпыты:
Но если разуметь под творчеством свободным —
полагающее критерий своей ценности не в плоскости взаимоотношений бытия и сознания, а в области автономного слова, — наша поэзия, конечно, свободна единственно, и впервые для нас безразлично, реалистична ли, натуралистична или фантастична наша поэзия:
за исключением своей отправной точки она не поставляет себя ни в какие отношения к миру, не координируется с ним, и все остальные точки её возможного с ним пересечения заранее должны быть призваны незакономерными. ‹...›
Отрицая всякую координацию нашей поэзии с миром, мы не боимся идти в своих выводах до конца, и говорим: она неделима. В ней нет места ни лирике, ни эпосу, ни драме. Оставляя до времени в неприкосновенности определения этих традиционных категорий, спросим: может ли поэт, безразличный, как таковой, ко всему, кроме творимого слова, быть лириком? Допустимо ли превращение эпической кинетики в эпическую статику, иными словами, возможно ли, коренным образом не извращая понятия эпоса, представить себе эпический замысел расчлененным искусственно — не в соответствении с внутреннею необходимостью последовательно развивающейся смены явлений, а сообразно с требованиями автономного слова? Может ли драматическое действие, развёртывающееся по своим исключительным законам, подчиняться индукционному влиянию слова, или хотя бы только согласовываться с ним? Не является ли отрицанием самого понятия драмы — разрешение коллизии психических сил, составляющей основу последней, не по законам психической жизни, а иным? На все эти вопросы есть только один ответ: конечно, отрицательный.
47
Почему же тогда
будетляне переназвались не просто футуристами, а единственными в мире? Причина этого вне литературы. В России футуризм был жупелом,
48
однозначным свидетельством неблагонадёжности. Бульварная критика, едва ли не поголовно враждебная новому искусству,
49
навязывала — как повод позубоскалить — эту
величаву всему скандальному (благодаря выступлениям Игоря Северянина); гилейцы же переименовались в футуристов или не подозревая об этой опасности, или не придав ей значения, или (почему бы нет) из соображения „чем хуже — тем лучше”. Приезд Маринетти,
50
положил конец затянувшемуся недоразумению, со всей определённостью показав несовместимость итальянского футуризма и
будетлянства. Тогда же — за этим, собственно, и приезжал Маринетти — был поставлен и вопрос о возможности транзита в Россию “правильного” футуризма.
51
Хлебников и будетлянство
Итак, между 1910 и 1914 гг.
будетлянство мужало и самоопределялось. А как насчёт отношения к этой
двигаве её — по мнению ряда исследователей
52
— предводителя? Вопрос не из простых, ибо речь не о сопрягаемых отдельностях (Хлебников → ←
будетлянство), а о диалектическом их единстве: поэт В. Хлебников окончательно и бесповоротно становится
будетлянином, причём не только во взаимодействии, но и в противостоянии соратникам (В. Маяковскому, Д. Бурлюку, А. Кручёных), которые, в свою очередь, придерживаются совместной линии поведения преимущественно из тактических соображений. Проблема осложняется тем, что
будязь 1910–1914 гг. — детище не кабинетных учёных, а поэтов, умевших совмещать служение новому искусству с разработкой понятийного аппарата, способного противостоять впечатляющим наработкам “символистской”
ведавы. Хлебников чётко обозначил свою позицию:
53
‹...› Я боюсь бесплодных отвлеченных прений о искусстве. Лучше было бы, чтобы вещи (дееса) художника утверждали то или это, а не он.
Именно
дееса Хлебникова, обнародованные между 1910 и 1914 гг. (с учётом уже отмеченного временнóго разрыва между рукописью и печатным станком), позволяют сопоставить его творчество с достижениями соратников. Тогда-то и можно будет оценить степень
внутреннего разномыслия
54
“футуризма” и подтвердить (или опровергнуть) уже заявленную нами несводимость
вымолви Хлебникова к сторонней
разумняди. Попутно выяснится эвристическая справедливость (или несостоятельность)
будетлянства и надуманность (или правомерность) вызываемых им литературных споров, как то: действительно ли Хлебников | Кручёных | Маяковский | Бурлюк оказался на поверку единственным последовательным футуристом? Кто из них сохранил верность
55
футуристскому идеалу 1910 года?
Однако пора дать будетлянству если не предельно чёткое, то наиболее развёрнутое определение.
Тисьмо отлежавшихся к 1910–1912 гг. произведений Хлебникова уже даёт представление о нарастающем расхождении с мэтрами “символизма” в оценке языка применительно к поэзии; хлебниковская ведава, того и гляди, освободится от темы как таковой.56 Тема формализуется:57
Тема формализуется:57 это язык в ходе его самосоздания. Предпочтение, оказываемое поэтом тому, что ранее считалось подспорьем изображения или выражения, выбивало его из колеи “символизма”58
это язык в ходе его самосоздания. Предпочтение, оказываемое поэтом тому, что ранее считалось подспорьем изображения или выражения, выбивало его из колеи “символизма”58 и могло, казалось, привести к сближению с эго-футуристами или акмеистами (последние искали внутреннего обновления поэзии в отказе от символистской метафизики59
и могло, казалось, привести к сближению с эго-футуристами или акмеистами (последние искали внутреннего обновления поэзии в отказе от символистской метафизики59 ). О ту пору Городецкий, Гумилёв, Гнедов, Игнатьев были озабочены тем же, что и Хлебников.60
). О ту пору Городецкий, Гумилёв, Гнедов, Игнатьев были озабочены тем же, что и Хлебников.60 Но мы уже знаем, что именно препятствовало смычке Хлебникова с акмеистами или эго-футуристами: решительное предпочтение им славянства.61
Но мы уже знаем, что именно препятствовало смычке Хлебникова с акмеистами или эго-футуристами: решительное предпочтение им славянства.61 Ни те, ни другие не отказались от наработок западных поэтических учарен. Напротив, свои усилия по обновлению “символистского” поэтического искусства они сосредоточили на образцах “возрождения”, которого добивались в русской поэзии: одним светом в окошке казался У. Уитмен,62
Ни те, ни другие не отказались от наработок западных поэтических учарен. Напротив, свои усилия по обновлению “символистского” поэтического искусства они сосредоточили на образцах “возрождения”, которого добивались в русской поэзии: одним светом в окошке казался У. Уитмен,62 другим — Готье | Вийон | Рабле.63
другим — Готье | Вийон | Рабле.63 Наконец, ни одна группа новаторов не порадела самовитому слову больше «Гилеи». Верховенство слова над смыслом (или темой, понимаемой классически, как содержание произведения) привело гилейцев к “метапоэзии”, отвергаемой акмеистами с порога и чуждой, судя по всему, эго-футуристам. Два будетлянина, Кручёных и Хлебников, с удивительной последовательностью прилагали к искусству слова приёмы “поэтического кубизма”:64
Наконец, ни одна группа новаторов не порадела самовитому слову больше «Гилеи». Верховенство слова над смыслом (или темой, понимаемой классически, как содержание произведения) привело гилейцев к “метапоэзии”, отвергаемой акмеистами с порога и чуждой, судя по всему, эго-футуристам. Два будетлянина, Кручёных и Хлебников, с удивительной последовательностью прилагали к искусству слова приёмы “поэтического кубизма”:64 Именно они остались верны заявленному в «Пощёчине...» идеалу, но согласованной их летуру не назовёшь. Даже на этом, весьма далёким от обобщения примере, видно, как непросто судить о будетлянстве, понимаемом каждым из “футуристов” в меру своей доныньщины. Кручёных вознамерился распространить власть слова за пределы языка (эмоции, интуиция, „переживания” как невербальный опыт) и через искажение его на “кубистский” лад заставить читателя испытать эмоциональный подъём: на языке, разъятом и пересобранном на новый лад, “говорить” следовало исключительно лирически.65
Именно они остались верны заявленному в «Пощёчине...» идеалу, но согласованной их летуру не назовёшь. Даже на этом, весьма далёким от обобщения примере, видно, как непросто судить о будетлянстве, понимаемом каждым из “футуристов” в меру своей доныньщины. Кручёных вознамерился распространить власть слова за пределы языка (эмоции, интуиция, „переживания” как невербальный опыт) и через искажение его на “кубистский” лад заставить читателя испытать эмоциональный подъём: на языке, разъятом и пересобранном на новый лад, “говорить” следовало исключительно лирически.65 Столь неочевидным переводом звука в движение души поэт предполагал увеличить образную ценность исходного материала; при этом, как было заявлено, смысловое наполнение этого же “сырья” исключалось. Новая будетлянская восприимчивость, по мнению Кручёных, предопределяла новое строение языка. Правила разработанной им эстетики распространялись на ответственный за создание нового “чувствилища” вербальный материал путём разрушения старого языка, а затем его пересоздания таким образом, чтобы всемогущество субъективности как творческого начала переоценке не подлежало. Для молодого футуристского вина старые бурдюки не годились, их заменили новыми; в итоге освящённое веками единство contenant/contenu не только сохранилось в неприкосновенности, но и, как ни странно, в ходе будетлянского погрома даже упрочилось. Требование Кручёных полного соответствия зовéли “содержанию” возвращало право голоса, наряду с дихотомией в её прежнем понимании, образной сути языка. В инóбыти своей логики (язык и есть собственный “объект”) Кручёных по недоразумению восстанавливал тему произведения в её исконном смысле res de qua agitur; восприимчивость современника, рассматриваемая “футуристом” как новая реальность, со всей очевидностью становилась предметом целеполагания поэта:66
Столь неочевидным переводом звука в движение души поэт предполагал увеличить образную ценность исходного материала; при этом, как было заявлено, смысловое наполнение этого же “сырья” исключалось. Новая будетлянская восприимчивость, по мнению Кручёных, предопределяла новое строение языка. Правила разработанной им эстетики распространялись на ответственный за создание нового “чувствилища” вербальный материал путём разрушения старого языка, а затем его пересоздания таким образом, чтобы всемогущество субъективности как творческого начала переоценке не подлежало. Для молодого футуристского вина старые бурдюки не годились, их заменили новыми; в итоге освящённое веками единство contenant/contenu не только сохранилось в неприкосновенности, но и, как ни странно, в ходе будетлянского погрома даже упрочилось. Требование Кручёных полного соответствия зовéли “содержанию” возвращало право голоса, наряду с дихотомией в её прежнем понимании, образной сути языка. В инóбыти своей логики (язык и есть собственный “объект”) Кручёных по недоразумению восстанавливал тему произведения в её исконном смысле res de qua agitur; восприимчивость современника, рассматриваемая “футуристом” как новая реальность, со всей очевидностью становилась предметом целеполагания поэта:66
‹...› Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности — воспеты нами.
Хотежи Кручёных свидетельствуют о нарастании внутренних противоречий
будетлянства, не в последнюю очередь благодаря замечательной настойчивости поэта на пути, исходной точкой которого было
самовитое слово: художественное произведение понималось как победоносное орудие борьбы с бессмысленностью при одновременном отрицании какого-либо его смысла.
67
Кручёных, отшельник искусства, пробирался наугад к пределу возможностей художественной
виданы, за которым, в случае действительного упразднения смысла, стояло безмолвие или сама смерть (в пределе — самоубийство автора). Пафос
68
этой непреклонной
мýчери состоял в культе “вещи-знака”, что с большой деликатностью отмечено Пастернаком в его статье, где похвала столь же двусмысленна, как и сама
кричака Кручёных:
69
Чем зудесник отличается от кудесника? Тем же, чем физиология сказки от сказки.
Там, где иной просто назовёт лягушку, Кручёных, навсегда ошеломлённый пошатыванием и вздрагиванием сырой природы, пустится гальванизировать существительное, пока не добьётся иллюзии, что у слова отрастают лапы.
Если искусство при самом своём рождении получило из логики единицу, то именно за это движение, выдающее его с головой.
“Зуд” будетлянского мага (зудесник ← кудесник) означает нетерпение увидеть слова превращёнными в вещи и досаду на непреодолимый разрыв между означающим и означаемым; „зудесник” — это поэт, раздосадованный тем, что у него отняли божественную силу создавать вещи одним лишь их поименованием. Поэтическое искусство Кручёных, задуманное и развитое исключительно как речязь самосозерцания, фатально предопределила его печальный конец.
Для Хлебникова путешествие сквозь будетлянство знаменует поэтическое мужание двоякого рода. Подписанные им манифесты и программы70 составлены совместно, личный его вклад известен с чужих слов (Кручёных), да и то не всегда. В любом случае, воззвания, предварявшие будетлянские сборники, негласно связывали авторов круговой порукой. Одновременно с такого рода заединщиной Хлебников продолжал свои поэтические изыскания, отнюдь не предполагающие общего с кем бы то ни было знаменателя. Хлебниковское понимание будетлянства чувствуется в непреклонном отказе от суматохи прений, вредящих деесам.71
составлены совместно, личный его вклад известен с чужих слов (Кручёных), да и то не всегда. В любом случае, воззвания, предварявшие будетлянские сборники, негласно связывали авторов круговой порукой. Одновременно с такого рода заединщиной Хлебников продолжал свои поэтические изыскания, отнюдь не предполагающие общего с кем бы то ни было знаменателя. Хлебниковское понимание будетлянства чувствуется в непреклонном отказе от суматохи прений, вредящих деесам.71 Именно деловой подход Хлебникова к разрабатываемому им языку (заумь72
Именно деловой подход Хлебникова к разрабатываемому им языку (заумь72 ) и пополнение общемировой обоймы выпытов (сверхповесть) видятся наиболее смелыми шагами на пути к исполнению великого будетлянского предначертания: самовитого слова. Глубоко продуманный “фонетизм” Хлебникова своим материалистическим монизмом, приравнивающим означающее к означаемому (фонема, наделенная универсальным, “объективным” значением, есть звуковая и означающая частица материи, своего рода “фонон” в атомистическом учении Хлебникова) оказывается самобытной попыткой преодоления двойственности знака и понятия: значение становится соразмерным “звуковому сырью”.73
) и пополнение общемировой обоймы выпытов (сверхповесть) видятся наиболее смелыми шагами на пути к исполнению великого будетлянского предначертания: самовитого слова. Глубоко продуманный “фонетизм” Хлебникова своим материалистическим монизмом, приравнивающим означающее к означаемому (фонема, наделенная универсальным, “объективным” значением, есть звуковая и означающая частица материи, своего рода “фонон” в атомистическом учении Хлебникова) оказывается самобытной попыткой преодоления двойственности знака и понятия: значение становится соразмерным “звуковому сырью”.73 Вследствие этого аутосемия поэтической речи не приводит к “глоссолалическому” разрушению языка, поскольку тот “изобилует смыслом” от первой до последней буквы. Будетлянство как институт74
Вследствие этого аутосемия поэтической речи не приводит к “глоссолалическому” разрушению языка, поскольку тот “изобилует смыслом” от первой до последней буквы. Будетлянство как институт74 — если таковым полагать отсутствие каких-либо поэтических правил и камнеправды (за исключением блестящих статей Б. Лившица) — в силу обстоятельств довольствовалось общими заявлениями. Таковые крайне мало влияли на поэтическую технику всех без исключения “футуристов”, и препятствием на пути Хлебникова к иной зовéли языка и новым приёмам поэтического выражения быть не могли. Главенствующее направление поисков Хлебникова, краеугольный камень его ведавы — устранение сущностного противоречия между поэзией и временем. Ставя художественное творчество под знамя будущего, Хлебников, надо полагать, вполне осознавал трагизм будетлянства: завтрашний день, став настоящим, вменяет в ничто произведения, имеющие право на внимание читателя только в качестве попытки предвидения. Путевые заметки “езды в незнаемое” пополняют мусорную корзину времени в неизмеримо бóльших количествах и быстрее, нежели “отсталые” в этом смысле произведения,75
— если таковым полагать отсутствие каких-либо поэтических правил и камнеправды (за исключением блестящих статей Б. Лившица) — в силу обстоятельств довольствовалось общими заявлениями. Таковые крайне мало влияли на поэтическую технику всех без исключения “футуристов”, и препятствием на пути Хлебникова к иной зовéли языка и новым приёмам поэтического выражения быть не могли. Главенствующее направление поисков Хлебникова, краеугольный камень его ведавы — устранение сущностного противоречия между поэзией и временем. Ставя художественное творчество под знамя будущего, Хлебников, надо полагать, вполне осознавал трагизм будетлянства: завтрашний день, став настоящим, вменяет в ничто произведения, имеющие право на внимание читателя только в качестве попытки предвидения. Путевые заметки “езды в незнаемое” пополняют мусорную корзину времени в неизмеримо бóльших количествах и быстрее, нежели “отсталые” в этом смысле произведения,75 способные бесконечно порождать новые смыслы благодаря усовершенствованию исполнения. Иными словами, выбор невелик: либо сомнительных эстетических достоинств заумное письмо, обречённое на век мотылька, либо устоявшиеся приёмы поэтического самовыражения;76
способные бесконечно порождать новые смыслы благодаря усовершенствованию исполнения. Иными словами, выбор невелик: либо сомнительных эстетических достоинств заумное письмо, обречённое на век мотылька, либо устоявшиеся приёмы поэтического самовыражения;76 либо абракадабра Кручёных и И. Зданевича,77
либо абракадабра Кручёных и И. Зданевича,77 либо акмеистская благопристойность.78
либо акмеистская благопристойность.78 Заумному языку, понимаемому Хлебниковым как “революционный” опыт, следовало бы угомониться на скамейке запасных игроков, а не судействовать на поле, пресекая любую попытку нарушить им же установленные правила.79
Заумному языку, понимаемому Хлебниковым как “революционный” опыт, следовало бы угомониться на скамейке запасных игроков, а не судействовать на поле, пресекая любую попытку нарушить им же установленные правила.79 При таком раскладе “промежуточному” поэтическому письму, обречённому неопределённый срок ждать своего упразднения заумным империализмом, не оставалось ничего другого, как искать себя в зазоре между твердокаменным перфекционизмом акмеизма и “футуристской” “стенографией”. Поскольку Хлебников не смешивал поэтическое будетлянство с ломкой естественного ритма языка, а, наоборот, отвечал в области устроения речи на вызовы времени (поступь истории), для поэтического письма (понимаемого как совокупность правил
всутствия, превращающих обычную речь в монументально вневременнýю) он должен был изобрести зовéль,80
При таком раскладе “промежуточному” поэтическому письму, обречённому неопределённый срок ждать своего упразднения заумным империализмом, не оставалось ничего другого, как искать себя в зазоре между твердокаменным перфекционизмом акмеизма и “футуристской” “стенографией”. Поскольку Хлебников не смешивал поэтическое будетлянство с ломкой естественного ритма языка, а, наоборот, отвечал в области устроения речи на вызовы времени (поступь истории), для поэтического письма (понимаемого как совокупность правил
всутствия, превращающих обычную речь в монументально вневременнýю) он должен был изобрести зовéль,80 способную преодолеть отчуждающее, разрушительное действие времени. Исследование такой зовéли заставляет коснуться (не более того) проблемы футуристской тахографии.81
способную преодолеть отчуждающее, разрушительное действие времени. Исследование такой зовéли заставляет коснуться (не более того) проблемы футуристской тахографии.81
Распространено мнение о футуризме как динамичным искусстве, в наибольшей степени соответствующем изменчивости городской среды вследствие бурного развития промышленного производства. Футуризм есть искусство скорости — главная заповедь Маринетти. Примкнувшие к нему смутуны поддержали этот посыл как наилучшим образом отвечающий их устремлениям в искусстве.82 Зыбкую, трудно постигаемую категорию будущего83
Зыбкую, трудно постигаемую категорию будущего83 они подменили нехитрым подражательством: рубленая, ударная, преувеличивающая, укороченная (апокопы слов и т.д.), увещевательная, повелительная речь должна была передать стремительный, сбивчивый, лихорадочный темп современности. Футуризм, это порождение национализма, путая ускорение жизни со стенографией, всячески урезал и уплотнял речь. Критика, настроенная к новому искусству враждебно (мы убедились в этом на примере зауми), сделала вывод, что футуристская скоропись — не более чем разновидность извращённой символистской метафизики, и была совершенно права. Элементарный звуковой миметизм покушался на скорость, современность и всё с ними связанное как темы, имея следствием подрыв той самой автономии поэтической речи (parole in liberta), на которую футуристы возлагали все свои надежды. Таким образом, футуризм можно назвать легкомысленной брахилогией: темп речи взвинчивается, не затрагивая сути сообщения. Мандельштам безжалостно разоблачил недоразумение, вызванное отождествлением футуризма со скоростью, этой пренебрежительно малой подробностью поэтического искусства:84
они подменили нехитрым подражательством: рубленая, ударная, преувеличивающая, укороченная (апокопы слов и т.д.), увещевательная, повелительная речь должна была передать стремительный, сбивчивый, лихорадочный темп современности. Футуризм, это порождение национализма, путая ускорение жизни со стенографией, всячески урезал и уплотнял речь. Критика, настроенная к новому искусству враждебно (мы убедились в этом на примере зауми), сделала вывод, что футуристская скоропись — не более чем разновидность извращённой символистской метафизики, и была совершенно права. Элементарный звуковой миметизм покушался на скорость, современность и всё с ними связанное как темы, имея следствием подрыв той самой автономии поэтической речи (parole in liberta), на которую футуристы возлагали все свои надежды. Таким образом, футуризм можно назвать легкомысленной брахилогией: темп речи взвинчивается, не затрагивая сути сообщения. Мандельштам безжалостно разоблачил недоразумение, вызванное отождествлением футуризма со скоростью, этой пренебрежительно малой подробностью поэтического искусства:84
Всякая попытка механически приспособить язык к потребностям жизни заранее обречена на неудачу. Так называемый футуризм, понятие, созданное безграмотными критиками и лишённое всякого содержания и объёма, не только курьёз обывательской литературной психологии. Он получает точный смысл, если разуметь под ним именно это насильственное, механическое приспособление, недоверие к языку, который одновременно и скороход, и черепаха.
Фактически такой подход означал уравнивание ритма языка с ритмом жизни, но сохранял в неприкосновенности дихотомию жизнь/язык в попытке заставить последний “подражать” стремительному темпу современности.
85
Однако автономная поэтическая речь предполагает автономный же ритм. Индивидуальность речи навязывает последней “авторитмию”. Но что такое ритм поэтической речи?
Таковых два, в зависимости от того, рассматривать звуковую ткань или внутреннюю зовéль. Ритм первого рода есть это упорядоченная во времени последовательность длительности звуков, составляющих “звуковой материал” в одних системах, или интервалов, разделяющих ударения, в других. Этот музыкальный, по сути, ритм является предметом ритмики и метрики, которые составляют фундамент всех работ по искусствоведению или поэтических трактатов:86
‹...› Ритмичность стиха — цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях с тем, чтобы приравнять неравное и раскрыть сходство в различном, или повторение одинакового с тем, чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить отличие в сходном.
Ритм в стихе является смыслоразличающим элементом, причём, входящий в ритмическую структуру, смыслоразличительный характер приобретают и те языковые элементы, которые в обычном употреблении его не имеют. Важно и другое: стиховая структура выявляет не просто новые оттенки значений слов, она вскрывает диалектику понятий, ту внутреннюю противоречивость явлений жизни и языка, для обозначений которых обычный язык не имеет специальных средств.
За темпом произносимой речи
скрыт глубинный ритм внутренней
зовéли — смысла. Но соответствует ли заданному темпу этот смысл, является ли он
ῥυθμιξόμενον ?
87
Да, если рассматривать изменчивость целеполагания одного и того же смысла во времени, которую мы назовём в данном конкретном случае темой произведения. Последовательность разнообразных подач одной и той же темы и образует тот особый семантический ритм (периодизацию смысла путём возвращения к одной и той же
слáде в различных её проявлениях), о котором П. Валери говорил, что это самое трудное, с чем он сталкивается как исследователь.
88
Тот внутренний ритм проявления смысла, который Хлебников пытался уловить в исторических событиях, “окормляющих” окружающую действительность, он пытался воспроизвести особым строем речи, “высвечивающим” одну и ту же тему под разными углами. Знаменитая табличная
слáда (
Парус в «Детях Выдры»,
Плоскость в «Зангези») есть развёрнутая подача одного и того же смысла, меняющаяся в зависимости от природы речевого пространства: речь оказывается проекцией себя на себя же, но видоизменённую. Сочетание стилей и переплетение разнообразных метров — как отмечает Ю. Тынянов в «Промежутке»
89
— и приводит к самобытному, ни на что другое не похожему построению некоторых прозаических произведений Хлебникова.
90
От футуризма к ритмике
Поиск неподвластного застою
всутствия увенчался обретением новой
зовéли; посредством таковой временнáя автономия поэтической речи действительно стала возможной. Налицо апогей хлебниковского
будетлянства: чаемое гилейцами
самовитое слово постигнуто в достаточной полноте и вполне соответствует внутренним побуждениям языка. Подобрать название столь неочевидной
соугóде91
затруднительно; постараемся показать её на примере.
В пространной поэме «Поэт» выпыт упразднён в пользу ритмики, создаваемой словами или стихами, которые своей повторяемостью служат связующими звеньями в общей зриязи смысла, весьма неочевидной.92 Сомнения Хлебникова относительно названия — «Поэт» | «Весенние святки» | «Русалка и поэт» — наглядно показывают неясность ведущей темы; четыреста пятьдесят восемь строк поэмы есть величественный поток, где на своего рода перекатах — ключевых словах призрак | Дева | вода | певец — сплетаются струи повествовательных линий Поэта, Русалки и святочного шествия. Каждая из них прирастает сопоставлениями, где слова в неожиданных сочетаниях приобретают новое значение, сохраняя при этом ощутимое смысловое единство, придающее поэме целостность, хотя в речевом плане налицо смесь эпоса, диалогов, ораторских приёмов, медитативного монолога и лирических излияний.
Сомнения Хлебникова относительно названия — «Поэт» | «Весенние святки» | «Русалка и поэт» — наглядно показывают неясность ведущей темы; четыреста пятьдесят восемь строк поэмы есть величественный поток, где на своего рода перекатах — ключевых словах призрак | Дева | вода | певец — сплетаются струи повествовательных линий Поэта, Русалки и святочного шествия. Каждая из них прирастает сопоставлениями, где слова в неожиданных сочетаниях приобретают новое значение, сохраняя при этом ощутимое смысловое единство, придающее поэме целостность, хотя в речевом плане налицо смесь эпоса, диалогов, ораторских приёмов, медитативного монолога и лирических излияний.
Поэма начинается введением из четырнадцати строк, предназначенным не столько для сопоставления двух разнородных явлений (смена времен года и связанный с этим праздник), сколько для создания абстрактного декора,93 призванного задать тон дальнейшему повествованию:94
призванного задать тон дальнейшему повествованию:94
Как осень изменяет сад,
Даёт багрец, цвет синей меди,
И самоцветный водопад
Снегов предшествует победе,
И жаром самой яркой грёзы
Стволы украшены берёзы,
И с летней зеленью проститься
Летит зимы глашатай — птица;
Где тонкой шалью золотой
Одет откос холмов крутой,
И только призрачны и наги
Равнины белые овраги,
Да голубая тишина
Просила слова вещуна, —
Так праздник масленицы вечный,
Души отрадою беспечной
Хоронит день недолговечный,
‹...›
Когда над самой головой
Восходит призрак золотой
И в полдень тень лежит у ног,
Как очарованный зверок ‹...›
(курсивом выделены слова, настраивающие на сказочный лад). Взывание поэта то к
человечеству, то к
человеку, то к некому
соседу, намекает на магическую сторону обновления живых существ и вещей и даже мистику (вплоть до “вознесения”, т.е. полёта духа):
95
Род человечества, игрою лёгкою дурачась ты,
В себе самом меняя виды,
Зимы холодной смоешь начисто
Пустые краски и обиды.
Иди, Весна! Зима, долой!
Греми весеннее трубой!
И человек иной чем прежде
В своей изменчивой одежде,
Одетый облаком и наг,
Цветами отмечая шаг,
Летишь в заоблачную тишь,
С весною быстрою сам-друг,
Прославив солнца летний круг,
Широким неводом цветов
Весна рыбачкою одета,
И этот холод современный
Её серебряных растений,
И этот ветер вдохновенный
Из полуслов и полупения,
И узел ткани у колен,
Где кольца чистых сновидений.
Вспорхни, сосед, и будь готов
Нести за ней охапки света
И цепи дыма и цветов.
И своего я потоки,
Моря свежего взволнованней
Ты размечешь на востоке
И посмотришь очарованней
Сини воздуха затеи.
Сны кружились точно змеи.
Озарённая цветами,
Вдохновенная устами,
Так весна встает от сна.
Далее видим святочное шествие, повергающее в недоумение: политическая демонстрация (
Умных толп священный гнев)? крестный ход? Вся поэма пронизана этой плодотворной двусмысленностью: чествуемая языческим праздником весны
Дева превращается в
Богоматерь, а затем в
Русалку, вдохновительницу
Поэта, для которого не существует границ между воображаемым и явью:
96
Все, кто предан был наживе,
Счёту дней, торговле отданных,
Счёту денег и труда, —
Все сошлись в одном порыве
Любви к Деве верноподданных,
Веры в праздник навсегда.
Крик шута и вопли жён,
Погремушек бой и звон,
Мешки белые паяца,
Умных толп священный гнев —
Восклицали: Дева Цаца!
Восклицали нараспев,
В бурных песнях опьянев.
Празднование масленицы постоянно двоится:
97
радости обновления природы сопутствует мрачный обряд изгнания мертвецов, христианству находится языческий “дублёр”, торжествует безумие, мир встаёт с ног на голову. Само шествие, в свою очередь, тоже имеет двойное дно. За смехом таится тревога; сквозь бесовскую личину проглядывает тайна инобытия;
умершая вера оказывается тем, к чему
всё летит:
98
Двумя занятая лавка,
Тёмный тополь у скамейки.
Шалуний смех, нечаянная давка,
Проказой пролитая лейка.
‹...›
Повсюду праздничные лица
И песни смуглых скрипачей.
‹...›
Подведены, набелены,
Скакали дети небылицы.
Плясали черти очарованно,
Как призрак, призраком прикованный.
Как будто кто-то ими грезит,
Как будто видит их во сне,
Как будто гость замирный лезет
В окно красавице весне.
Слава смеху! Смерть заботе!
Из знамён и из полотен,
Что качались впереди,
Смех красиво беззаботен,
С осьминогом на груди,
Выбегает смел и рьян —
Жрец проделок и буян.
Пасть кита несут, как двери
Отворив уста широко:
Два отшельника-пророка
В глуби спрятаны, как звери,
Спорят об умершей вере.
Снег за снегом
Всё летит к вере в прелести и негам.
Фантасмагория масленичного шествия подготавливает вторжение сверхъестественного: явление
Богоматери:
99
Какие синие глаза!
Сошли ли наземь образа?
Дыханьем вечности волнуя,
Идут сквозь праздник поцелуя?
Священной живописью храма,
Чтобы закрыл глаза безбожник,
Иль дева нежная Ислама,
Чтоб в руки кисти взял художник?
„Скажи, соседка, — мой Создатель!
Кто та живая богоматерь?”
„Её очами теневыми
Был покорён страстей язык,
Её шептать святое имя
Род человеческий привык”.
Бела, белее изваяния,
Струя молитвенный покой
Она, божественной рукой,
Идёт, приемля подаянье.
И что ж! И что ж! Какой злодей
Ей дал вожатого шута!
Она стыдится глаз людей,
Её занятье — нищета!
Но нищенки нездешний лик
Как небо синее велик.
Казалось, из белого камня изваян
Поток её белого платья,
О, нищенка дальних окраин,
Забывшая храм богоматерь!
Испуг. Молчат...
И белым светом залита
Перед видением толпа детей, толпа дивчат.
После ослепительного видения праздничное шествие продолжается, как ни в чём не бывало; бесшабашная пляска жизни озаряется отблесками адского пламени:
100
Но вот веселие окрепло.
Ветер стона, хохот пепла,
С диким рёвом краснокожие
Пробежали без оглядки
За личинами прохожие
Скачут в пляске и присядке.
И за ней толпа кривляк,
С писком плача, гик шутов,
Вой кошачий, бой котов,
Пролетевшие по улице,
Хохот ведьмы и скотов,
‹...›
Мокрой сажи непогода,
Смоляных пламен костры,
Близорукие очки текут копотью по лицам,
По кудрявых влас столицам,
И в ночной огнистой чаре,
В общей тяге к небылицам,
Дико блещущие хари,
Лица цвета кумача
Отразились как свеча
Среди тысячи зеркал,
Где огонь как смерть плескал.
Смеху время! Звездам час!
Восклицали, ветром мчась.
Парад уродов ненадолго прерывается очередным мистическим вмешательством; и вновь та же “сонная одурь” ликующей (или безумной?) толпы:
101
Скамья. Голо выбритый инок
Вдвоём с черноокой женой.
Как голубого богомольцы,
Качались длинных кудрей кольца,
И полночь красным углем жёг
В её прическе лепесток.
И что ж! Глаза упорно синие
Горели радостью уныния
И томной роскоши полны,
Ведут загадочные сны.
Но, полна метели, свободы от тела,
Как очи другого, не этого лика,
Толпа бесновалась, куда-то летела,
То бела как призрак, то смугла и дика.
И около мёртвых богов,
Чьи умерли рано пророки,
Где запады с ними востоки,
Сплетался усталый ветер шагов,
Забывший дневные уроки.
Следующие семьдесят строк (с 230-й по 299-ю) —
сердь поэмы: описание субъекта, “противопоказанного” масленичной суматохе:
Поэта. Его внешность описана не более правдоподобно, чем шествие, в котором человеческое сменяется божественным и наоборот. Описание ведётся намёками, называя
Поэта с большим опозданием (только в 261-й строке!), после пространной
морóли о знаке (или знаке отличия)
Поэта — исполинских размеров плаще, который странным образом перекликается с белым одеянием
Богоматери:
102
И их ожерельем задумчиво мучая
Свой давно измученный ум,
Стоял у стены вечный узник созвучия
В раздоре с весельем и жертвенник дум.
Смотрите, какою горой темноты,
Холмами, рекою, речным водопадом
Плащ, на землю складками падая,
Затмил голубые цветы,
В петлицу продетые Ладою.
И бровь его на сон похожая,
На дикой ласточки полёт,
И будто судорогой безбожия
Его закутан гордый рот.
С высокого темени
Волосы падали
Оленей сбесившимся стадом,
Что, в небе завидев врага,
Сбегает, закинув рога,
Волнуясь, беснуясь морскими волнами,
Рогами друг друга тесня,
Как каменной липой на темени,
И чёрной доверчивой мордой
Все дрожат, дорожа и пылинкою времени,
Бросают сердца вожаку
И грудой бегут к леднику;
И волосы бросились вниз по плечам,
Оленей сбесившимся стадом,
По пропастям и водопадам.
Ночным табуном сумасшедших оленей,
С веселием страха, быстрее чем птаха!
Таким он стоял, сумасшедший и гордый
Певец, голубой темноты строгий кут
Морскою волною обвил его шею измятый лоскут.
И только алмаз Кизил-Э
Зажёг красноватой воды,
Звездой очарованной, к булавке прикованной,
Плаща голубые труды,
Девичьей душой застрахованной.
Развёрнутая и мощная
морóль, своего рода
знатцы поэмы (
Богоматерь названа
Ладой, что неявно отсылает к весенней
Деве и возвещает
Русалку) — липа, время,
103
вера, тьма и синий цвет, сон/мечта, волосы — завершается стиранием различий между сном и явью:
104
О, девушка, рада ли,
Что волосы падали
Рекой сумасшедших оленей,
Толпою в крутую и снежную пропасть,
Где белый белел воротничок.
В час великий, в час вечерний
Ты, забыв обет дочерний,
Причесала эти волосы,
Крылья дикого орлана,
Наклонясь как жемчуг колоса,
С голубой душою панна.
И как ветер делит волны,
Свежей бури песнью полный,
Первой чайки криком пьяный,
Так скользил конец гребёнки
На других миров ребёнке,
Чьи усы темнеют нивой
Пашни умной и ленивой.
Портрет завершается голубым мазком, спектральным знаком
синебна и
небеснязи, задающим тональность всей поэме
105
(ст. 290–299):
И теперь он не спал, не грезил и не жил,
Но, багровым лучом озаренный,
Узор стен из камней голубых
Чёрными кудрями нежил.
Он руки на груди сложил,
Прижатый к груде камней призрак,
Из жизни он бежал, каким-то светом привлечённый,
Какой-то грёзой удивлённый,
И тело ждало у стены
Его души шагов с вершин,
Его обещанного спуска,
Как глина полная воды.
Но без цветов пустой кувшин,
Без запаха и чувства.
Частерики воды, синевы,
Богоматери, веры и поэзии складываются в образ, по справедливому замечанию В. Маркова
106
входящий в обойму наиболее полно раскрывающих суть хлебниковского
единебна “интеграторов”:
Русалку. Посвящённые ей строки (300–419) заканчиваются трагическим вопросом, смолоду волновавшим Хлебникова: каково место и назначение поэзии в мире, где правят наука и разум? Весь отрывок, из которого мы приведём несколько извлечений, словесно и образно выдержан в неразрывной связи с предыдущими описаниями масленичного шествия и
Поэта:
107
У ног его рыдала русалка
‹...›
Когда на камнях волос чешет
Русалочий прозрачный пол
И прячется в деревьях липы,
Конь всадника вечернего опешит,
И только гулкий голос выпи
Мычит на мельнице как вол.
Утехой тайной сердце тешит
Усталой мельницы глагол.
И всё порука от порока,
Лишь в омуте блеснёт морока
И сновидением обмана
Из волн речных выходит панна
И, горделива и проста,
Откроет дивные уста.
Поёт про очи синие, исполненные прелести,
Что за паутиной лучей,
И про обманчивый ручей,
Сокрыт в неясном шелесте.
Тогда хотели звезды жгучие
Соединить в одно созвучие
И смуглую веру воды,
Весёлые брызги русалок,
И мельницы ветхой труды,
И дерево полное галок,
И девы ночные виды.
‹...›
Русалка месяца лучами
Невеста в день венца.
Молчанья полными глазами,
Краснея, смотрит на певца,
Глаза ночей. Они зовут и улетают
Туда, в отчизну лебедей,
И одуванчиком сияют
В кругах измученных бровей,
И нежно, нежно умоляют.
„Как часто мой красивый разум,
На мельницу седую приходя,
Ты истязал своим рассказом
О празднике научного огня.
Ведь месяцы сошли с небес
Запутав очи в чёрный лес,
И, обученные людскому бегу,
Там водят молнии телегу
И толпами возят людей
На смену покорных коней.
На белую муку
Размолот старый мир
Работою рассудка
И старый мир — он умер на скаку!
И над покойником синеет незабудка,
Речи чистоглазая дочь.
Над древним миром уже ночь!
Ты истязал меня рассказом,
Что с ним и я, русалка, умерла,
И не река девичьим глазом
Увидит времени орла.
‹...›”
„Отец убийц! Отец убийц — палач жестокий!
А я, по-твоему, в гробу?
И раки кушают меня,
Клешнёю чёрной обнимая?
Зачем чертой ночной мороки,
Порывы первые ломая,
Ты написал мою судьбу?
Как хочешь, назови меня:
Собранием лучей,
Что катятся в окно,
Ручей-печаль, чей бег небесен,
Иль нет из да — в долине песен,
Иль разум вод — сквозь разум чисел,
Где синий реет коромысел.
Из небытия людей в волне
Ты вынул ум, а не возвысил
За смертью дремлющее “но”.
Ответ
Поэта завершает поэму величественным видением, неспроста помещённым под знаком
Водолея, где обе примирённые веры, язычество и христианство (
Русалка и
Богоматерь), оказываются сёстрами вечного изгнанника, одинокого
Поэта:
108
По белокаменным ступеням
Он в сад сошёл и встал под Водолеем.
„Клянёмся, клятве не изменим”, —
Сказал он, руку подымая,
Сорвал цветок и дал обеим:
„Сколько тесных дней в году,
Стольких воль повторным словом
Я изгнанниц поведу
По путям судьбы суровым”.
И призраком ночной семьи
Застыли трое у скамьи.
Из выделенных курсивом слов и выражений можно заключить, что ритмическое единство поэмы обеспечивается сетью отношений и соответствий между словами или образами, которые очерчивают, скажем так, музыкальное
всутствие, если понимать
множаву темы как повторение лейтмотива. Задающий ритм изменчив, но узнаваем в различных
зрынях целого, ибо таковые на глубинном уровне связаны воедино.
Ещё одно следствие стилистического полиморфизма — “полифония” поэм советского периода, реализация в ином ключе, но с той же глубинной слáды, призванной проявить ритм темы.109 Эта зовéль торжествует в «Зангези», где язык, стилистически врематый, оказывается местериком своей темы.
Эта зовéль торжествует в «Зангези», где язык, стилистически врематый, оказывается местериком своей темы.
Тем же законам внутреннего смыслового строения соответствует и древлезём языка. Эта подробность ведавы Хлебникова, основательно продуманная и никоим образом не навязчивая, обыкновенно истолковывается неверно; древлезём — возврат не в былое (в любом случае невозможный), а к основам языка. Ἀρχαῖον переводится двояко: 1. старина, древность; 2. достояние, сокровище (ἀρχή — начало, основание, происхождение); второе значение напрашивается именно в нашем случае: язык сам по себе — кладезь поэзии. “Архаизирующая неология” (оксюморон этот с очевидностью показывает вневременность, на которую нацелен Хлебников) обнаруживает утончённое хитроумие автора, который сеет на успевшей за века отдохнуть залежи. Ἀρχαῖον в смысле старины попадает, таким образом, в собственную ловушку и преодолевается. Неология достигает на словесном уровне того же, что слáда на уровне более крупных единиц речи (планов, образованных стилистической единицей или стилистическими синтагмами): показывает процессы производства смысла в лексике. Хлебниковский древлезём есть речь, вырабатывающая поэзию:110
Радуга радостей
Воры волоса.
— Горы голоса!
Мирвежие очи, их свят свет!
Донынное зло,
— Зло хохотал раньшевик...
Илила очей.
Шагов сокровик.
Полуочи-полуморе!
Молчи, тишак!
Дворец — людовик,
Дворец — летовик,
Туч летерик
Злато-глазастый,
Тоня небесная —
Золотых очей длинный невод:
Это летел летерик
Людовитый, вспенив волны небес.
Волга неба вспенилась тучами.
Из тысяч пещер человеческих
Перо золотое.
Лебедь пера золотого.
Двойная “экстемпорализация” (по сути, создающая то, что называется поэзией) чередой великих произведений, открываемой «Детьми Выдры», порождает подлинную лингвистическую утопию. Утопия — не проекция будущего на
близбище (что было бы равносильно реваншу исторической темы, представленной в ключе должествования), а построение вневременного мира двояким образом: поэтический факт оказывается порождением особого рода “мироятия”:
будеславль Хлебникова есть архетип, раскрывающий смысл истории; поэма предстаёт
разумнядью мира; мир, подражая поэме, приобретает смысл; «Доски судьбы» (в их таблицах
ведава Хлебникова
111 вселеннует
вселеннует: цифровой код “дарует” миру осмысленность
112
), превосходя кодекс Хаммурапи, становятся искуплением мира, спасают его от
ничтвы. В «Досках судьбы» математическая
роковыня (
ἀριθμός) — союзница, если не сестра,
роковыни поэтической (
ῥυθμός). Обе наделяют вселенную
разумом : ἀριθμός и
ῥυθμός — разновидности одного и того же “формального” подхода: мир понимается как совокупность отношений; их схема проецирует смысл на мир, становящийся, таким образом, постижимым:
113
Коса войны, чумы, меча ли
Косила колос сёл,
И всё же мы не замечали
Другие синие оковы,
Такие радостные всем.
Вы из земли хотели Ка,
Из грязи, из песка и глины,
Скрепить устои и законы,
Чтоб снова жили властелины.
А эта синяя доска,
А эти синие оковы
Грозили карою тому,
Кто не прочтёт их грозных рун.
Она небесная глаголица,
Она судебников письмо,
Она законов синих свод,
И сладко думается и сладко волится
Тому, их клинопись прочесть кто смог.
Так в чём же, наконец, смысл поэтического странствия Хлебникова? Неуклонная предзаданность поиска обеспечила единообразие поэтической
двигавы от “символистской”
поюнности к
будетлянству, не имеющего себе подобия учению о равноправии законов воображения и вселенной, увенчанному кодексом поведения “граждан будущего” —
законами времени. Путь был прям: от поэтического мифа к
самовитому слову, а затем к «Доскам судьбы» с их взаимоувязкой всего и вся — от ударов сердца до
пения звёзд. Случайно ли, что излёт
земвы Хлебникова совпадает с созданием “памятки” восприятия его
синебна? В конце пути, как огромное зеркало с отражением хлебниковской
ведавы целиком, высится «Зангези» — вершина хлебниковской поэзии. В зеркальности этой
сверхповести заключён её сокровенный смысл: в любой точке любой
плоскости этой
голубокумирни работа мысли оборачивается действием.
————————
Примечания
* Иноземные соответствия руссейшей, по Н.И. Харджиеву, словесности Велимира Хлебникова даны всплывающими подсказками в именительном падеже. — В.М.
Принятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1
1 О скандальной известности, принесшей поэту репутацию “вождя” новой иконоборческой школы, см., например:
Н. Харджиев. Маяковский и живопись // Маяковский: материалы и исследования. Соч. цит., с. 415–416):
B 1913 г. группа поэтов-новаторов, возглавлявшаяся Велимиром Хлебниковым, в отличие от эго-футуристов называла себя литературной компанией футуристов.
Хлебников был, очевидно, “моральным” лидером группы, организованной и руководимой Д. Бурлюком.
 2
2 Название, которое дали себе “футуристы”-гилейцы, весьма скромное: литературная компания. См. пред. прим. со ссылкой на замечание Н. Харджиева, а также:
В. Маяковский И нам мяса! // Полн. собр. соч., цит. соч., т. I, с. 324:
Что такое футурист — марка, как «Треугольник». ‹...› И даже марка-то “футуристы” не наша. Наши первые книги — «Садок судей», «Пощёчина общественному вкусу», «Требник троих» — мы назвали просто: сборники литературной компании.
 3
3 Пространство, в котором движется мысль поэта, гораздо шире, чем область его “здесь-сейчас”: это сквозное, теоретически не определимое пространство памяти (и воображения), где созидается поэтическая реальность. Глубинная поэтическая среда потребовала бы назвать всю совокупность русскоязычных поэтических произведений, составляющих “вменённый” Хлебникову мир, из которого он выработал свой собственный.
 4
4 Мифологическое “славянство” А.Н. Толстого и С. Городецкого послужило Хлебникову образцом для создания его собственной “языческой” эстетики — славянского “мифопоэза”:
Тогда прошумел Сергей Городецкий, издавший «Ярь». Книга очень большая. Хлебников ходил с нею.
В. Шкловский. О Маяковском //Собрание соч., указ. соч., т. III, с. 112.
 5
5 Это, по сути,
морóль. Но достаточно хорошо узвестно, что
морóль, в высшей степени полезная как поэтический приём, никакой научной ценности не имеет. Это применимо и к общекультурным, и к конкретным художественным явлениям. Сведéние, например, К. Чуковским русского “футуризма” к уитманизму ложно, поскольку этим он игнорирует абсолютную автономию поэтических систем, которые дóлжно судить только по их собственным законам.
 6
6 См.:
Вяч. Иванов. Две стихии в современном символизме // По звёздам.
СПб. 1909.
 7
7 Согласно Вяч. Иванову, русский “символизм” отличается от западного тем, что первый — „реалистический”, второй — „идеалистический” (там же).
 8
8 Точно так же “русский футуризм” отличается от собственно футуризма именно своей “русскостью”. Эта отговорка, разумеется, не освобождает нас от внимательного сопоставления фактов, подпадающих под формулировку “русский футуризм”. Слово, понимаемое как маркер, обозначает сумму поступков и жестов (сюда же мы включаем поэтический акт); следовательно, необходимо выяснить, чем “русский футуристический” жест отличается от иноземного.
 9
9 Марксистский анализ этого культурного явления см.:
Я. Шапирштейн-Лерс. Общественный смысл русского литературного футуризма (неонародничество в русской литературе XX века).
М. 1922. С. 56 и далее;
воспроизведено на www.ka2.ruстоль же тенденциозный, но менее скудный анализ см.:
М. Неведомский. Наша художественная литература предреволюционная эпохи // Общественное движение в России в начале XX-ого века. Цит. соч., т. 1, с. 483–537).
 10
10 М. Неведомский говорит по этому поводу о „капитуляции перед Европой” (там же, с. 483, 536, 537):
“Капитуляция перед Европой”, приобщение к её городской культуре сказываются не только в совпадении художественных мотивов, но и в однородности приёмов творчества.
Тем не менее, Неведомский соединяет это явление с внутренней “европеизацией”, которая проявляется в заимствовании структуры художественных произведений (и это справедливое замечание обнуляет полемический
вéрень ‘капитуляция’ (стр. 534):
Влияние западной техники на наше художество неоспоримо. Французам при переводе наших авторов уже незачем прибегать к тем развязным “переработкам”, которые они производили в переводах Толстого и Достоевского: теперь они получают в писаниях наших беллетристов материал в знакомой “родной”, общекультурной, так сказать, обработке.
а) Эта „капитуляция” перед
зовелью западного искусства повела ко многим техническим плюсам, и прежде всего к концентрированной силе изображения.
————————
а) Приёмы эти являются результатом не только европеизации, но вызваны, разумеется, и органической эволюцией искусства. Они эволюционировали опять заодно с эволюцией мироощущения.
Синтез стал возможен, особенно на философском уровне, благодаря слиянию различных элементов русской культуры. О философском синтезе Вл. Соловьёва и условиях его возникновения см.:
В. Зеньковский. Русские мыслители и Европа.
Paris: YMCA-Press. 1955. С. 249–262.
 11
11 Весьма подробную историю итальянского футуризма см.:
Giovanni Lista. Futurisme — Manifestes — Proclamations — Documents.
Lausanne: L’Age d’Homme. 1973. «Avant-propos», p. 7–79;
Giovanni Lista. Marinetti et le Futurisme.
Lausanne L’Age d’Homme. 1977. Русская критика, особенно в советское время, даёт весьма пристрастный анализ итальянского футуристического феномена, регулярно подчёркивая исторические связи футуризма и фашизма (см., например, весьма характерную в этом отношении работу
Е.Ф. Никитина. Русская литература от символизма до наших дней.
М. 1926. С. 106–107). Те, кто после 1917 года заявлял о продолжении работы довоенного “русского футуризма” на новых основах, старательно дистанцировались от итальянских “омонимов”, политическая позиция которых в Советской России могла привести к двусмысленным сближениям, которые дискредитировали бы поэтическую и политическую направленность “комфутов” (см.:
С. Третьяков. Трибуна Лефа // ЛЕФ, №3, 1923. С. 154–164, особенно с. 158–159;
Н. Горлов. Футуризм и революция.
М. 1924. С. 3–21. Различие итальянского футуризма и “русского футуризма” вскрыто в добротной компиляционной работе
Nana Bogdanovič. Futurizam Marinetija i Majakovskogo.
Beograd. 1963, в частности, в главе «Футуризм и будетлянство», p. 29–97.
 12
12 Не устав, не программа и не теоретические выкладки определяют сущность поэтического искусства, а произведения, по которым только и можно судить о поэтическом искусстве. “Русские футуристы” (несправедливо) упрекали итальянский футуризм в том, что он горазд на предписания, но мало плодовит. См., например, «Слово как такое» Кручёных и Хлебникова (
СП V: 247) и весьма суровое суждение
Г. Чулков. Наши спутники, 1912–1922.
М. 1922. С. 180. Та же точка зрения в:
Н. Харджиев. Турне кубо-футуристов 1913–1914 годов. С. 414–415. Соотносимость произведений с новаторской теорией, у каждого своей, единит “русский футуризм” и итальянский футуризм, но никоим образом не доказывает зависимость первого от второго.
 13
13 Итальянский футуризм уже присутствовал в художественной жизни Италии в конца XIX – начала XX века, представляя собой своеобразный этап эволюции художественных
зовелей итальянской культуры. Никогда не бывает стихийного зарождения “движений” или “школ”, а есть органическое развитие
всегдавы, в определённый момент своей эволюции проявляющей ряд особенностей, которые требуют особого поименования, создавая этим видимость разрыва с прошлым, “революции”. Диалектике жизни и смерти эстетических
зовелей найдена превосходная биологическая
морóль:
Современное искусство обращено к будущему, но это будущее в нас таится; мы подслушиваем в себе трепет нового человека; и мы подслушиваем в себе смерть и разложение; мы — мертвецы, разлагающие старую жизнь, но мы же — ещё не рождённые к новой жизни: наша душа чревата будущим: вырождение и возрождение в ней борются.
А. Белый. На перевале // Арабески. Указ. соч., с. 242.
Литературная критика слишком часто становится жертвой мифа о спонтанном творчестве, о fiat lux бытия (миф, справедливо разоблачённый, см.:
R. Jakobson. Le Folklore, forme spécifique de création // Questions de poétique, op. cit., p. 62–63). Вопрос о происхождении — из области метафизики, поэтому имеет для поэтики второстепенный интерес. Футуризм, акмеизм, символизм и другие школы современны “бессмертным творениям” и представляют собой лишь их причуды (см.:
A. Joly. Le Futurisme et la philosophie // La Belgique littéraire et artistique.
Luglio. 1912).
 14
14 О датах и каналах информации см.:
Н. Харджиев. Турне кубо-футуристов 1913–1914 годов. С. 415:
Первые сведения об итальянском футуризме проникли в русскую печать уже в 1909 г.
Итальянский футуризм в своих художественных проявлениях был известен и русской публике благодаря обзорам Паоло Буцци в журнале «Аполлон».
 15
15 Слово ‘футуризм’ — эмблему нового искусства, восстающего против древних канонов — ввёл в оборот И. Зданевич (см.: Notes inédites, 50 années du 41°, 1918).
 16
16 “Отправная точка” эго-футуризма — брошюра «Пролог — Эго-футуризм» (1911), переизданная в поэтическом сборнике «Громокипящий кубок» (1913), см.:
Н. Харджиев. Цит. соч., с. 415, особенно прим. 3; см. также:
И.В. Игнатьев. Эго-футуризм // Заксахаре кры — Эго-футуристы — V.
СПб. 1913. С. 2–9):
Впервые это слово “эго-футуризм” встречается в брошюре г. И. Северянина «Ручьи в лилиях» (СПб., 1911) в виде подзаголовка к поэме «Рядовые люди» (из цикла «Эго-футуризм»). Затем, оно находит применение в «Прологе Эгофутуризм» того же г. Игоря Северянина, в «Скрижалях Академии Эго-поэзии», в «Доктринах интуитивной школы Эго-футуризм» и целом ряде сборников «Петербургского Глашатая», в одном из коих, именно в «Орлы над пропастью» — закончен обозрением «Первый год эго-футуризма» ‹...›
 17
17 О трудности установления “начала” “русского футуризма” см. Anfänge des russischen Futurismus // Heidelberger Slavische Texte. 1963. См. также исследование философии эго-футуризма:
А. Закржевский. Рыцари безумия (Футуристы).
Киев. 1914. К сожалению, работа Закржевского, хотя и содержит много важных замечаний, далека от беспристрастия (автор, в частности, систаматически сводит эго-футуризм к неадекватной
разумняди, искажающей научную оценку). По мнению автора, А. Кручёных, например, „самый искренний и смелый из “кубофутуристов” (таковые в книге упоминаются вскользь, поскольку анализ сосредоточен, главным образом, на эго-футуризме), находится под влиянием Маринетти просто потому, что манифесты Кручёных изданы на год позже манифестов Маринетти! (с. 133).
Post hoc, ergo propter hoc. Известно, чего стоит такого рода аргумент. К сожалению, “футуристы”-гилейцы попались в ту же ловушку софистики, подтасовывая даты своих изданий ради того, чтобы показать свою независимость от
разумняди Маринетти!
 18
18 Роль Игоря Северянина в русской поэзии того времени достаточно двусмысленна. В глазах современников, он “поймал мгновение” русской поэзии, см. весьма благоприятное свидетельство Б. Пастернака в «Автобиографическом очерке» и «Охранной грамоте» (
Б. Пастернак. Собр. соч., указ. соч., т. II, с. 42, 277). Он был грозным соперником гилейцев, особенно В. Маяковского (чьи поэтические принципы были противоположны северянинским), см.:
В. Маяковский. Поэзовечер Игоря Северянина // Полн. собр. соч., цит. соч., т. I, с. 338–339; несмотря на это, И. Северянин, В. Маяковский и В. Каменский некоторое время вместе совершали большое “футуристское” турне 1913–1914 гг., см.:
Н. Харджиев. Цит. соч, с. 407–409. Игорь Северянин — родоначальник стиля “ресторан и курорт”, который перенял гилеец В. Каменский («Кисловодск», «Моя карьера», см.:
Е.Ф. Никитина. Русская литература..., указ. соч., с. 107–108). Позёрство и самовозвеличивание (уподобление пророку, Мессии, Спасителю — см., среди множества подобного, Эпилог // Громокипящий кубок.
М. 1915. С. 189–191; Крымская траги-комедия // Victoria Regia.
М. 1916. С. 124–126) Игоря Северянина — вульгаризация “теургической позы” поэтов-“символистов” (Брюсов, Бальмонт, Вяч. Иванов), деградировавшей до риторического приёма.
 19
19 См.:
G. Donchin. The influence of French symbolism..., op. cit., p. 81. Эго-футуристская всеядность расширяет “символистское” понятие “генополитизма”, в котором должны слиться все будущие формы культуры.
 20
20 Понятие интуиции в эго-футуризме — почти карикатурное заострение бергсоновской философии, лежащей в основе “символистской” системы. Многие “привнесения” эго-футуристической школы представляют собой послевкусие “символизма”. Эго-футуризм низвёл “символизм” до набора голых приёмов и засилья риторики.
 21
21 Через “мелодизм” своей поэзии (см. цитированное выше замечание Пастернака) Игорь Северянин связан с верленовской традицией (“декадентской”, по терминологии “русского символизма”), утверждавшей примат музыки над “красноречием”.
 22
22 Эгофутуризм — Эпилог, цит. соч., с. 191.
 23
23 “Измена” Грааля-Арельского и Г. Иванова весьма относительна; она объясняется их верностью фундаментальному выбору, который неизбежно сближал их с “пре-акмеистами”: преодолев “символизм”, вернуть номинативную силу поэтическому слову. Адам, первый поименователь, был их идеалом.
 24
24 “Символизм” эго-футуристы не отрицали; утверждалось, что они превосходят его. Именно это заставило Закржевского заявить (указ. соч., с. 91), что эго-футуристы хотят „оживить труп”. Действительно, некоторые теоретические положения и практика эго-футуристов представляют собой наивную попытку реализовать символистские проекты, отвергнутые их авторами как слишком регрессивные (см.:
Вс. Светланов. Символическая симфония // Эго-футуристы: «Бей!.. Но выслушай!»
СПб. 1913. С. 6–8).
 25
25 Игнатьевский “футуризм” есть часть поисков сообщества, где автономия “особи” полностью реализуется, а язык упраздняется сам собой (см. Эго-футуризм // Манифесты и программы..., указ. соч., с. 45.
 26
26 Там же, с. 35.
 27
27 Там же, с. 41–42.
 28
28 Этому символу сгущения нового поэтического языка, якобы адекватного скорости современного мира, была уготована завидная судьба в лексиконе футуристов.
 29
29 См.: Манифест и программы..., указ. соч., с. 46.
 30
30 Там же, с. 41.
 31
31 Издано в конце 1912 г. в Москве. О деталях зарождения гилейского “футуризма” см. фундаментальный труд:
V. Markov. Russian Futurism: a history.
Berkeley–Los Angeles. 1968. P. 29–60;
Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец. Цит. соч., гл. II: «Гилея», с. 14–57; “маякоцентричная” точка зрения в поэме
Н. Асеев. Маяковский начинается // Стихотворения и поэмы, указ. соч., с. 517–646. «Пощёчину общественному вкусу» можно считать первым выступлением гилейского “футуризма” (
В. Маяковский. Капля дегтя // Полн. собр. соч., т. I,
М. 1955. С. 350), поскольку поэты в сознании цели, которую они поставили перед искусством, впервые действовали согласованно, именно как группа. Таким образом, для самих “футуристов” «Пощёчина...» стала (по суждениям, вынесенным задним числом) первым — а порой даже единственным! — манифестом “русского футуризма”. См. Маяковский о футуризме // Литературное наследство, т. 65, с. 176:
Футуризма как единого точно формулированного течения в России до Октябрьской Революции не существовало.
Этим именем крестили критики всё революционно-новое.
Идеологически спаянной группой футуристов была наша группа, так называемых (неудачно) “кубо-футуристов” (В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Кручёных, В. Каменский, Н. Асеев, О.М. Брик, С. Третьяков, Б. Кушнер).
Нам некогда было заниматься теорией поэзии, мы давали её практику.
Единственным манифестом этой группы было предисловие к сборнику «Пощёчина общественному вкусу», вышедшему в 1913 году. Манифест поэтический, выражавший цели футуризма в эмоциональных лозунгах.
«Пощёчина...», предварив «Первый журнал русских футуристов», знаменовала официальное основание “футуризма” в России. По мнению А. Кручёных, именно в ней не только было провозглашено „футуристическое революционное искусство”, но и впервые выдвинут тезис о самовитом слове (А. Кручёных. 15 лет русского футуризма 1912–1927 гг. М. 1927):
‹...› Шёл 1912 год. И вот, изготовленная в этом году, среди сюсюкающей тишины раздалась громовая затрещина: «Пощёчина общественному вкусу». Несколько смельчаков, наряженных в жёлтые кофты, провозгласили новые принципы искусства. ‹...› Это они провозгласили теорию самовитого слова (Хлебников), самой резкой фонетики и “самого взрывного искусства — зауми” (А. Кручёных).
О деталях подготовки издания «Пощёчины...» см.:
Н. Харджиев. Маяковский и живопись. Цит. соч., с. 343–344.
 32
32 ‘Слово’ многозначно: это и речь, и высказывание, и суждение, и речение, и поэтическое произведение. Его частое использование гилейцами оправдано значением ‘речь’, безусловно, наиболее значимым.
 33
33 Манифесты и программы..., указ. соч., с. 50–51.
 34
34 «Дохлая луна» (
М. 1913). Луна и солнце на поэтическом небосводе обозначают символистскую риторику, поэтому солнце побеждается “футуристами” («Победа над солнцем»), а луна “подыхает” (см.:
И. Терентьев. А. Кручёных грандиозарь //
А. Кручёных. Избранное. Цит. соч., с. 513).
 35
35 «Садок судей» (весна 1910), несмотря на отсутствие программы и различие художественных устремлений участников, имеет ярко выраженный антисимволистский уклон. Некоторые исследователи (
Э. Голлербах. Поэзия Д. Бурлюка. Указ. соч., стр. 3) и
будетляне-гилейцы (
В. Каменский. Путь энтузиаста.
М. 1931) появление этого сборника считают моментом учреждения
будетлянства, началом “русского футуризма” (см. свидетельство М. Матюшина в «Русских кубофутуристах», цит. соч., стр. 128).
 36
36 В «Студии импрессионистов» (
СПб. 1910. С. 47) Хлебников опубликовал знаменитое «Заклятье смехом», полагаемое К. Чуковским основополагающим актом “футуризма”. Но это стихотворение Хлебникова (опубликовано вместе с «Трущобами», с. 48) было единственным по-настоящему новаторским произведением в этом сводном обзоре, который Матюшин порицает за художественную неразборчивость составителя (цит. соч., с. 133–134). Теоретическая статья Н. Кульбина «Свободное искусство, как основа жизни» (с. 3–27) достаточно хорошо отражает эклектизм её автора, находящегося на перепутье от традиционного символизма к будущим движениям “постсимволистов”, акмеизму и “футуризму”. Тем не менее, заслуга Кульбина состоит в обосновании необходимости создания теории искусства, ибо „искусство есть мысль” (с. 8):
‹...› Не существует поэм, симфоний и вообще картин без мыслей. Картина слова музыки и пластики есть выражение художника. Произведения искусства — живые, яркие письма искусства.
Не всякому дано читать эти иероглифы. ‹...›
Для того, чтобы зритель понял настоящие предметы искусства и мог наслаждаться поэзией, которая в них заключена, нужно пробудить в нём мысли искусства. Для того, чтобы художник создал предметы искусства, нужно пробудить в нём поэта. Поэзия искусства — теория искусства.
 37 Б. Лившиц
37 Б. Лившиц. Цит. соч., гл. I и IV;
М. Матюшин. Цит. соч., с. 126–138. Любопытная особенность этих различных свидетельств (оба примерно двадцатью годами позже событий, о которых рассказывают): русские
будетляне-гилейцы знали об итальянском футуризме, но полностью игнорировали его в своей практике. Таким образом, “русский футуризм”, по-видимому, развивался по своим собственным законам и ничем не обязан какому бы то ни было влиянию.
 38
38 Утончённому западничеству символистов будет противостоять варварская, “примитивная” азиатчина “футуро-гилейцев” (несмотря на римо-эллинизм обоих определений). См.: «Харджи-Тархан», «Николай», «Охотник Уса-Гали» Хлебникова и сюиту «Сарынь на кичку» В. Каменского, вошедшую в состав длинной “варварской” поэмы «Сердце народное — Стенька Разин» и т.п.
 39 В. Шкловский
39 В. Шкловский. Жили-были // Собр. соч., цит. соч., т. I, с. 105. Шкловский, весьма сведущий очевидец литературного движения, отказывается проследить, хотя бы в общих чертах, истоки гилейского футуризма: „В истории трудно найти начало” (там же, с. 105). Однако он не скрывает раздрая в гилейской группе (там же, с. 108):
До поворота казалось всем по дороге. Главное было в отрицании прошлого.
В той же ненависти к прошлому состоит и образцовая ценность творческого наследия А. Рембо, противостоящего эстетике символизма. Любая “революция” имеет издержки, гилейский “футуризм” не исключение. Общая платформа, надо полагать, была довольно шаткой. “Футуро”-гилейство с работой по смене формы не справилось (там же, с. 111).
 40
40 Этот основополагающий, на наш взгляд, приём “футуристского” искусства, последствия которого для судеб поэзии ещё должным образом не оценены, известен как “примитивизм”, часто отождествляемый с наивным восприятием действительности (см.:
Н. Харджиев. Цит. соч., стр. 354–360).
 41
41 Название закрепляет в групповом сознании
отличие от других (см. четвёртое требование манифеста: „Стоять на глыбе слова “мы”); благодаря этому “футуризм” производит впечатление воинственности, новой в русских художественных кругах.
Перевод терминов
будетлянство,
будетлянин как futurianisme, futurien был продиктован композиционным приёмом русского языка (корень + суффикс для существительных, обозначающих жителей страны, города: Киев / киевлянин; будет / будетлянин (с “чудовищной” палатализацией, но кого это волнует!). Думается, можно распространить этот приём на французский язык, добавив суффикс -
ien, который может иметь подобное значение: Paris / parisien; Futur / futurien.
Впредь мы будем пользоваться только термином гилейский “футуризм” или кубофутуризм, исключая любой другой вариант “футуризма”, сознавая при этом, что ни одно из названий не имеет сущностной ценности, и что термин футуризм не является счастливым исключением. Его единственное оправдание — в однозначности маркировки литературного движения, весьма ограниченного во времени (и в области распространения); определение его подлинного смысла — совершенно другая задача.
 42
42 Мы даже полагаем, что выбор термина
будетлянство мотивирован только этим соображением. В самом деле, “ославянивание” термина “футуризм” доказала зависимость
будетлянства, уже на уровне терминологии, от произвола переводчика. Однако, на наш взгляд, этот выбор не только внешне отграничил “футуризм” от эго-футуризма, но и сделал „езду в незнаемое” противовесом поэтическим системам, отдающим предпочтение категории памяти о былом (символизм, акмеизм): введя категорию
будущего в искусство, футуристы ориентировали поэтическую память как вспять, так и на забегание вперёд. В этом нет никакого противоречия: память есть область смысла в искусстве, она не отдает предпочтения какому-либо одному направлению (см.:
О. Мандельштам. Литературная Москва // Собр. соч., цит. соч., т. II, стр. 370):
Изобретенье и воспоминание идут в поэзии рука об руку, вспомнить — значит тоже изобрести, вспоминающий тот же изобретатель.
(см. также:
R. Jakobson. Sur la prose du poète Pasternak // Questions de poé tique, op. cit., p. 143).
 43
43 См., например:
М. Матюшин. О книге Глеза и Метценже «Du cubisme» // Союз молодёжи, №3 (1913).
СПб. С. 25–34. Метафизической проблеме битвы за искусство будущего придаётся то же значение, что и “сквозному” измерению в создании риманова пространства в живописи (стр. 30). Западный “кубизм”, таким образом, ставится в соответствие философской системе П.Д. Успенского; отрывки из его «Tertium Organum» сопоставлены с отрывками из работы Глеза и Метценже. Научная метафора (ср.
пространство Лобачевского у Хлебникова) устанавливает всемогущество воображаемого, приравнивает раскрытие смысла “реального” к его созданию.
 44
44 См., в частности, манифест «Слово как таковое» (конец 1913), черновик манифеста с тем же названием, опубликованный Кручёных в «Неизданном Хлебникове» (№18) и «Буква как таковая» (там же), а также черновик манифеста для «Рыкающего Парнаса» (
СП V: 249–250).
 45
45 Опубликовано в сборнике «Дохлая луна» (осень 1913).
 46
46 Б. Лившиц с поразительной ясностью оценил своеобразие мысли Хлебникова в рамках
будетлянского движения и, более того, в полемическом ответе на лекцию К. Чуковского о русском футуризме, прочитанную в Тенишевском институте (октябрь 1913), назвал
заумный язык Хлебникова языком „четвёртого измерения”. (К. Чуковский делал упор на поэзию А. Кручёных в ущерб поэзии Хлебникова, рассматриваемой им как самоповторы единственного “футуристского” стихотворения «Заклятье смехом») См.:
Б. Лившиц. “Копролитическмй монумент”. Дубина по голове русской критики // Футуристы — Первый журнал русских футуристов, №1–2.
М. 1914:
Конечно, автор дыр – бул – щыл — поэт небезынтересный, поэт с довольно острым пониманием момента, но сосредоточивать внимание на Кручёных, как на центральной фигуре русского “кубо-футуризма” значит, прежде всего, вызывать удивление и смех в рядах самих же “кубо-футуристов”. Почему делает это г. Чуковский — неужели из одного лишь, столь свойственного ему, легкомыслия? Это можно было бы предположить и на этом покончить, если бы критические упражнения г. Чуковского ограничивались только литературной копрофагией (бедняга, с каким аппетитом набросился он на кручёныховские „испарь свинины” и „навоз”!). Но процитировав хлебниковское заклятие смехом и (ах, этого нынче требует немного запоздавшая литературная мода!) объявив Хлебникова гениальным, би-ба-бо делает неожиданно-крутой выверт. Хлебников оказывается явлением случайным, никакими связями с русским (и, вообще, со всяким) футуризмом не связанным, нисколько для него не характерным. Конечно, только совершенное непонимание поэзии Хлебникова, только принижение его гениального словотворчества до уровня простых суффиксологических опытов может привести к подобному выводу. Великая заслуга Хлебникова — открытие жидкого состояния языка, и что более этого открытия связано с общей концепцией футуризма? В указанном состоянии слова не имеют ещё точного, законченного смысла, но, ещё недавно фосфены — музыка сетчатки! — теперь уже флюиды — её пластика! — меняющие свою форму в постоянном приближении к вещам “реального” мира и в постоянном от них удалении. Тайная иррациональная связь вещей для нас отныне не боль немоты, но радость первого наречения. На грани четвёртого измерения — измерения нашей современности — можно говорить только хлебниковским языком.
 47
47 См: Манифесты и программы..., цит. соч., с. 75–76: «Дохлая луна» (1913). Автономия поэтического “материала”, то есть самой семиотической системы, радикально трансформирует понятие темы и
выпыта, которые, таким образом, помещаются при анализе произведения на формальный уровень и никогда не должны его покидать. Лившиц переопределяет тему как совокупность процессов, конструирующих смысл в произведении, который не “деобъективируется” этим теоретическим изменением, как обычно считается (“беспредметность”, отсутствие тематических “объектов” определило бы нефигуративное, “абстрактное” искусство), но восстанавливается в своей собственной презентативной форме: тема произведения — это его презентативный проект, посредством которого возникает смысл.
 48
48 См. нелицеприятное суждение Б. Лившица о самоуправстве Бурлюка при смене названия группы (Полутораглазый стрелец... Указ. соч., гл. V, 2, с. 154–155):
Каким образом мы, полгода назад употреблявшие слово ‘футуризм’ лишь в виде бранной клички, не только нацепили её на себя, но даже отрицали за кем бы то ни было право пользоваться этим ярлыком ? ‹...›
В своих неопубликованных „фрагментах из воспоминаний футуриста” Давид открещивается от этого, утверждая, что „кличка была приклеена нам газетьём”, но, разумеется, без прямого участия Бурлюка, полновластно распоряжавшегося нашими изданиями, это не могло произойти никак. Подхватывая уже популярный ярлык, Бурлюк руководствовался определённым “хозяйским” расчётом и нисколько не обманулся в своих ожиданиях: по своему диапазону термин пришёлся как раз впору разраставшемуся движению.
В статье Маяковского «И нам мяса!» (Полн. собр. соч., цит. соч., т. I, с. 314) читаем:
Что такое футурист — марка, как «Треугольник» ‹...›. И даже марка-то “футуристы” не наша. Наши первые книги — «Садок судей», «Пощёчина общественному вкусу», «Требник троих» — мы назвали просто: сборники литературной компании.
Футуристами нас окрестили газеты.
Лившиц прав, осуждая “смену вывески” за возможные последствия. Но явление, на которое он ополчился, — заурядный случай в истории искусства: ехидную кличку принимают на свой счёт из чувства юмора или ради вызова. Многие ярлыки, ныне “канонические”, не имеют иного происхождения, кроме “беззлобной шутки”. Таковы импрессионизм, кубизм, фовизм и т.д.
 49
49 См.: Позорный столб российской критики // Первый журнал русских футуристов, с. 104–131), где приводятся красноречивые образчики нападок.
 50
50 В своей диссертации Г. Лерманн (
G. Lehrmann. De Marinetti à Maїakovski.
Fribourg. 1942. P. 7–9) упоминает о первой поездке Маринетти в Россию в 1910 году, не приводя этому подтверждений. Для автора “русский футуризм” — не более чем ответвление итальянского футуризма (с. 26), а его „духовная судьба” — игра исторических случайностей... Спор о первородстве между двумя футуризмами, как мы указывали ранее, лишён смысла и стал возможен лишь благодаря случайному омониму. Проблема “русского футуризма” возникла, по сути, лишь после визита Маринетти, приведшего (вкупе с рекламой итальянского футуризма) к раздраю в “футуризме”. Одним поневоле пришлось сделать выбор в пользу принципов, хотя и нечётко сформулированных, но лежащих в основе поэтических деклараций и поэтической практики, другим — склониться перед величием итальянской
разумняди, т.е. сойти с пути серьёзной и последовательной борьбы за
самовитое слово (см.:
Б. Лившиц. Указ. соч., гл. VII, 3, 4). В этом плане стычка с Маринетти, заставившая
будетлян открыто заявить о своих убеждениях, была полезна, хотя в итоге
будетлянство и погибло. Для Маяковского (см. вынесенный им в статье «Капля дегтя» (1922) приговор “футуризму” до Октября) 1915 год — время триумфальной гибели футуризма. М. Матюшин (Русские кубофутуристы. Цит. соч., с. 145–147) считает «Рыкающий Парнас» последним боевым сборником кубофутуристов (с. 145–146):
В начале 1914 года вышел последний боевой сборник кубо-футуристов «Рыкающий Парнас» (Маяковский, Хлебников, Кручёных, Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, В. Каменский, Б. Лившиц, Игорь Северянин, художники: Д. и В. Бурлюки, И. Пуни, О. Розанова, П. Филонов). ‹...› Я считаю, что кубо-футуризм проявился с наибольшей силой в промежуток времени от 1912 года до выхода «Рыкающего Парнаса». Кульминационный период русского кубо-футуризма был в 1913 году. Кубо-футуристы всегда держали “военный совет” и, выступая от 1910 до 1915 года, действовали, как одно целое, представляя собой единую по общей установке группу.
 51
51 См.:
Б. Лившиц. Цит. соч., гл. VII, «Мы и Запад», с. 211–256; о стычке между Хлебниковым и Н. Кульбиным во время визита Маринетти (январь 1914) см. подписанное Хлебниковым и Лившицем воззвание «На приезд Маринетти в Россию» (
СП V: 250) и письмо Хлебникова Н. Бурлюку от 2 февраля 1914 г. (Н
П: 368–369), а также примечание к нему (там же, с. 474–476).
 52
52 См. прим. 1 и
K. Dreier. D. Burljuk.
N.Y. 1944. P. 66 sq. См. также:
Е. Никитина. Цит. соч., с. 416:
Хлебников, В.В.: Один из родоначальников и вождей русского футуризма ‹...›
 53
53 Письмо к Кручёных от 31 августа 1913 г. (Н
П: 367).
 54
54 Хлебников отдавал себе отчёт, что ничто существенное в поэтической области не связывало его ни с Маяковским, ни с Бурлюком, ни с Кручёных: образование гилейской группы — исключительно дело тактики. Но “роковое” соединение этих отдельных судеб он объяснил “арифмологически” (
СП V: 269):
О природе дружбы
Существуют ли правила дружбы? Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк может быть не были друзьями в нежном смысле, но судьба сплела из этих имён один веник.
И что же? Маяковский родился через 365·11 после Бурлюка, считая високосные дни, между мной и Бурлюком 1206 дней, между мной и Каменским 571 день. 284·2 = 568.
Между Бурлюком и Каменским 638 дней.
Между мной и Маяковским 2809 дней...
Сознание глубокого своеобразия поэтического темперамента каждого из
будетлян привело Горького к выводу о том, что “русского футуризма”, как однородного литературного направления, не существует, налицо талантливые, самостоятельные („отдельные”) писатели (Журнал журналов, 1915, №1, с. 3).
 55
55 Вопрос верности “изначальным принципам” движения плодит бессмысленные споры, даже подпитывает нелепые отлучения. Сам дух футуризма склоняет к постоянному “предательству” его “идеалов”. Годы спустя
будетляне — чтобы оправдать свою личную эволюцию — наперебой уверяли, что сохранили верность “духу” футуризма; удивительным образом Кручёных в 1919 г. обвинил Хлебникова в измене за повторение приёмов
словотворчества, бытовавших у “футуристов” в 1910 г. (см.: Азеф-Иуда — Хлебников — Выпыт // 41° — Ежедневная газета №1, где Кручёных издевается над „сюсюковлением” Хлебникова). На время написания статьи Кручёных (вкупе с И. Зданевичем и И. Терентьевым) был одним из самых непреклонных заумников, но и сам вполне мог подпасть под обвинение в преклонении перед прошлым: его кавказские трансментальные опусы фактически повторяют „дыр, бул, щыл” «Помады»...).
 56
56 Русскому слову
самовитость вполне соответствует французское ipséité. К сожалению, во французском языке нет производного прилагательного, которое могло бы передать всю смысловую нагрузку неологизма
самовитое слово (
самовитый образовано от ‘сам’ по образцу прилагательных домовитый, сановитый, родовитый и т.д., которые образовались соответственно от существительных дом, сан, род), поэтому мы вынуждены прибегнуть к терминам автономный, автаркийский, автотелический, которые являются греческими кальками неологизма
самовитый.
 57
57 В силу тенденции к изгнанию темы язык “футуристов” (особенно Хлебникова) может показаться “абстрактным” (“объект” помещается вовнутрь аутопоэтических процессов языка). См. наблюдения Маринетти, цитируемые Харджиевым (указ. соч., с. 417).
 58
58 Несмотря на внешнее сходство — архаизмы в поэтическом языке —
ведава Хлебникова, какой она сложилась в “добудетлянские” годы, ничем не обязана Вяч. Иванову, для которого славянизмы и архаизмы означали нечто совершенно другое, чем у Хлебникова, будучи составной частью иной
ведавы.
 59
59 Критика той поры с одним и тем же неодобрением встретила “футуристов” и акмеистов. См. Первый журнал..., цит. соч., с. 113.
 60
60 Одно и то же намерение преодолеть символизм посредством новой формы делает акмеизм опаснейшим соперником “футуризма”. Утверждая главенство памяти-воспоминания и плодотворность традиции, а классицизм полагая нормативной формой революционной поэзии („Классическая поэзия — поэзия революции”:
О. Мандельштам. Слово и культура // Собр. соч., указ. соч., т. II, с. 269), благодаря новаторскому подходу к
φύσις /
τέχνη („природа подражает искусству, а не наоборот”), приведшему к примату поэтического ремесла над философскими спекуляциями (вызвавшим отторжение символизма), акмеизм как поэтическая система — двойник “футуризма”. Домыслы о борьбе между “консервативными” акмеистами и “передовыми” “футуристами” поддерживались самими “футуристами” (по понятным причинам) и “формальной” критикой (см.:
Б. Эйхенбаум. Анна Ахматова — Опыт анализа // О поэзии.
Л. 1969. С.76 и 81–83). Эта оппозиция ложна вследствие привлечения неадекватной политической лексики; тем более она пагубна поэтически, поскольку предполагает, что изобретение новой поэтической формы — заслуга одних “футуристов”, акмеисты, дескать, “твердят зады” классики. Акмеисты не только переопределили классицизм как форму поэтического изложения (и это — подлинная революция в понимании поэтической сущности классицизма), но с той же отчётливостью, что и
будетляне — хотя и по-другому — обозначали автономию семиотического материала.
 61
61 Верховенство славянства в языке идёт рука об руку с идеологическим славянофильством, но не тождественно ему. Повышенное внимание к чистоте языка составляет
первое отношение Хлебникова к слову (Свояси //
СП II: 9): таким образом, налицо исключительно поэтический принцип в техническом смысле этого слова. Такое
отношение к слову тесно смыкается с национализмом, который не только ратует за очищение языка от иностранных привнесений, но и славит исконные ценности (
СП II: 15):
Будьте грозны, как Остраница,
Платов и Бакланов,
Полно вам кланяться
Роже басурманов.
См. также высказывание Бурлюка через двадцать лет после 1913 года, показывающие весьма ревностное отношение к русским ценностям (Энтелехия, с. 8):
‹...› Надо поддерживать своё, a не чужое. Русские всегда верили более “варягам”... Пора бросить!...
Как полагает автор статьи «Эго-футурист о футуристах» (Эго-футуристы — Всегдай.
СПб. 1913, с. 3), никакого противоречия между варварской
заумью футуристов (тех, кого мы называем “футуристами”) и лозунгом „Мы боремся с басурманскими языками” нет. „Басурманские языки” — это иностранные языки, на которых якобы говорят “культурные” классы; языковое “варварство” противопоставляет изыскам “французских” поэтов (символистов) национальный, самобытный, родной элемент русского языка.
 62
62 Любой писатель может служить образцом для нескольких школ одновременно. Ни Уитмен, ни Рабле, ни Вийон сами по себе не принадлежат к акмеизму или к “футуризму”. Решающим оказывается прочтение той или иной школой, момент превращения в
разумнядь. Эго-футуристы, например, открыто называют Уитмена образцом (
И. Игнатьев. Эго-футуризм. 1913. // Манифесты ипрограммы..., указ. соч., с. 40):
Несомненно, что русский (эго-) футуризм (как слово и творчество) — плод западных веяний.
Но, вопреки принятому мнению, влияние итало-французских футуристов на эго-северянистов невелико. Зато заметны их симпатии в Америке.
‹...› Не знаю скверных, не знаю подлых:
все люди правы. ‹...›
‹...› Я презираю, благословляя. ‹...›
Это — Северянин.
Сравните:
— ‹...› Корни всего, что растёт, я рад и готов поливать.
Это из У. Уитмана, канонизованного г. К. Чуковским в первого футуриста и которого, как и Э. Верхарна, итало-французские футуристы считают лишь предтечей.
В прозе эго-северянистов ‹...› влияние Уитмана более чем неоспоримо.
Но Уитмен — образец и для акмеистов, ценивших в нём эпический акт поименования (О. Мандельштам. О природе слова // Cобр. соч., указ. соч. , т. II, с. 293). Статья Мандельштама датирована 1922 годом, но остается актуальной как образец иного прочтения, параллелельного Чуковскому и эго-футуристам.
Наконец, на самом абстрактном уровне поэтического самовыражения поэзия Уитмена была образцом и для Хлебникова. Цель “барда Америки” — создание эпоса Нового Света (см.: Walt Whitman. Paris: Seghers. P. 95, 100, 202). Хлебников в «О расширении пределов русской словесности» (НП: 341–342) ставил ту же задачу перед перед певцом русского мира. Но методологическая ошибка К. Чуковского состоит в том, что сходством намерений всё и кончается. И.В. Игнатьев ни на йоту не преувеличивает: Чуковский действительно провозгласил Уитмена первым футуристом, см. лекции по футуризму, статью «Эго-футуристы и кубо-футуристы» (Шиповник, кн. 22. 1914 г., перепечатано в: «Лица и маски». СПб. 1914 и «Уот Уитмэн — Поэзия грядущей демократии» (М.-Пг. 1923). Метод К. Чуковского, особый тип сравнительной критики, заслуживает подробного анализа; в этой заметке мы ограничимся кратким пояснением способа сведéния футуризма к “уитманизму”, лишний раз показывающего изъяны концепции “влияния” применительно к литературе.
В книге «Уот Уитмэн — Поэзия грядущей демократии» на с. 161–162 Чуковский заявляет, что У. Уитмен имел влияние на футуристов — эго- и кубо-, в подтверждение чего приводит стихотворение Хлебникова «Зверинец» (Садок судей I, 1910, НП: 285–288). Архитектура этого стихотворения в прозе невзыскательна: за восклицанием О сад! сад! следует череда пояснений: где железо ‹...› где орлы ‹...› где верблюд ‹...› где олень ‹...› где наряды. Эстетический эффект достигается множественностью таких оборотов (числом пятьдесят три!). Чуковский усматривает в «Зверинце» (первый вариант известен по письму Хлебникова Вяч. Иванову от 10 июня 1909 г.; см.: НП: 355–357) прямое влияние гл. 33-й «Песни о себе» Уитмена (из сборника «Листья травы»). Зриязь её такова: догадка („Пространство и Время!”) сопровождается осознанием своей правоты („Теперь-то я вижу, что я не ошибся...”). Далее следует пророческое видение: „Мои цепи и балласты спадают с меня, локтями я упираюсь в морские пучины, / Я обнимаю горы, я ладонями покрываю всю сушу, / Я иду, и всё, что вижу, со мною”. Видение (поэт во всём и везде, он соразмерен вселенной) разворачивается в грандиозном каскаде уподоблений, где “Я” причастно множеству подробностей окружающего мира; мы приводим малую их часть, чтобы уловить структуру этого пространного ораторского периода, основанного на ритме непрерывно следующих друг за другом “кадров” яви, сменяемых “высоким бредом”: „У городских четырёхугольных домов, в бревенчатых срубах, ‹...› / Вдоль дорог, изборождённых колеями, ‹...› / Пропалывая лук на гряде ‹...› / Выходя на разведку, ‹...› / Проваливаясь по щиколотку в горячем песке, таща бечевой мою лодку вниз по течению обмелевшей реки, / Где пантера снует над головою по сучьям, где охотника бешено бодает олень, / Где гремучая змея на скале нежит под солнцем свое вялое длинное тело, где выдра глотает рыбу, / Где аллигатор спит у реки, весь в затверделых прыщах, / Где рыщет чёрный медведь в поисках корней или меда, где бобр бьёт по болоту веслообразным хвостом, / Над растущим сахаром, ‹...› / Над островерхой фермой, ‹...› / Над западным персимоном, ‹...› / Над белой и бурой гречихой ‹...› / Над тёмною зеленью ржи, ‹...› / Взбираясь на горные кручи, ‹...› / Шагая по тропинке, ‹...› / Где ‹...› / Где ‹...› / Где ‹...› / Где ‹...› / Радуясь встрече с некрасивою женщиной ‹...› / Радуясь ‹...› / Довольный ‹...› / Довольный ‹...› / Глядя все утро в витрины Бродвея, ‹...› / Отплывая в каждую гавань ‹...› / Торопливо шагая среди шумной толпы, ‹...› / Блуждая по старым холмам Иудеи ‹...› / Пролетая в мировой пустоте, ‹...› / Нося с собою месяц-младенца, который во чреве несёт свою полнолунную мать, ‹...› / Бушуя, любя и радуясь, ‹...› / Я глотаю и дух и материю, ‹...› / День и ночь блуждая такими тропами, / Я посещаю сады планет ‹...› / Я глотаю и дух и материю, ‹...› / Я летаю такими полётами текущей и глотающей души, / До той глубины, где проходит мой путь, никакой лот не достанет. ‹...› / Я бросаю якорь с моего корабля ‹...› / С острой рогатиной я иду на охоту за тюленем и белым медведем, ‹...› / Я вольный стрелок ‹...› / Я понимаю широкие сердца героев, ‹...› / Я это глотаю, мне это по вкусу, мне нравится это, ‹...› / Этот человек — я, и его чувства — мои. / Я — этот загнанный раб, ‹...› / Я раздавленный пожарный, ‹...› / И вот я лежу на свежем воздухе, ночью, в кровавой рубахе, ‹...› / Я сам в этом деле, я вижу и слышу всё ‹...› ”
Но что общего у поэмы У. Уитмена со «Зверинцем» Хлебникова? В цитированной работе (с. 161) Чуковский пишет:
Фразу же Виктора Хлебникова, что взгляд зверя значит больше, чем груды прочитанных книг, Уот Уитмэн повторял неоднократно.
Однако не сходство между несколькими ограниченными и случайными выражениями даёт нам право говорить о “влиянии”.
Слáда двух произведений несопоставима: уитменовский мощный накат подробностей высвечивает соэкстенсивность “Я” и Вселенной (первооснова уитменовской
ведавы); у Хлебникова “дурная бесконечность” сравнений показывает
сад анти-Эдемом, а животных, умевших некогда
по-разному видеть божество (лик) — узниками. Хлебников в письме к В. Иванову, прилагаемом к стихотворению (в первом его варианте), раскрывает его замысел (
НП: 356):
Что я делал эти несколько дней? Я был в Зоолог. саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с Исламом. После короткого размышления я пришёл к формуле, что виды — дети вер, и что веры — младенческие виды. Один и тот же камень разбил на две струи человечество, дав буддизм и Ислам, и непрерывный стержень животного бытия, родив тигра и ладью пустыни.
Я в спокойном лице верблюда читал развёрнутую буддийскую книгу. На лице тигра какие-то резы гласили закон Магомета. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Волнующие нас веры суть лишь более бледный отпечаток древле действовавших сил, создавших некогда виды. Вот моя несколько величественная точка зрения. Я думаю, к ней может присоединиться только тот, кто совершал восхождения на гору и её вершину.
Точка зрения поистине головокружительной высоты, и ее поэтическое воплощение выказывает “подобающее благочестие” мыслительной деятельности и поэтической практики Хлебникова в то время, когда он был вхож в “символистские” круги столицы. Здесь мы ещё весьма далеки от “футуризма” и
самовитого слова, но несравненно дальше от “уитманизма”, якобы предтечи
будетлянства. Несомненно, Чуковскому было бы разумнее сначала определить, что он понимает под словом футуризм.
Опровергать все выводы Чуковского в наши планы не входит. Многие его наблюдения верны, а интуиция всегда на высоте. Но редуктивный сравнительный метод, который он использует, ошибочен. Он ничего не доказывает. Зато поясняет другое: писатель может заимствовать готовые
думаки другого писателя; но таковые, будучи использованы в новой
слáде, приобретают совершенно иной, чем в первоисточнике, смысл. У Маяковского (Без белых флагов // Полн. собр. соч., указ. соч., т.1, с. 324) на сей счёт сказано:
Это-то творчество языка для завтрашних людей — наше новое, нас оправдывающее.
Нет нужды, если даже в этой задаче мы сблизимся с какой-нибудь мыслью старых. Ведь когда египтяне или греки гладили чёрных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искру, но не им возносим мы песню славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев.
У футуристов то здесь, то там проглядывают
думаки предшественников; но творцы новой формы вкладывают в них новый смысл.
 63
63 См.:
Н. Гумилёв. Заветы символизма и акмеизма // Аполлон, 1913, №1 (окончание статьи).
 64
64 “Поэтический кубизм” подразумевает употребление слов, произвольно разъятых и не менее произвольно пересобранных в соответствии с приёмами живописи кубистов (см.: Манифесты и программы..., указ. соч., с. 57). Слово кубофутуризм неспроста синоним
будетлянства (гилейского “футуризма”). Один и тот же понятийный каркас у разных видов искусства — факт, но принадлежит он такому уровню абстракции, что его смысл трудно выразить словами. Именно у кубистов “футуристы” заимствовали представление о
самовитости художественного построения (см.:
Н. Харджиев. Турне кубо-футуристов 1913–1914 годов. С. 417–418), но полностью переосмыслили таковое применительно к специфике художественной формы, которая использует язык как “материал”: поэзии.
 65
65 Понимаемая таким образом
заумь есть язык грубого лиризма, примитивного в прямом смысле этого слова: „Кажется, что эти бессмысленные звуки — начальная форма лирического искусства, практикуемого человеком” (
C. Maurice Bowra. Chant et poésie des peuples primitifs.
Paris: Payot. 1966. Р. 67).
 66
66 См.: Манифесты и программы..., цит. соч., с. 52.
 67
67 В этом вновь проявляется узаконенное “символистами” недоверие к высказыванию, завещанное Тютчевым в «Silentium». Поэт боится передать свои мысли, свои “чувства” косной “материи”, “вещи” (словам). Слово, уже имеющее значение, всегда говорит слишком много. Дабы избавиться от риторики, необходима
заумь (или молчание). Об этом см. гл. «Хлебников и язык».
 68
68 Нелицеприятное суждение Мандельштама относительно “искусства” Кручёных, тем не менее, отдаёт должное пафосу его отношения к искусству (в Собр. соч., указ. соч., т. II, с. 371):
Что же происходит в лагере чистого изобретенья? Здесь, если откинуть совершенно несостоятельного и невразумительного Кручёных, и вовсе не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда (несмотря на это, у Кручёных, безусловно, патетическое и напряжённое отношение к поэзии, что делает его интересным, как личность)...
 69 Б. Пастернак
69 Б. Пастернак. Кручёных // Собр. соч., цит. соч., т. III, с. 156.
 70
70 См.:
СП V: 247–250.
 71
71 Слово как такое // Манифесты и программы..., цит. соч., с. 59; и письмо к Кручёных от 31 августа 1913 г., (
НП: 367).
 72
72 См. восторженное предисловие В. Каменского к произведениям Хлебникова, воспроизведенное автором в книге «Путь энтузиаста» (
Пермь. 1968. С. 164–165). Здесь Каменский беспечно смешивает
самовитое слово с неологией (
словотворчеством) и забывает упомянуть об весьма специфическом “трансментальном” дискурсе поэта.
 73
73 См.:
R. Jakobson. Sur la prose du poète Pasternak // Questions de poétique, op. cit., p. 131:
В той вселенной знаков, какова она у Хлебникова, всё настолько реально, что каждый знак, каждое созданное слово кажется ему вполне автономной реальностью; поэтому совершенно излишне ставить вопрос об отсылке к какому-либо внешнему объекту или даже о существовании такого объекта. Для Хлебникова, как и для юной героини Пастернака, имя имеет полный и наивно-успокаивающий смысл.
 74
74 Коренное противоречие “авангардного”, если можно так выразиться, искусства состоит в том, чтобы “узаконить” себя ценой предательства себя же, благодаря чему всякий “авангард” скатывается в “арьергард” искусства.
Будетлянство, как новаторская “школа”, было обречено на победу, что и разрушило его как школу именно потому, что целью было движение, и только (см.:
Б. Пастернак. Охранная грамота. Цит. соч., т. II, с. 268–269):
‹...› Как движение, новаторство отличалось видимым единодушием. Но как движение всех времён, это было единодушие лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движения было остаться навеки движением, то есть любопытным случаем механического перемещения шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значения. Движение называлось футуризмом.
Впоследствии Хлебников — как всегда, ненароком — стал “гуру” группы «Лирень» (Петников, Асеев), увлечённой порождающей способностью
самовитого славянского слова (в этом Асеев и Петников сохранили от хлебниковского
будетлянства лишь его
первое отношение к слову (см.:
Н. Асеев. Стихотворения..., указ. соч., с. 9–10).
 75
75 „Печальное свойство всего нового заключается в том, что оно со временем делается старым.” (
Н. Радлов. О футуризме.
Пг. 1923. С. 57).
воспроизведено на www.ka2.ru 76
76 Таково же было и программное требование акмеизма (см.: Аполлон, №1, 1913, с 46–50).
 77
77 Кручёных и И. Зданевич представляют радикальное крыло “футуризма” в области языка. Расхождение во взглядах между заумниками (сторонниками “языка”, полностью растворённого в многозначной или асемической звуковой материи) и Хлебниковым (изобретателем языка, где аутосемия предохраняет от скатывания в бессмыслицу) было слишком глубоким, чтобы устремиться на поиски синтеза этих двух взглядов на поэтическую форму языка. И. Зданевич, как и К. Малевич, критиковал Хлебникова за чрезмерную зависимость от внешнего мира, от “вещей” (см.:
Н. Харджиев. Цит. соч., стр. 373).
 78
78 Ю. Тынянов поднимает деликатную проблему традиционализма и новаторства в творчестве Хлебникова. Поверхностное противопоставление Хлебникова Гумилёву, Ахматовой, Мандельштаму оборачивается вопросом вопросов: как найти форму, способную преодолеть бренность? (см.:
Ю. Тынянов Промежуток // Архаисты и новаторы. Цит. соч., с. 559).
 79
79 О двойственной природе хлебниковской
зауми см. главу «Хлебников и язык».
 80
80 Можно добавить: и математическую формулу времени (см. гл. «Хлебников и время»). Нельзя упускать из виду, что Хлебников был озабочен, прежде всего, разгадыванием смысла истории; поэтические изыскания всецело подчинены этой цели. Разрабатывая способную “овневременить” произведение речевую форму, он прибегает к своей неопифагорейской арифметической
ведаве, где вещи (события) существуют лишь посредством “подражания” числам. По мере развития “хронометрических” изысканий изъяснение словами перетекает в количественные отношения (
СП II: 10):
В «Детях Выдры» скрыта разнообразная работа над величинами — игра количеств за сумраком качеств.
 81
81 Мы намеренно используем термин футурист (без кавычек), а не
будетлянин, потому что “скорость” дискурса — особенность “современного” искусства, на которую претендуют все постсимволистские школы, обычно группируемые под термином футуризм (эго-футуризм,
будетлянство, Центрифуга, Мезонин поэзии, Имажинизм и др.).
 82
82 См., среди многих других свидетельств, журналистский отчёт о лекции Маяковского в городе Николаевске во время большого кубофутуристского турне (см.:
Н. Харджиев. Турне кубо-футуристов 1913–1914 годов. С. 413.
 83
83 Будущее как
δύνᾰμις , как семантическая потенциальность произведения, не является временнóй категорией. Это модус “реальности”, то есть способ построения смысла посредством семиотического аппарата, которым является произведение. Ни настоящее и ни будущее, потенциальность произведения — это его неопределённая тенденция к завершению без реального финала, в каком-то вероятном смысле. Сложность произведения как смысловой потенциальности всегда приводит к тому, что оно определяется апофатически или оксюморонами („дурная бесконечность”, „реальность произведения есть его потенциальность” и т.д.). Приходится признать, что даже сегодня, несмотря на все семиологические исследования, самое загадочное в произведении искусства — это его способность порождать смысл...
Знаменитое аристотелево различие между силой и действием («Метафизика», Ф), которое одно и должно было лечь в основу серьёзного философского осмысления футуризма, полностью дискредитировано популяризаторством Д. Бурлюка в его псевдофилософской брошюре «Энтелехизм». Тем не менее, интуиция Бурлюка не подвела его и здесь: именно посредством аристотелевой энтелехии поэтика может надеяться построить в дальнейшем семантическую модель произведения, столь же плодотворную, как и вероятностная модель (кажется, подтверждающая прозрение греческого философа) современной физики (см.:
W. Heisenberg. Physique et philosophie, op. cit., p. 240–248).
 84
84 См.:
О. Мандельштам. О природе слова // Собр. соч., цит. соч., т. II, с. 289.
 85
85 Пастернак во времена «Центрифуги» изобличил миф о соревновании в скорости между поэзией и “жизнью” в статье «Чёрный бокал», опубликованной во втором сборнике «Центрифуги» (парафутуристская группа, к которой он тогда примыкал). Сущность “футуризма” он определяет как попытку захвата действительности лирикой (
Б. Пастернак. Собр. соч., т. III, с. 149–150):
‹...› Преобразование временного в вечное при посредстве лимитационного мгновения — вот истинный смысл футуристических аббревиатур.
‹...› Итак, во-первых, мышцы футуристических сокращений никак не сродни мускулатуре современной действительности. Нервическая, на взгляд, техника футуризма говорит скорее о нервности покушения на действительность, совершаемого Лирикой. Вечность, быть может, — опаснейший из мятежников. Её действия порывисты, настойчивы, молниеносны.
Искусство экстемпорально (там же, с. 150), внутренний ритм его несоизмерим с неразличимым движением жизни. Ибо то, что мы называем “жизнью” (в полемическом противопоставлении искусству), само по себе лишено ритма: ритм — свойство поэзии, а не природы. В предыдущей статье «Вассерманова реакция», опубликованной в 1914 году в «Руконоге», первом сборнике группы «Центрифуга», Пастернак уже отличал „истинный футуризм” (по своей “лирической” привычке используя собственную терминологию) от ложного (на примере поэзии Шершеневича с её механическим использованием приёма смежности в построении метафор). К первой категории он отнёс искусство Хлебникова (см.: Манифесты и программы.., указ. соч., с. 113):
Истинный футуризм существует. Мы назовём Хлебникова, с некоторыми оговорками Маяковского, только отчасти — Большакова, и поэтов из группы «Петербургского Глашатая».
 86
86 См.:
Ю.М. Лотман. Анализ поэтического текста.
Л. 1972. С. 45–46.
 87 ῥυθμίζομένον
87 ῥυθμίζομένον — это не только “звуковой материал” данного языка (см.:
В. Жирмунский. Теория стиха.
Л. 1975. С. 16); он вмешивается в “семантический материал”, тем самым, превращая ритм в нечто иное, чем простая периодичность ударов. Прекрасное определение диалектики, воистину диалога между ритмом и “звуковым смыслом” языка находим в работе:
Е. Эткинд. Материя стиха.
Paris: Institut d’études slaves, 1978, p. 156–158:
Метроном, отбивающий регулярные ударения, отделённые друг от друга равновеликими паузами, и живущий в сознании читателя стихов, — такова основа поэтического метра. Этот метроном абстрактен, он ни в какой степени не зависит от значений или звучаний слов, — он образует неподвижную решётку, статистическую композиционную схему стиха, которая и реальна — в интуитивном задании, в отвлечённом ощущении чистой звуковой формы, — и, в то же время, нереальна, ибо не существует. Реальность метра — ритм. Но и ритм сам по себе не существует, — его реальность в словах, обладающих звуковой материей и смыслом. Значит, метр осуществляется в ритме, ритм же — в словах. Ритм относится к метру, как слова — к ритму. Но и слова в стихе не существуют вне метрической сетки, положенной в основу их соединений. Возникает диалектическая взаимосвязь реального и ирреального, отвлечённого и конкретного. Метр и ритм, ритм и слово соотносятся как содержание и форма, как смысл и звук. Сознание читателя воспринимает ритмическое многообразие стихотворения как результат столкновения противоположных начал: неподвижного, обязательного, механического с одной стороны, — динамичного, свободного, органически живого с другой. Метрическая схема дана как начало надиндивидуальное, безусловно закономерное; ритмическое осуществление вносит стихию индивидуального открытия, случайно-хаотического, неупорядоченного. Метр описать легко, — для любого классического стихотворения достаточно привести схему чередования ударных и неударных слогов первого стиха или первой строфы. Ритм описать труднее — нужно последовательно охарактеризовать структуру одного стиха за другим, от начала стихотворения до самого конца. Закон метра выражается простой формулой; закономерность ритмического движения вещи каждый раз определяется на основании различных факторов, и каждый раз она своеобразна и непредсказуема. ‹...›
Итак: неподвижное и динамичное, механическое и органически живое, надличное и индивидуальное — вот те противоположности, которые вступают в конфликт на рассматриваемом уровне поэтической формы.
Впрочем, это и так, и не так. Ритмическое движение стиха стихийно и случайно лишь по сравнению с метрической его основой, легко поддающейся формализации. Метр выразим в категориях количественных, и лишь в этом отношении он кажется более закономерным, чем ритм, который подчинён закономерности более высокого порядка. Эта закономерность неопределима вне факторов, выходящих за пределы механических чередований: её можно установить, лишь привлекая к рассмотрению все элементы поэтической семантики и фонетики, ибо ритм осуществляется в словах — звучащих и значимых.
 88 Valéry
88 Valéry. Cahiers I. La Pléiade, p. 1278: „Ритм. Очень сложно анализировать это понятие” Там же, с. 1281: „Исследования ритма. Мне непонятно слово ‘ритм’. Я никогда им не пользуюсь”. Тем не менее, Валери всё же удалось близко подойти к этому понятию, действительно трудному, поскольку оно лежит в основе самой возможности всякого понятия. „(Опыт — невозможность мыслить ритмом. Остановитесь и попытайтесь представить себе ритм. Невозможно” (Cahiers I, р. 1340). Ритм — это тайная гармония звуковых и смысловых конфигураций, гармония, порождающая поэтическую идею. (Cahiers II, р. 1068–1070). См. также:
Б. Пастернак. Собр. соч., цит. соч., т. II, с. 25:
‹...› музыка слова явление не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и её звучания.
 89 Ю. Тынянов
89 Ю. Тынянов. Промежуток // Архаисты и новаторы, указ. цит., с. 561.
 90
90 Ка (
СП IV: 47–69) и Скуфья скифа (
СП IV: 76–86).
 91
91 Сотрудничество с имажинистами может побудить к употреблению слова ‘имажинизм’ для конкретизации новых приёмов поэтического
всутствия, освоенных Хлебниковым в послереволюционный период. («Ночь в окопе» опубликована в издательстве «Имажинисты»; «Москвы колымага», «Город будущего», «Горные чары» — в сборнике имажинистов «Харчевня зорь»). В. Марков (
V. Markov. The longer poems of Velimir Khlebnikov.
Berkeley – Los Angeles: University of California Press. 1962) без колебаний усматривает в этой смене стиля прямое влияние имажинистов (р. 126, 152, 196). Однако он отмечает, что Хлебников превосходит в своих поэтических достижениях самих имажинистов и что “образ”, принцип его новой композиционной техники, заимствует больше из техники музыкальной композиции, чем из теоретических статей имажинистов, весьма противоречивых (р. 193 и 196).
 92
92 Н. Степанов справедливо полагает, что “имажинизм” Хлебникова, разворачиваясь в послереволюционный период, выходит за рамки канонов имажинистской школы, создавая свои правила, свой кодекс законов, несводимый к определённой группе или литературному клану (
Н. Степанов. Велимир Хлебников. Цит. соч., с. 192 (1-я цитата) и с. 264 (2-я цитата):
1) ‹...› эта кровоточащая боль, глубоко пережитое ощущение современности и делает образы Хлебникова не эксцентричным каталогом метафор, как это часто было у поэтов-имажинистов, и заставляет воспринимать каждый образ в его реальном значении.
2) ‹...› В отличие от имажинистов, Хлебников стремился, однако, не к парадоксальному алогизму образа, не к субъективному “эксцентризму” метафоры, а к уточнению понятия, к образу, оправданному всем семантическим строем стихотворения, вещными, зримыми, глубоко пережитыми автором ассоциациями.
Мы не подвергаем сомнению правомерность понятия образа, отстаиваемое имажинистами (в частности, С. Есениным в его теоретической статье «Ключи Марии»). Однако анализ хлебниковского “имажинизма” обнаруживает невизуальную природу образа; это замкнутая на саму себя языковая
слáда, порождённая ритмом, движущейся
свиязью значения, звука. Анализ И. Грузинова немногочисленных образцов поэзии Хлебникова ясно показывает переход поэта к абстрактному, “музыкальному”
всутствию:
В своих ранних словотворческих опытах В. Хлебников брал за основу корень определённого слова и совершенно произвольно приставлял к корню слова один или несколько слогов, создавая таким путём некое подобие новых слов.
В качестве иллюстрации отрывок из стихотворения В. Хлебникова:
Помирал морень, моримый морицей,
Верен в веримое верицы.
Умирал в морильях морень,
Верен в вероча верни.
Обмирал, морея, морень,
Верен веритвам вераны,
Приобмер моряжески морень,
Верен верови верязя.
В последнее время В. Хлебников строит фразу, исходя из музыкальной окраски одного слова данной фразы, принятого произвольно за центральное.
Привожу несколько строк из стихотворения «Горные чары»:
Я вижу широкую вежу
И нежу собою и нижу.
Падун улетает по дань,
И вы точно ветка весны,
Летя по утиной реке паутиной,
Ночная усадьба судьбы.
Почему за словом усадьба следует слово судьба? Почему за выражением по утиной реке следует слово паутиной? Все эти сочетания слов возникли как простые музыкальные ассоциации.
И. Грузинов. Имажинизма основное. М. 1921. С. 14.
Анализ “овременения” творческого образа см. также:
J. Garelli. La Gravitation poétique.
Paris: Mercure de France. 1966. Р. 135–213: «Imagination poétique et imagination transcendantale».
 93
93 Этот абстрактный характер подкрепляется классической, “державинской” условностью осеннего декора.
 94 СП
94 СП I: 145.
 95
95 Там же, с. 146–147. Такой же полёт человечества к утопии видим и в «Ладомире» (
СП I: 186):
Лети, созвездье человечье,
Всё дальше, далее в простор.
 96
96 Там же, с. 147.
 97
97 См.:
М. Baxtin. L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance.
Paris: Gallimard. 1970. Р. 19–20.
 98 СП
98 СП I: 147–149.
 99
99 Там же, с. 149–150.
 100
100 Там же, с. 150–151.
 101
101 Там же, с. 151–152.
 102
102 Там же, с. 152–153.
 103
103 Время представлено одной и той же рифмованной метафорой и в «Синих оковах», и в «Поэте»:
в «Поэте»:
Как каменной липой на темени,
И чёрной доверчивой мордой
Все дрожат, дорожа и пылинкою времени
— в «Синих оковах»:
Искала отдыха, у темени
Ручей бежал земного времени.
 104
104 Там же, с. 153–153.
 105
105 Там же, с. 154.
 106
106 См.:
V. Markov. The longer poems of Velimir Khlebnikov.
Berkeley – Los Angeles: University of California Press. 1962. Р. 131–132. О письме, упомянутом В. Марковым, говорится (
СП V: 290):
‹...› В письме же она (Вера, сестра В. Хлебникова) пишет про русалочку, которая я лезла на дуб и оборвалась, упав на землю.
К внушительному массиву аллюзий или упоминаний о славянской нимфе в творчестве Хлебникова, несомненно, было бы полезно добавить записные книжки 1915 года (СП IV: 319):
Любо ведать себя женихом русалочьим и знать, что это знают и люди и, плавая, знать над подбородком ласковый локоть русалки, любовно припавшей к тебе своей ‹щекой› ‹разматывая› по воде и своим и твоим плечам ласково холодные свои волосы. Любо выйти к ‹иным› морским людям и долго ‹смотреть› на них, не понимая их печей тела.
Пустеет берег, на обед иду в мой отдых. Я уже очень много забыл, но Позаревский уже сидел и возился с песиком. Почему меня сразу потянуло к нему? Потому ли, что этот моряк русской службы — потомок Полуботка, и мой дедушка... Может быть, предки просто поздоровались нами, как перчатками. Бывает, что перчатки чувствуют ‹живое› влечение друг к другу, когда мы, не снимая с рук, здороваемся ими.
Гонимый морем, я бежал по камням, и я снял обувь, и потупя глаза, прошел мимо храма двух.
Это была прекрасная любовь. Они молчаливо сидели у костра своей любви, у рыбацкой лодки, где плески моря, и молча смотрели его пламя, похожие, как дикари сидящие у костра.
Я помню его подбородок, большой белый лоб. А кто она. Тёмные вольные брови, худенькое личико. Что ещё? Чёрные глаза, эта дикая волнующая рот усмешка черкешенки, украинской черкешенки поступь.
Она ухаживала за ‹...› я сидел как очарованный, молчал, и — что всего глупее — ел, ‹...› с ненавистью и враждой.
Три раза встречал на берегу.
Я морской жених, любим ‹русалками› Чёрного, Каспийского и Балтийского морей, знаю их бешено-сладкие поцелуи, и летел закружившись и закрыв глаза по всё более и более ‹коротким кругам›. Что-то дикое, нежное, прекрасное ‹явилось› на её губах ‹...›
Её отец суровый моряк ‹...›
И эта ночная истома, ночные деревья над серебряными ручейками, пугала певучего сердца, заборы и плетни, рассказ рыбака художника — до свиданья, до свиданья!
Несомненно, Русалка у Хлебникова — мифический комплекс, в котором связаны представления о России, женщине, (языческой) вере и поэзии (см.: Синие оковы, СП I: 293):
Не в этом ли, о песнь, бег твой?
Как та дуброва оживлена,
Сама собой удивлена,
Сама собой восхищена,
Когда в ней плещется русалка!
И в тусклом звёздном ситце,
Усталая носиться, —
Так оживляет храмы галка!
 107 СП
107 СП I: 154–158.
 108
108 Там же, с. 159.
 109
109 См.: Ночной обыск,
СП I: 252–273; Прачка,
СП III: 232–260; Настоящее,
СП III: 261–278.
 110 СП
110 СП III: 308.
 111
111 Этим понятием мы объединяем поэзию и математику, два компонента хлебниковской
ведавы (
ποίησις и
μάθησις ).
 112
112 См.: Поединок с Хаммурапи (
SPM III: 460–461).
 113
113 Синие оковы (
СП I: 299).
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 208–234; 381–402.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию.
Выборочный перевод иноземных заимствований
на руссейший, по Н.И. Харджиеву, язык:
скандальный → бешено-сладкий
иллюзия → блазýнья | маннь
теорема → бугóиск
традиция → бывáва
ординарность → бытáва
поэтическая система → ведáва
константа → векыня
торговая марка, брэнд → величава
информация → верéль
термин → вéрень
термины → вéрязь
реальность → вéроста
константа → вéроста
доминирующая литературная школа → верхáрня
практика → вещедéя
конструкция → видожизнь
трансцендентность → внéродь
психосоматика → волебрó
ὄντα → воявль
хронономия → временель
традиция → всегдава
универсальность → вселеннáва
мировая гармония → вселеннель
композиция → всутствие
оппортунист → вчерáхарь
анализ → выиск
процесс → вылязень
дискурс → вымолвь
жанр → выпыт
категория → дейёл
радикал | экстремист → дерзáвец
стиль → деюга
синтез → дóлево
геометрия → доломерие
эпоха → дóльза
архаика → древлезём
ансамбль → единéбен
символ → зáзовь
фонема → звучея
форма → зовéль
архитектоника → зодчбá
конфигурация → зриязь
аспект → зрыня
базовая теория → камнепрáвда
абстрактная фигура речи → колослóва
концепция → лýчшадь
культура → людоятие
эксперимент → мнóвие
гармония → многозвугодье
вариация → множáва
материя → можáва
теория-предположение могвá
метод → можбá
статус → можéль
метафора, метафоричность, метафоризация → морóль
антиномия → незь
нейтральность → ничтвá
абстракция → ничтимéя
классификация → нынёж
проекция → озерцáя
поэзия → певáва
модальность → перекóн
литература → письмёж
парадигма → прáвязь
консерватор → прошлéц
проект → продýма
модель → разумнядь
риторика → речёжь
формула → роковыня
автономия → самовизнá
композиционный центр → сердь
структура → слáда
неология → словéль
модуляция → струинá
ситуация → сущёл
типографская продукция → тисьмó
имманентность → тутóба
норматив, стандарт → улоýм
интеллигенция → умнечество
литературная школа → учáрня
иллюзии → хотежи
элемент → частерик
авторитет → чтязь
идея → этотá
был бы невозможен без справочного пособия
В.П. Григорьев. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта.
М.: Наука. 1986 г. С. 124–164. здесь
Окончание 



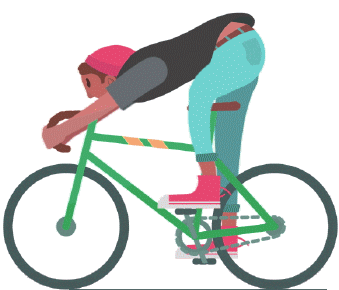
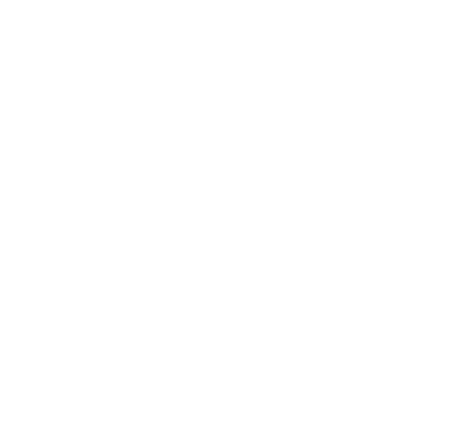 аким образом, уже приблизительно к 1910 году Хлебников противопоставил “символистским” прописям и наставлениям собственное представление о поэтическом искусстве, сделав упор на одной из самых трудных его сторон — зовéли.
аким образом, уже приблизительно к 1910 году Хлебников противопоставил “символистским” прописям и наставлениям собственное представление о поэтическом искусстве, сделав упор на одной из самых трудных его сторон — зовéли.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()