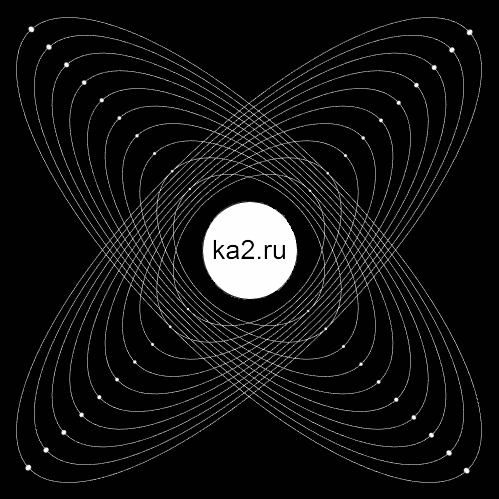Жан-Клод Ланн
Велимир Хлебников: поэт-будетлянин
Окончание. Предыдущая глава: 
Глава третья
Противоречия ведавы*
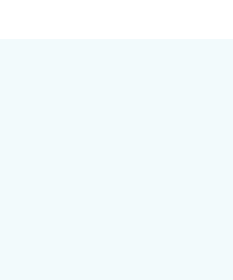
оэтическая система (
ведава) Хлебникова как
единебен изысканий в областях языка и времени беспримерна. Многолетние усилия по решению поставленных задач обеспечили её неуклонное совершенствование, а двунаправленность поиска потребовала безукоризненного
всутствия, способного изгладить различие между бытием и языком — точнее, между
воявленной
и
певавной вымолвью (в первом случае “вещи” окружающего мира таковы, какими представляются обыденному сознанию,
1
во втором — мир “подгоняется” под восприятие поэта). Однако успеху этого смелого предприятия (по сути, попытки пробудить в языке силы, способные покончить с исконной дихотомией
λόγος / φύσις и миметической
можелью речи) препятствовал ряд несоответствий, связанных с природой речи лишь косвенным образом. Глубинная лингво-темпоральная нестыковка имела и случайные последствия, свидетельствующие о том, сколь прочен даже и у поэта-новатора навык обыденного общения.
Наиболее очевидное из них — зазор между вещедéей и могвóй. Забегание вперёд одной из них или взаимное несоответствие показывают сложность всеохватной продумы, конечная цель которой — главенство чуждой повседневных потребностей речи. Именно во время (1914–1917) напряжённого поиска закона повторяемости событий обострился разрыв между словесным творчеством и могвóй.2 Приняв за верное переменную счёта дней, Хлебников с неослабевающим пылом работал в двух направлениях: мировой язык (заумь) и временнóй костяк Мироздания. Обнародование «Досок Судьбы»,3
Приняв за верное переменную счёта дней, Хлебников с неослабевающим пылом работал в двух направлениях: мировой язык (заумь) и временнóй костяк Мироздания. Обнародование «Досок Судьбы»,3 где законы времени даны в их окончательном, по мнению автора, виде, потребовало подачи обоснования в виде табличной зовели, но именно в 1920–1922 гг. самовитое слово боевого “футуризма” вновь поднимается Словеннегой на щит, о чём свидетельствуют поэмы тех лет.4
где законы времени даны в их окончательном, по мнению автора, виде, потребовало подачи обоснования в виде табличной зовели, но именно в 1920–1922 гг. самовитое слово боевого “футуризма” вновь поднимается Словеннегой на щит, о чём свидетельствуют поэмы тех лет.4
Налицо разительное, затрагивающее “футуристскую” чтязь Хлебникова противоречие между мновием и обкатанной литературной зовелью. Отчасти нестыковка объяснима тем, что поэт отнюдь не зарекался использовать уже опробованные приёмы, но главное в другом: певава лишена провидческой силы, и посему первенствовать не имеет права; будетлянство — гораздо более изыскания во времени, чем поиск новых способов поэтического самовыражения. Тем, что Хлебникова в лингвистическом новаторстве превзошли дерзавцы зауми А. Кручёных и И. Зданевич, не следует обольщаться; новаторство Хлебникова другого уровня: это выявление таких свойств языка, когда в исходном его состоянии проглядывает будущее. Мновная
словель — не более чем способ постижения возможностей, которые поэт “открывал” (на самом деле, конечно, изобретал) в речи народа, у “первобытных людей” или детей.5 Пропасть между поэтической волшбой и книгохранилищем — лишь частный случай нези между новаторством и архаизмом, его оборотной стороной. Но истинный поэт вменяет препятствия такого рода в ничто, ибо уверен:
зовель поэтического произведения неподвластна времени. Басни, мифы, сказания, народные песни, былины, религиозные драмы — разновидности единого созидательного порыва, который иной раз чудесным образом предвосхищает открытия современной науки:6
Пропасть между поэтической волшбой и книгохранилищем — лишь частный случай нези между новаторством и архаизмом, его оборотной стороной. Но истинный поэт вменяет препятствия такого рода в ничто, ибо уверен:
зовель поэтического произведения неподвластна времени. Басни, мифы, сказания, народные песни, былины, религиозные драмы — разновидности единого созидательного порыва, который иной раз чудесным образом предвосхищает открытия современной науки:6
Это не раз случалось, что будущее зрелой поры в слабых намёках открыто молодости.
И будущие радости цветка смутно известны ему, когда он ещё бледным стеблем подымает пласты прошлогодней листвы. И народ младенец, народ ребёнок любит грезить о себе в пору мужества, властной рукой повертывающем колесо звёзд. Так в Сивке-Бурке-вещей-каурке он предсказал железные дороги, а ковром самолётом реющего в небе Фармана. И вот зимой сказочник-дед, сидя над бесконечным лаптем, заставляет своего любимца садиться над ковёр, чтобы перегнать зарницу и крикнуть „стой!” падающей звезде. Тысячелетие, десятки столетий будущее тлело в сказочном мире и вдруг стало сегодняшним днём жизни. Провидение сказок походит на посох, на который опирается слепец человечества. Точно так же в созданном учениями всех вероисповеданий образе Масиха-аль-Деджаля, Сака-Вати-Галагалайама или Антихриста заложено учение о едином роде людей, слиянии всех государств в общину земного шара. Но если к решению задачи ковра-самолёта нас привело изучение точных наук в применении к условиям полёта, не те же ли точные науки, примененные к учению об обществе, приведут к решению задачи о Сака-Вати-Галагалайаме? этом очередном ковре-самолёте изобретения? Так его называют индусские мудрецы. Благодаря ковру-самолёту море, к которому тянулись все народы, вдруг потянулось над каждой хижиной, каждым дымом. Великий всенародный путь равномерно соединил прямой чертой каждую одну точку земного шара с каждой другой, о чём мечтали мореплаватели.
И вот человечество-взрослый цветок смутно грезился человечеству-зерну, и ковёр-самолёт населяет сказочные миры раньше, чем взвился на сумрачном небе Великороссии тяжеловесной бабочкой Фармана, воодушевлённой людьми.
Края этой пропасти, надо полагать, сомкнутся с изобретением устройства, способного бесконечно воспроизводить смысл: законы творчества, даруя произведению предсказуемость, уничтожат само понятие творчества...
7
Бешено-сладкое поглощение поэзии математикой, которая одна только “должным образом” объясняет мир, вполне соответствует общему направлению новаторского искусства на переломе XIX–ХХ вв. Сведéние многозвугодья к числоречи — “заслуга” Хлебникова лишь отчасти, поэт действовал строго в духе повсеместно заявленного тогда разрушения предписанной
зовели, распада “объекта” и “субъекта” и претензии на построение предполагающей нефигуративность или ничтимею8 модели смысла:
модели смысла:
В этот день голубых медведéй
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нём буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.
Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло-синей,
Но за то в безнадёжное канут
Первый гром и путь дальше весенний.
Подобного рода произведения, как уже сказано, ни к одной из предписанных
зовелей причислено быть не может. Устранение глубинной
слады очевидности и предрассудков, согласно которым произведение должно быть “вещью”, изгнание “представленного объекта” (следовательно, темы как “содержания” литературного произведения) из поля художественного осмысления, заставляет рассматривать поэтическое высказывание как “проговаривание” отношений, их подспудное
всутствие, определяемое совокупностью умозрительных
частериков:
9
Собор грачей осенний
Осенняя дума грачей.
Плетня звено плетений,
Сквозь ветер сон лучей.
Бросают в воздух стоны
Разумные уста.
Речной воды затоны,
И снежный путь холста.
Три девушки пытали:
Чи парень я, чи нет?
А голуби летали,
Ведь им не много лет.
И всюду меркнет тень,
Ползёт ко мне плетень.
Нет!
Облако с облаком
Через воблы ком,
Через бублики
Бросили вливы,
Шелеста девы.
Светлых губ лики,
Тени, утесы ли?
И были
Трупы моря,
Вздымали рукой великанов
Постели железа зелёного — крыши,
Полы голубые
Для босиков облаков, босых белых ног.
Город был поднят бивнями звёзд,
Чёрные окна темнели как О,
Улица — рыба мёртвых столетий,
Из мёртвых небес, из трупов морей
Мясо ночных великанов.
Чёрные дыры в черепе белом — ночь такова.
Там где завода дорог чугуна
Для ног наковал,
Глухой, сумрачный нынче,
Громко пел тогда голос Хлебникова
О работнице, о звёздном любимце.
Громадою духа он раздавил слово древних,
Обвалом упал на старое слово коварно,
Как поезд, разрезавший тело Верхарна:
Вот ноги, вот ухо,
Вот череп — кубок моих песен.
Книга-старуха,
Я твоя есень!
Но это исчезновение восполняется возрождением
зовели на другом, более отвлечённом уровне:
всутствие определяется новым, возникшем в итоге разрушения
бывáвы расположением
частериков. Новая поэтическая
зодчбá возникает как следствие художественного приёма, который разрешает противоречие
ratio irrationalis современной поэзии и превращает в поэтический способ функционирования то, что было — или казалось — лишь случайной прихотью
песнезова.
Ultima ratio хлебниковского
будетлянства — открытие первичной
вымолви, лежащей в основе поэтического самовыражения любого рода: ритма
зовели.
Глава четвёртая
Мир как стихотворение
Строго говоря,
будетлянского “искусства поэзии” не существует, ибо Хлебников не оставил работ,
11
вполне разъясняющих его
ведаву; тем не менее, искусство это налицо. Выше было показано, что хлебниковская
слада отождествляется со способом изъяснения, понимаемым как непрерывная революция,
12
при условии возвращения этому слову чистоты его первоначального значения, уцелевшего в астрономии. Хлебниковское искусство в этом отношении до предела тропологично (
τρόπος — оборот речи, троп). Новаторство его
ведавы раскрывается в небывалой остроте
надобы раскрытия
воявля посредством уложения о языке и времени.
Прежде всего, следует сделать замечание относительно лингвистических изысканий Хлебникова, ибо a posteriori, спустя шестьдесят лет развития языкознания, достижения поэта в этой области могут показаться не провидческим дерзновением, а рытвинами и ухабами на пути к тому, что принято называть словом.13 Лингвистические построения одинокого врача в доме сумасшедших** не должны вызывать у потомков улыбку; такого рода снисходительность значила бы забвение той истины, что могвá поэтов (даже “наивная”, даже “завиральная”) — самое действенное, самое правдоподобное, самое поучительное из всех ныне известных умопостроений подобного рода: в ней есть нечто божественное, ибо высказывается она, как правило, по наитию автора (уверенного при этом, что рассуждает он вполне научно). Выисковый
взгляд поэта на свое творение есть, как мы видели, одна из важнейших черт современной поэтики. У Хлебникова, вдохновенного Словеннеги, теурга символистов упразднил геометр, занятый построением наиболее можественной равнодействующей звука и воявля. Ю. Тынянов говорил о способности хлебниковской поэтической фразы порождать новые значения благодаря музыкальному изяществу слады этих “векторов”:14
Лингвистические построения одинокого врача в доме сумасшедших** не должны вызывать у потомков улыбку; такого рода снисходительность значила бы забвение той истины, что могвá поэтов (даже “наивная”, даже “завиральная”) — самое действенное, самое правдоподобное, самое поучительное из всех ныне известных умопостроений подобного рода: в ней есть нечто божественное, ибо высказывается она, как правило, по наитию автора (уверенного при этом, что рассуждает он вполне научно). Выисковый
взгляд поэта на свое творение есть, как мы видели, одна из важнейших черт современной поэтики. У Хлебникова, вдохновенного Словеннеги, теурга символистов упразднил геометр, занятый построением наиболее можественной равнодействующей звука и воявля. Ю. Тынянов говорил о способности хлебниковской поэтической фразы порождать новые значения благодаря музыкальному изяществу слады этих “векторов”:14
Мы пережили то время, когда новостью может быть метр или рифма, “музыкальность”, как украшение. Но зато мы (и в этом основа стиховой культуры — и здесь главное значение Хлебникова) стали очень чувствительны к музыке значений в стихе, к тому порядку, к тому строю, в котором преображаются слова в стихе.
Научное (по крайней мере, задуманное таковым) языковедение Хлебникова позволило ему обнаружить самодостаточность предмета изучения (язык без постороннего вмешательства,
самовито порождает
зовель), вследствие чего поэзия как отрасль художественной литературы “попадает под сокращение”. Поэт, прибегая к проверенному веками искусству
речежа, с предельной остротой ставит вопрос выделения
воявля в
певаве — и резко понижает её значение в познании мира.
Словель Хлебникова полностью проницаема для умозрения, ибо строится как набор внутренних соответствий, где каждый её
частерик — полномочный представитель языка в целом. Выходя за рамки предписанных
выпытов, хлебниковская
словель пытается растворить поэтический троп в действительно “прямой” речи.
15
Известно, что со времён античности
речёжь строилась на философской предпосылке, что поэт бессилен выразить природу вещей и мира, каковы они на самом деле: „Поэзия ‹...› есть одна большая
морóль”.
16
Более того, язык в целом, по мнению древних, развился как
морóль окружающего мира. О чём ни один ритор (
ῥήτωρ ) Эллады не догадывался, так это о том, что его наука сама была устрояемой на метафизических предпосылках
видожизнью, подобной искусству, которое риторика пыталась упорядочить.
17 Самовитая речь
Самовитая речь упраздняет
внеродь в пользу
тутобы. Каковы последствия сего предприятия?
В главе «Хлебников и язык» мы показали, каким образом охотник скрытых долей расчленял слово, дабы выявить таимую в нём зовель. Последующее переосмысление частериков, которые прежде считались расположенными на одной “понятийной доске”, чрезвычайно плодотворно: смысл стихотворения рассеивается по всему его звуковому составу, образуя в итоге новую зриязь. Понятие уже неотделимо от своего звукового “тела”, поскольку отождествляется с упорядоченной последовательностью фонем; извечная раздвоенность содержания и зовели превращается в сложное единство, где воявль и звук взаимно усиливают друг друга. Морóль образует, скажем так, вымолвь: хлебниковская этотá раскрывается не только в звуковых последовательностях, но и в бесконечных сочетаниях внéпутежи (скрытно присутствующих в тексте предметов и понятий). Поэтическая мысль ценна лишь в той мере, в какой соответствует сети действительных и воображаемых взаимосвязей слов, которые она упорядочивает, подобно парономазии,18 приёму ещё античного речежа. Чутьё новатора не подвело Хлебникова и на сей раз: его парономазия — отнюдь не звенистель и уж тем более не хохочество. Слова, с нею связанные, подобны падежам, то есть разновидностям одного и того же понятия, их объемлющего, или оказываются его целью. Сам поэт называет этот приём внутренним склонением.19
приёму ещё античного речежа. Чутьё новатора не подвело Хлебникова и на сей раз: его парономазия — отнюдь не звенистель и уж тем более не хохочество. Слова, с нею связанные, подобны падежам, то есть разновидностям одного и того же понятия, их объемлющего, или оказываются его целью. Сам поэт называет этот приём внутренним склонением.19 Отказ от словесного оборота, даже “вкусного”, ради сути дела подразумевает онтологическую вменяемость языка. Хлебников расчленяет слова с единственной целью: превратить их в поля умозрительных связей. Этим он возвращает язык самому себе, вменяя главнейшую со времён Адама обязанность: поименование. Хлебников по-хозяйски распоряжается “подмостками” поэтического “представления”: “действующее лицо” пребывает в фонематическом видоизменении, приумножая целевые понятия. “Приём” речежа состоит здесь в струинé одного и того же воявля20
Отказ от словесного оборота, даже “вкусного”, ради сути дела подразумевает онтологическую вменяемость языка. Хлебников расчленяет слова с единственной целью: превратить их в поля умозрительных связей. Этим он возвращает язык самому себе, вменяя главнейшую со времён Адама обязанность: поименование. Хлебников по-хозяйски распоряжается “подмостками” поэтического “представления”: “действующее лицо” пребывает в фонематическом видоизменении, приумножая целевые понятия. “Приём” речежа состоит здесь в струинé одного и того же воявля20 с незначительной звуковой разницей. Хлебниковская парономазия посредством струинной множавы преподносит поэтическую этотý в обоюдном становлении: воявль накладывает отпечаток на звук, а звук властно взывает к воявлю (парономастические последовательности выделены курсивом):
с незначительной звуковой разницей. Хлебниковская парономазия посредством струинной множавы преподносит поэтическую этотý в обоюдном становлении: воявль накладывает отпечаток на звук, а звук властно взывает к воявлю (парономастические последовательности выделены курсивом):
Ветер — пение.
Кого и о чём?
Нетерпение
Меча стать мячом.21
‹...›
Я видел
Выдел
Вёсен
В осень,
Зная
ЗноиСиней
Сони.22
‹...›
Он город, старой правдой горд23
‹...›
Нежный Нижний! —
Волгам нужный, Каме и Оке.
Нежный Нижний
Виден вдалеке
Волгам и волку. —‹...›
И Волга иволги
Всегда золотая, золотисто-зелёная!
И Волга волка...
24
‹...›
В высь весь вас звала
И милый мигов миру ил.
И в сласти власть ненастья вала.25
‹...›
От Баку и до Бомбея,
За Бизант и за
Багдад,
Мирза-Бабом в Энвер-бея
Бьёт торжественный набат.26
‹...›
Пали вои полевые
На речную тишину,
Полевая в поле вою,
Полевую пою волю,
Умоляю и молю так
Волшебство ночной поры,
Мышек ласковых малюток,
Рощи вещие миры...‹...›
Ты, это ветер, ты?
Верю, ветер любить не о чем,
Грустить не о чем,
После петь путь,
Моих ветренных утренних пят,
Давать им лапти лёгких песен,
А песен опасен путь.‹...›
Час досады, час досуга,
Час видений и ведуний,
Час пустыни, час пестуний.27
Поэтическое
бывьмо — итог сшибки настойчивой последовательности проговаривания с
плескалью, зыбкостью понятия, охватывающего нормативные значения согласуемых слов. Парономазия — законное поименование анонимного в
будетлянстве понятия, поскольку со времён Эллады им обозначают игру различий.
28
Однако этот приём выстраивания
воявля, несмотря на его столь древнюю
камнеправду, использовался Хлебниковым на иных началах:
воявль выбыливается им посредством звуковой
множавы, не более того; но, будучи произвольной и бесконечной, такого рода парономазия создаёт произвольные и бесконечные оттенки смысла. Преподаватели риторики осуждали этот приём,
29
но именно так выработалась хлебниковская
заумь, высшая
зовель парономазии. В самом деле, звук (точнее,
колословную единицу
прáвязи, фонему)
ничтимейным не назовёшь: благодаря своим сочетательным возможностям,
30
он “вырабатывает”
воявль. В парящей над бытом
зауми Хлебникова значение и звук мнятся порой слитыми в единственно возможной фонеме: это высшее состояние языка. И вновь чутьё не подвело
Велимира Первого: фонема есть микрокосм, неисчерпаемый источник смысла. Фонематическая близость слов, бытовые значения которых отнюдь не тождественны, привносит в стихотворение дополнительную
верель, сокращая разрыв исходных значений и, тем самым, семантически переопределяя использованные слова. Парономазией древние называли такое их сочетание, при котором новое значение возникает путём взаимопроникновения порой весьма далёких один от другого
воявлей. Стало быть, налицо превосходный способ отыскания единого через множественное, а это и есть
зачеловеческая цель
ведавы Хлебникова. Его парономазия не столько приём
речежа, сколько “дорожный указатель” на пути к
вселеннели, где звук и
воявль слиты воедино.
Превозносимое критиками как образец новой, “футуристской” поэзии,31 стихотворение начальной поры Хлебникова «Заклятие смехом» знаменует другой его ходовой приём — словотворчество, создание небывалых слов из наличных корней русского языка. В некрологе, посвященном Хлебникову, Маяковский писал:32
стихотворение начальной поры Хлебникова «Заклятие смехом» знаменует другой его ходовой приём — словотворчество, создание небывалых слов из наличных корней русского языка. В некрологе, посвященном Хлебникову, Маяковский писал:32
Известнейшее стихотворение «Заклятие смехом», напечатанное в 1909 г., излюблено одинаково и поэтами, новаторами и пародистами, критиками ‹...›.
Здесь одним словом даётся и
смейево, страна смеха, и хитрые
смеюнчики, и
смехачи-силачи.
Какое словесное убожество по сравнению с ним у Бальмонта, пытавшегося также построить стих на одном слове ‘любить’:
Любите, любите, любите, любите,
Безумно любите, любите любовь
и т.д.
Тавтология. Убожество слова. И это для сложнейших определений любви!
Провозглашённое в манифестах гилейцев одним из неотъемлемых прав поэта,
словотворчество, по Хлебникову, есть нечто вроде ризологии (наука о корнях, корневищах, клубнях и луковицах растений. —
В.М.), посредством которой корень слова синтаксически модулируется морфологической игрой, превращающей стихотворение в грамматическую
множаву:
33
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ усмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!
Смейво, смейво,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Словотворчество Хлебникова — нечто большее, нежели приём
речежа: это
милошь и
лýчшадь словесности
путейца языка, подчиняющая в них всё и вся
зовель. В этом легко убедиться, проследив этот приём от самых первых стихотворений 1901–1908 гг. до поэм 1920–1922 гг.
34
Однако такого рода работа над словом, как и многие другие приёмы, возведённые
будетлянами в ранг основ построения речи, имеет давнюю, выходящую за рамки нормативной поэзии,
35 бывáву
бывáву: фольклор.
36
В этом и состоит разница между русской неологией и
parole in liberta итальянских футуристов. Поэзия Хлебникова в этом смысле действительно народна, хотя его
словотворчество — воистину
безбытуха. Когда мы читаем у Иванова-Разумника
37
В. Хлебников так полюбил живое Слово, что не только не овладел им, но, влюблённый, униженно покорился ему,
„униженную покорность” так и подмывает заменить непоколебимой верой в
можавность, которая присуща именно языку как деятельной (
ἐνέργεια )
зовели, которая есть способ его существования. Иванов-Разумник путает два совершенно разных уровня “действительности”: языковый акт (вплоть до семантически бессмысленного) и бытовую вещь (которой, по мнению критика, был, как гоголевский Хома Брут ведьмой, „оседлан” Маяковский). Всё “языкознание” Хлебникова проистекает из этой установки на
телесатость языка, на уподобление речи работе устройства по производству
звуковещества.
Φιλό-λογος в переводе значит 1. любитель поговорить, словоохотливый, разговорчивый; 2. труженик науки, учёный; полагая сочинительство разговором с незримым собеседником, Хлебников — филолог в полном смысле этого слова. Когда Кручёных заявляет, что заумники — единственные последовательные материалисты (
можавяне), он прав: этот “материализм” (
можава) — прямое следствие
самовитости слова.
Заумь, какого бы разряда она ни была, происходит из той же тяги к этому неиссякаемому источнику новых
воявлей. Хлебников никогда не был заумником в понимании Кручёных, но его смолоду восхищала способность русского языка порождать лиро-эпические микродрамы:
38
И я свирел в свою свирель,
И мир хотел в свою хотель.
Это юношеское двустишие — нечто вроде сжатой роковыни его искусства: сокровищница русского языка неисчерпаема.
Ведава Хлебникова с этой точки зрения глубоко народна.39 Тесное слияние искусства поэта с возможностями языка сближает — если не отождествляет — слововорчество с изощрённой до избыточности вымолвью русского народа:
Тесное слияние искусства поэта с возможностями языка сближает — если не отождествляет — слововорчество с изощрённой до избыточности вымолвью русского народа:
Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька.
Курган Святогора (НП: 323)
Хлебников обобщил в своей поэзии приёмы народного
всутствия, внедрил в
думь научного сочинения исконные приёмы таких разных
выпытов, как былина, частушка, песня. “Приём” для Хлебникова — всегда основа
деюги, угол зрения на слово. Его поэзия мнится умноженной на самою себя, что придаёт ей вид отвлечённых действий, обусловленых избранным
всутствием. Монументализм, лиризм или драматизм хлебниковских отрывков объясняется “народностью” приёмов
Словеннеги. Он уловил самую суть так называемых фольклорных
выпытов: драматизацию языковых
зовелей:
40
Плескиня, дева водных дел,
Радея красоте,
Играла и сияла, служила немоте
И крыльными грустильями воздела темноте.
Продолжая исследование хлебниковского словотворчества, мы можем оценить последствия его “нового речежа”: будетлянская составная вымолвь выказывает соответствие между совокупностью приёмов, явленных в нём, и прáвязью всегдавы языка. Следовательно, то, что “предъявляет”41 какое-либо стихотворение, оказывается поэзией языка, то есть набором правил, которые порождают его как деятельность. Таково одно из самых плодотворных последствий самовитости хлебниковской речи в области смысла: приёмы его искусства полностью соответствуют правильной работе языка; песнемордый миф, разгуливающий по его произведениям, — миф о живом языке. Стихотворение, по Хлебникову, есть множава на тему языка. Малейший хлебниковский отрывок всегда выглядит как слада
вылязней, искусно вводимых во всегдаву. Вот почему создание им новых слов не сводится к зачемканию словарного запаса и отнюдь не ровня приснопамятной “защите” славянофилами родного языка от засилья иностранщины. Словотворчество раскрывает поэтику самого языка и наглядно показывает постоянство языковых вылязней, потаенных везде, кроме стихотворения — поприща грамматики языка. Поэтому драматизм языковых проявлений часто принимает у Хлебникова вид мифологического аллегоризма:42
какое-либо стихотворение, оказывается поэзией языка, то есть набором правил, которые порождают его как деятельность. Таково одно из самых плодотворных последствий самовитости хлебниковской речи в области смысла: приёмы его искусства полностью соответствуют правильной работе языка; песнемордый миф, разгуливающий по его произведениям, — миф о живом языке. Стихотворение, по Хлебникову, есть множава на тему языка. Малейший хлебниковский отрывок всегда выглядит как слада
вылязней, искусно вводимых во всегдаву. Вот почему создание им новых слов не сводится к зачемканию словарного запаса и отнюдь не ровня приснопамятной “защите” славянофилами родного языка от засилья иностранщины. Словотворчество раскрывает поэтику самого языка и наглядно показывает постоянство языковых вылязней, потаенных везде, кроме стихотворения — поприща грамматики языка. Поэтому драматизм языковых проявлений часто принимает у Хлебникова вид мифологического аллегоризма:42
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая лёгких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая лёгких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая лёгких времирей.
Стая лёгких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу лёгких времирей!
Измышленные славянские божества суть знаки поэтического примитивизма, чисто эстетического неоязычества, возникающего как следствие непосредственного восприятия
зовели языка, а не внеязыкового рассудочного намерения:
43
В умных лесах правен лесовой,
В милых водах силен Водяной,
В домах честен домовой,
А в народе Славяной.
Так зыбит, снует молва,
С нею славен, славен я!
Именно в этом смысле
будетляне могли заявить, что
словотворчество сродни мифотворчеству. Действующими лицами в поэзии Хлебникова являются не собственно боги, а созидательная
ἐνέργεια языка, творящая облик воображаемых теонимов. Хлебниковский миф — антипод символистского мифа, поскольку является
зовелью языковой
слады. Поэтическая
разумнядь, заимствованная из народной “устной литературы”, придает творчеству Хлебникова “фольклорный”, языческий и славянский привкус:
44
Неумь, разумь и безумь — три сестры плясали вместе,
В покрывальностях бездумий, в покрывальностях невесты.
Руки нежные свились, ноги нежные свились,
Всё кругом сплелось, свилось, в вязкой манни расплылось.45
‹...›
И дева векиня, векиня в веках,
Векуя свой век в огнелетных венках.
На долево зарево бросаю я сень,
И гласом без марева кликнула день.
И день восторгнулся, и день ужаснулся, и день восстаёт,
И день свое вено векине несёт.
И дева, ликуя, целует и молвит: „жених”...
И ветка качается отныне для них, для двоих.46
‹...›
— О яд не наших мчаний в поюнность высоты
И бешенство бываний в страдалях немоты.
В думком мареве о боге
Я летел в удел зари...
Обгоняли огнебоги,
Обгоняли жарири.
Обожелые глаза!
Обмирелые власа!
Овселеннелая рука!
Орёл сумеречных крыл
Землю вечером покрыл.
„Вечер сечи ведьм зари”, —
Прокричали жарири.
Мы уселись тесным рядом.
Видеть нежить люди рады.47
‹...›
Немотичей и немичей
Зовёт взыскующий сущел,
Но новым грохотом мечей
Ему ответит будущел.48
В то время как «Заклятие смехом» открыло карнавальное шествие будетлян взрывом заклинательного хохочества,49 на который откликнулся трагический дуэт Горя и Смеха в «Зангези», не менее знаменитое стихотворение «Бобэоби...» положило начало приёму, от которого Хлебников уже никогда не откажется, доказательством чему — Плоскости в «Зангези».50
на который откликнулся трагический дуэт Горя и Смеха в «Зангези», не менее знаменитое стихотворение «Бобэоби...» положило начало приёму, от которого Хлебников уже никогда не откажется, доказательством чему — Плоскости в «Зангези».50 Наивная символика соответствий в духе Рембо со временем стала важной частью хлебниковской ведавы, где “оборот речи” оказывается орудием создания поэтической яви. Ю. Тынянов, исследуя построение этого стихотворения в «Иллюстрациях», указывает на важность неопределённости колословных соответствий, прослеживаемых на этом воображаемом звуковом полотне.51
Наивная символика соответствий в духе Рембо со временем стала важной частью хлебниковской ведавы, где “оборот речи” оказывается орудием создания поэтической яви. Ю. Тынянов, исследуя построение этого стихотворения в «Иллюстрациях», указывает на важность неопределённости колословных соответствий, прослеживаемых на этом воображаемом звуковом полотне.51 Вот это стихотворение, которое мы сопровождаем комментарием Тынянова:
Вот это стихотворение, которое мы сопровождаем комментарием Тынянова:
Бобэòби пелись губы
Вээòми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиээй — пелся облик
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь,
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.52
‹...› Переводя лицо в план звуков, Хлебников достиг замечательной конкретности:
Бобэоби пелись губы
Вээоми пелись взоры ‹...›
Губы — здесь прямо осязательны, в прямом смысле.
Здесь — в чередовании губных
б, лабиализованных
о с нейтральными
э и
и — дана движущаяся картина губ как таковых: здесь орган назван, вызван к языковой жизни через воспроизведение работы этого органа.
Напряжённая артикуляция
Вээо во втором стихе — звуковая метафора, точно так же ощутимая до иллюзии.
Но тут же Хлебников добавил:
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
Всё дело здесь в этом
каких-то, — эта широта, неопределённость метафоры и позволяет ей быть конкретной “вне протяжений”.
Действительно, самое замечательное в этом стихотворении — крайняя неопределённость соответствий, благодаря которой слова плавают в ничтимейном пространстве, “вне” внутренних отношений текста. В этом пограничном с заумью стихотворении (лишь встроенное толкование позволяет уразуметь, о чём оно) помимо наивного соответствия между живописью и поэзией прослеживается новый путь к пониманию изящной словесности как озерцáи на плоскость языка приёмов всутствия, свойственных искусству в целом. При составлении азбуки ума, разумеется, следовало выявить лýчшадь того, что изначально было лишь чистой синестезией, унаследованной от поэтической бывáвы. Полностью соответствует учреждаемой ведаве — и только ей — звуковопись в «Зангези»; сходство со сладой живописного полотна создаёт здесь многозвугодье в прямом смысле этого слова, т.е. игру сходства и различий между частериками одной и той же природы (цвета | звука). Озерцáя соответствий между сочетаниями звуков на плоскости языка оказывается “кистью”, которой поэт мысленно живописует. Пример тому — отрывок из «Переворота во Владивостоке», где звукопись, усиленная приёмами ритма и семантики, создаёт поэтический портрет японского самурая:53
Чёрные сосны в снегу
Чёрные сосны над морем, чёрные птицы на соснах —
Это ресницы.
Белое солнце,
Белое зарево —
Чёрного месяца ноша, —
Это глаза.
Золотая бабочка
Присела на гребень высокий
Золотого потопа,
Золотой волны —
Это лицо.
Золотая волна золотого потопа
Сотнями брызг закипела,
Набежала на кручу
Золотой пучины.
Золотая бабочка
Тихо присела на ней отдохнуть,
На гребень морей золотой
Волны закипевшей.
Это лицо.
Это училось синее море у золотого,
Как подыматься и падать,
И закипать и рассыпаться золотыми нитями,
Золотыми брызгами, золотыми кудрями
Золотого моря.
Золотыми брызгами таять
На песке морском,
Около раковин моря.
Живописная ничтимея звукописи по-прежнему сохраняет подспудный смысл в игре фонематических и семантических противопоставлений. Парадоксально, но не “живопись звуком” ближе всего к приёмам колословной композиции, а птичий язык:54 в этой зовели смысл, едва ли не полностью упразднённый, восстанавливается на уровне сборки разрозненных частериков. Синтаксис такой речи подобен синтаксису искусства в целом: это ритм симфонического всутствия, где поэтическая ничтимея оказывается наилучшей зовелью времени. То, что слышится в последовательности звуков, есть совокупность отношений, мера, точнее — измеримость поэтического языка. Красота зовели этого искусственного говора, составленного по темпоральным схемам, раскрывается в игре интервалов. Ритм уже не принадлежность безотносительного ему воявля, наоборот: он-то и есть
видожизнь этого воявля. Ритмическую зовель, порождающую стих, вполне допустимо назвать предсмыслом или зародышем смысла: ритм поэтического языка в его зачаточном состоянии равен сладе речи, ещё не обросшей понятиями, но готовой порождать их посредством хрономии55
в этой зовели смысл, едва ли не полностью упразднённый, восстанавливается на уровне сборки разрозненных частериков. Синтаксис такой речи подобен синтаксису искусства в целом: это ритм симфонического всутствия, где поэтическая ничтимея оказывается наилучшей зовелью времени. То, что слышится в последовательности звуков, есть совокупность отношений, мера, точнее — измеримость поэтического языка. Красота зовели этого искусственного говора, составленного по темпоральным схемам, раскрывается в игре интервалов. Ритм уже не принадлежность безотносительного ему воявля, наоборот: он-то и есть
видожизнь этого воявля. Ритмическую зовель, порождающую стих, вполне допустимо назвать предсмыслом или зародышем смысла: ритм поэтического языка в его зачаточном состоянии равен сладе речи, ещё не обросшей понятиями, но готовой порождать их посредством хрономии55 (поэтической временели). Маяковский в «Как делать стихи?» дал великолепное описание этого волеустья поэтического творчества:56
(поэтической временели). Маяковский в «Как делать стихи?» дал великолепное описание этого волеустья поэтического творчества:56
Я хожу, размахивая руками и мыча ещё почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам.
Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, проходя через неё гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова.
Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не чувствуешь, что слово стало на место; это чувство, развиваемое вместе с опытом, и называется талантом. Первым чаще всего выявляется главное слово — главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного. Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвётся — не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления. Как будто сто раз примеряется на зуб не садящаяся коронка, и наконец, после сотни примерок, её нажали, и она села. Сходство для меня усугубляется ещё и тем, что когда, наконец, эта коронка “села”, у меня аж слезы из глаз (буквально) — от боли и от облегчения.
Откуда приходит этот основной гул-ритм — неизвестно. Для меня это всякое повторение во мне звука, шума, покачивания или даже вообще повторение каждого явления, которое я выделяю звуком. Ритм может принести и шум повторяющегося моря, и прислуга, которая ежеутренне хлопает дверью и, повторяясь, плетётся, шлёпая в моём сознании, и даже вращение земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно чередуется и связывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра.
Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя ихний характер, ихние особенности, это одна из главных постоянных поэтических работ — ритмические заготовки. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорей всего — во мне. Но для его пробуждения должен быть толчок — так, от неизвестно какого скрипа начинает гудеть в брюхе у рояля, так, грозя обвалиться, раскачивается мост от одновременного муравьиного шага.
Ритм — это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество — это виды энергии. Ритм может быть один во многих стихах, даже во всей работе поэта, и это не делает работу однообразной, так как ритм может быть до того сложен и трудно оформляем, что до него не доберёшься и несколькими большими поэмами.
Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики; ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих — это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая и именно только для этого конкретного случая годящийся. Так, например, магнитная энергия, отпущенная на подковку, будет притягивать магнитные перышки, и ни к какому другому делу её не приспособишь.
Из размеров я не знаю ни одного. ‹...›
Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой установкой (всё время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймётся? И т.д.), словами, контролируемыми высшим тактом, способностями, талантом.
Сначала стих Есенину просто мычался приблизительно так:
та-ра-ра/ра-ра/ра,ра,ра,ра,/ра ра/
ра-ра-ри/ра-ра-ра/ра-ра/ра-ра-ра-ра/
ра-ра-ра/ра-ра ра ра ра ра ри/
ра-ра-ра/ра ра-ра/ра-ра/ра/ра ра.
Строго говоря, и хлебниковский птичий язык, и „та-ра-ра” Маяковского оказываются тем, что в семантически нагруженных стихах обычно не так бросается в глаза: темпом воображения, с его зачаточными понятиями о времени, чистой зовелью αἴσθησις, тайной способностью записывать повторяющийся, воспроизводимый образец мышления, — ритмом57 как производителем воявля. Трудность постижения ритма речи связана с тем, что сам он, не являясь представлением, видоживит всякое представление. Поэтому невозможна разумнядь (кроме пространственной) этого производящего воявль потока воображения, который, создавая длительности (таков, по Стравинскому, смысл звукатой временели), наделяет их значением, которое невозможно осмыслить: дление воявли не связано ни со временем, ни со смыслом.58
как производителем воявля. Трудность постижения ритма речи связана с тем, что сам он, не являясь представлением, видоживит всякое представление. Поэтому невозможна разумнядь (кроме пространственной) этого производящего воявль потока воображения, который, создавая длительности (таков, по Стравинскому, смысл звукатой временели), наделяет их значением, которое невозможно осмыслить: дление воявли не связано ни со временем, ни со смыслом.58 Стихотворение, построенное в соответствии с ритмом птичьего языка, оказывается
прáвязью, в пределе спасающей homo faber от бренности. В ритме — построении времени и воявля, подлинной “версификации” времени — проявляется глубинный математизм поэзии,59
Стихотворение, построенное в соответствии с ритмом птичьего языка, оказывается
прáвязью, в пределе спасающей homo faber от бренности. В ритме — построении времени и воявля, подлинной “версификации” времени — проявляется глубинный математизм поэзии,59 порождающий особую зовель в поэтической этотé:60
порождающий особую зовель в поэтической этотé:60
Удары молота
В могилу моря,
В холмы русалок,
По позвонкам камней,
По пальцам медных рук,
По каменным воронкам
В хребет засохшего потопа,
Где жмурки каменных снегур,
Где вьюга каменных богинь.
Удары молота
По шкуре каменного моря,
По тучам засохших рыб, по сену морскому,
В мятели каменных русалок,
Чьи волосы пролились ветром по камням,
С расчёсанными волосами, где столько сна и грёзы,
И крупными губами, похожими на лист берёзы.
Их волосы падали с плачем на плечи
И после летели по волнам назад.
Он вырастет, бог человечий,
А сёла завоют тревожно в набат!
Удары молота по водопаду дыханья кита,
По губам,
По пальцам чёрных рук,
В великие очи железного моря,
Девичьего потопа в железных платьях волн,
По хрупким пальцам и цветам в руках,
По морю русалочьих глаз
В длинных жестоких ресницах.
Из горных руд
Родитель труд,
Стан опоясан летучею рыбою
Чёрного мора морей.
И чёрная корчилась дыбой,
Русалочьей тёмною глыбой,
Морская семья дочерей.
Удары молота
В потопы моря, потомка мора.
По мору морей,
По волнам засохшего моря.
Русалки черногубые берут
И, чернокожие, сосут
Сосуд
Тяжёлых поцелуев молотка ‹...›
Молот. 1921
Свободная от субъекта зовель поэтического слова не может быть сведена к образности; ритмология — это способность речи производить “сгустки смысла” без определённого единства лýчшади; это динамический распорядок всутствия, а не устойчивая схема отношений между слово-понятиями; оборот речи в таких условиях обозначает лишь самого себя. Ритмология оказывается колословной игрой зовели, постоянно обновляющейся, а также анастрофической игрой: речь, постоянно возвращающаяся к самой себе, оставляет всутствие полузамкнутым, незавершённым. Поэзия становится годографом движения речи, направленной к изначальному пространству поэтической ничтимеи — к небу, которое — отнюдь не случайно — в финале поэмы «Синие оковы» милостиво “голубоцепит” слияние речи и тишины:61
В наборе вишен и листвы,
В полях воздушной синевы,
Где ветер сбросил пояса,
Глаза дрожали — чёрная роса.
Зелёный плеск и переплеск —
И в синий блеск весь мир исчез.
Возвращением к первоисточнику поэтического мышления отмечена и этимология Хлебникова. Поиски “первоначального” — часть всё той же колословной продумы, направленной на поиск предзнания, позволившего ословить межличностное общение древних людей. Безоглядная решительность такого подхода требует от поэта немалых усилий, дабы показать простоту первичных действий языка — и в то же время попытаться выявить скрытые до поры возможности поименования. Этимология, по сути, — приём, позволяющий темперировать естественное развитие слова, познав динамику62 этого развития. Памятуя о значении прилагательного ἔτυμος (истинный, правильный, верный, подлинный, исконный), пра-слово как бы парит над временелью, чуждое чувственному миру: вычленение корня открывает царскую дорогу к созерцанию сущностей, которыми деянствует язык. Этимология достигает самой сердцевины поэтической мысли — области отношений этих сущностей, доломерия этих отношений. Пройдя этимологическую чистку, поэзия оборачивается математизацией языка, как в том стихотворении, где первоначальный посыл вызван чисто этимологическим отношением (Москва / Мозг-ва):63
этого развития. Памятуя о значении прилагательного ἔτυμος (истинный, правильный, верный, подлинный, исконный), пра-слово как бы парит над временелью, чуждое чувственному миру: вычленение корня открывает царскую дорогу к созерцанию сущностей, которыми деянствует язык. Этимология достигает самой сердцевины поэтической мысли — области отношений этих сущностей, доломерия этих отношений. Пройдя этимологическую чистку, поэзия оборачивается математизацией языка, как в том стихотворении, где первоначальный посыл вызван чисто этимологическим отношением (Москва / Мозг-ва):63
Москва — старинный череп
Глагольноглазых зданий,
Висящий на мече раб
Вечерних нерыданий.
Я бы каменною бритвой
Чисто срезал стены эти,
Где осеннею молитвой
Перед смертью скачут дети.
И дева ночи чёрным тулом
Своих ресниц не осенит,
Она уйдет к глазам сутулым,
Моё молчанье извинит.
Подобным же образом в стихотворении «В этот день голубых медведей», где обычная семантика приостановлена, этимологическая подоплёка слов приходит в движение, обновляясь странными метафониями, которые влияют на рифмы, и внутренними ассонансами, устанавливающими едва уловимые отношения между этотáми, далекими друг от друга в быту (день ‹...› медведей / водой; ресницам / проснуться; Русь / парус; море / моряна):64
В этот день голубых медведéй,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нём буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичья Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.
Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло синей,
Но за то в безнадёжное канут
Первый гром и путь дальше весенний.
Этимология — не просто возвращение к истоку или корню, это археология языка: этимологический подход восстанавливает целеполагание самовитого слова, его завершённость, подразумевающую собственное совершенство, в измерении “Утопия-Ухрония”:65
Огневицы окон
Дворца для толп,
Серый пол,
Четыре точки.
Труба самоголоса,
Столы речилища,
За круглым решетом железа
Песнекрики, тенекрылья у плеч,
Алошар игрополя,
Снегополь пляски теней,
Тенебуда у входа,
Руку для теней
Протянувшая к
Тенеполю.
Книгощётки снегополя,
Железный самоголос
Куёт речеложи отмеренную ярость.
Око Путестана
Высоким снегополем
Светит вдали.
(Продума Путестана)
Этимологический подход рассматривает язык в двоякой перспективе, расширяя его значение: это версия вымолви, относящаяся к наиболее полному её выражению — семантической плероме. Таким образом, хлебниковский этимологизм оказывается своего рода пуризмом, лингвистическим классицизмом. Поэтический перфекционизм, проявляемый подобным образом, приближает будетлянскую поэтическую вымолвь к тому же способу должествования, к которому стремился акмеизм, но другими средствами: ἔτυμον подразумевает истину стихотворения уже наличествующей.66 Энтелехизм смыкается с ведавой Хлебникова, представляя поэтический дискурс как эсхатологический: от начала и до конца высказывания язык пребывает в равновесной завершённости, т.е. в совершенстве. Ритмология сочетается с этимологией, ибо ритм тоже производит ἔτυμον , истину языка. В связи с этим возникает вопрос: если поэтическая речь совершается в ритме, то чтó его движущая сила?
Энтелехизм смыкается с ведавой Хлебникова, представляя поэтический дискурс как эсхатологический: от начала и до конца высказывания язык пребывает в равновесной завершённости, т.е. в совершенстве. Ритмология сочетается с этимологией, ибо ритм тоже производит ἔτυμον , истину языка. В связи с этим возникает вопрос: если поэтическая речь совершается в ритме, то чтó его движущая сила?
Хлебников в своей поэтической вещеéее мновничает с языком через сходство его слад со сладами “действительности”, скрывая лингвистический стержень испытанной веками морóлью поэтической речи: “подобное” растворяется в естественной апперцепции того же модуса, той же слады, работающей в вéрязи — жизни, истории, мире — и в стихотворении. Фабула основана на единообразном измерении “вещей”: воображение, создающее свой мир в поэтической речи, навязывает ей это единство. Стирая границы между субъектом и объектом, внутренним и внешним, поэзия обретает всю полноту окружающего мира, как в этом стихотворении, где имена собственные в соответствии с предикатами означают интимное взаимопроникновение единичного и всеобщего, субъекта и мира; имя собственное превращается в собственный знак поэтического состояния:67
Усадьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие берёзы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее — моцáрть!
И сумрак облака, будь Гойя!
Ты ночью, облако, роопсь!
Но смерч улыбок пролетел лишь,
Когтями криков хохоча,
Тогда я видел палача
И озирал ночную, смел, тишь.
И вас я вызвал смелоликих,
Вернул утопленниц из рек.
„Их незабудка громче крика”, —
Ночному парусу изрек.
Ещё плеснула сутки ось,
Идёт вечерняя громада.
Мне снилась девушка-лосось
В волнах ночного водопада.
Пусть сосны бурей омамаены
И тучи движутся Батыя,
Идут слова — молчаний Каины —
И эти падают святые.
И тяжкой походкой на каменный бал
С дружиною шёл голубой Газдрубал.
Вращаясь вокруг себя как образца истины, поэзия Хлебникова превращает обкатанную предшественниками тропологию в революцию, т.е. постоянное возвращение к одной и той же точке в периодическом движении. Главное следствие самовитости речи: рушится предустановленная речёжь, а вместе с ней и образность. Принятое в речеже понятие образности порождено представлением, согласно которому язык вращается вокруг мира неподвижных вещей. В зависимости от того, давал или нет язык какое-либо обозначение той или иной “вещи”, акт поименования был либо прямым, либо косвенным: в первом случае имя было “собственным”, принадлежащим вещи “по природе”, в другое существительное было “переносным”, “иносказанием”, поскольку присоединялось к “вещи” посредством перемещения, переноса, “морóли”. Морóль как
лýчшадь была возможна только в системе мышления, где язык воспринимался как переносчик “слов” к “вещам”, считавшимся неподвижными. Язык был обречён на “метафоризацию” до тех пор, пока сохранялась двойственность языка и мира (“вещей” “объективного” мира). Хлебниковский монизм устраняет производящую инаковость образность: для Словеннеги язык — ровно то, что он есть, он неподвластен ничему иному, кроме самого себя; он обладает безоговорочной целостностью, в которой сливаются обычные антиномии (я-ты / он; субъект / объект). Таким образом, его поэтическое искусство строит на уровне мирового языка произведение, выходящее за рамки предписанных выпытов — лирического, эпического и драматического, вместе взятых — свидетельствующее о глубинном изменении точки зрения, с которой поэт рассматривает язык. Отныне, благодаря революции отношения поэта к своему творчеству в языке, мир обретает статус объективности только через поэтическое пересоздание: Мир как стихотворение.68 “Антириторичность” поэзии Хлебникова зиждется, в конечном счёте, на этой исходной “морóли”, устанавливающей единый способ существования в мире и стихотворении, делая излишними все производные, “вторичные” морóли. Поразительная смелость Хлебникова состоит в том, что он “имитировал” поэтическое существование посредством внутриязыковой, тутобной игры, имитируя основополагающую морóль через движение за пределы языка к превосходящему его воображаемому пространству — “утопии” зауми, создающей синтаксис:69
“Антириторичность” поэзии Хлебникова зиждется, в конечном счёте, на этой исходной “морóли”, устанавливающей единый способ существования в мире и стихотворении, делая излишними все производные, “вторичные” морóли. Поразительная смелость Хлебникова состоит в том, что он “имитировал” поэтическое существование посредством внутриязыковой, тутобной игры, имитируя основополагающую морóль через движение за пределы языка к превосходящему его воображаемому пространству — “утопии” зауми, создающей синтаксис:69
Выстрел отцел. Могилы отцели.
Я волил быть цел, но волны умчали от цели.
На небе был ясен приказ: убегай!
Синяя степь рыбака
Билась о жизни бока.
Умчурное море и чолн, где выстрел Онегиным воли,
И волны смеялись над смертью своей,
Летя в голубой отобняк,
Смеялись волны над гробом.
Сваи Азбуки были вчера
Оцелованы пеной смертей.
В парчевом снегу идет божестварь,
Илийного века глашатай.
Колосьями море летит на ущерб,
Но косит колосья строгой отмели серп.
Те падают в старую тризну,
Очами из жемчуга брызнув,
И сумрак времен растолкать
Ночная промчалася кать.
Ончина кончины! Тутчина кончины!
Прилетавли не сюда
Отшумели парусами,
Никогдавли навсегда.
Тотан, завывающий в трубы
Ракушек морских
О скором приходе тотот.
Тотан, умирающий грубо,
И жемчуговеющий рот.
Слабыня мерцающих глаз,
Трупеет серебряный час.
Ончие зовы! Ончие стоны!
Этаны! Этаны!
Какоты такоты!
Утёсы священных отот!
Отийцы! ототы! вы где?
Выстрелы слёз вдалеке.
Этóт пролит на землю мешок.
Пилы времен трупы людей перепилили.
В кузне шумен перепел „или”.
Тутобы с тотобой борьба,
Утёсы могучих такот.
Камнеправды дикий топот
По вчерашним берегам.
Отун синевы замолчал...
Инь, волнуйся! Синь, лети!
Бей, инея, о каменья!
Пегой радугой инес,
Пегим жемчугом каменьев
Бей и пой! вне цепей!
Тутырь замолчал навсегда,
Одетый в потопы.
Приходы великих тихес
На пенье великой онели,
На пенье великих шумен.
Этóт каменеют утёсы и глыбы,
Как звери столетий сидят.
Жрецов заседанье.
Этаны! Этаны, проснитесь!
Выстрелы — высь травы!
Тутоты стоят чёрным храмом морей.
Менавль пронёсся по волнам.
Синеет, инея, волна.
Ончие тучи неслись,
Онели свирели.
Хочет покой
Литься илийной рекой,
Иливо, иливо, иливо
В глубинах залива.
Искомый выход за пределы поля поэтической вымолви осуществляется путём массированного переноса языковых средств во внеязыковую вéрязь “смычек” речи с запредельным сущёлом, который побуждает её к действию. Игра указательных падежей (тот / этот) в сочетании с множеством небывалых производных (он- / ончина / ончий / онел), предлогов и союзов, создаёт перекон внутри высказывания. Можель вспомогательных частериков бытовой речи меняется: они становятся насельниками воображаемой страны, языковой и внеязыковой одновременно, которую они обживают, выказывая внутреннюю инаковость речи вследствие постоянного противопоставления близкого и дальнего. Стихотворение повествует о своём собственном приключении в зовели “лирического эпоса”, настоящего лингвистического моря, где “водоплавающий” мир чувств рождается и умирает на “береговой линии” слов. В этом предельно свободном движении, где властно разворачивается ритм свободной речи, язык изливается в мир, а мир изливается в язык: поэзия в своей вновь обретённой свободе стихослагает Мир.
Заключение
Мандельштам писал о Хлебникове, что тот „прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие”. Наследие всадника оседланного рока русская поэзия далеко не исчерпала. Да и приступала ли она к освоению этого богатства? “Поэтическое завещание” Хлебникова такого свойства, что не только исполнить, а просто понять наказы его невероятно трудно. Однако под занавес нашего исследования мы рискнём предложить ответы на вопросы, касающиеся некоторых частных сторон его поэтической системы.
Прежде всего, хлебниковская ведава охватывает едва ли не все направления современного искусства слова. Однако следует помнить, что ни одно явление литературной жизни не рождается ex nihilo; поэзия Воронихина столетий не исключение. Цели Хлебникова с предметами забот его непосредственных предшественников “символистов” несопоставимы, но можно утверждать, что творчество белого ворона немыслимо вне новых путей, проложенных Бодлером, Рембо, Малларме во Франции и Вяч. Ивановым, В. Брюсовым и А. Блоком в России. Ведава Хлебникова достигает — или, по крайней мере, пытается достичь — того, к чему оказался неспособен обанкротившийся “символизм”: самовитости поэтического слова.
Хлебниковская деюга есть совокупность изысканий в областях языка и времени с целью открытия законов, управляющих обоими. Следуя этим путём, Хлебников коренным образом изменил подход к поюнной зовели. Благодаря в том числе и этой особенности, его ведава выходит далеко за пределы литературной
учарни, превосходя самый продуманный нынёж. Будетлянство отнюдь не исчерпывает хлебниковской можбы, которая проистекает из векынь его
ведавы, обеспечивающих её смысловое единство. Математико-поэтическая роковыня как “золотой ключик” мироздания — вот к чему страстно стремился Хлебников до конца своей жизни.
Он находит его в Числе. Число управляет вместилищем памяти человечества, называемого историей, посредством ритма. Гений Хлебникова состоит в том, что дейёл ритма он распространил на Мир и поэтическую речь совокупно; это и стало краеугольным камнем его ведавы: посредством ритма вселенная стихослагается, а стихотворение вселеннуется.
На этой важнейшей зрыне ведавы Хлебникова хочется завершить наше исследование. У Воронихина столетий единство Мира и стихотворения предстаёт во всём блеске новизны и величия как совокупность строжайшим образом выверенных понятий — поэтического синтаксиса, на котором строится произведение, причём тема его с этим синтаксисом сливается. Но это лишь маннь, доказывающая крайнюю сложность хлебниковской ведавы, где поэтический μίμησις обнаруживается едва ли не в чистом виде: речь поэта, по сути, оказывается зазовью вечных законов искусства слова.
Посыл Маяковского „Хлебников — поэт для производителя” неоспорим: ведава Хлебникова — руководство к действию, она срывает покров с того, что поэты предпочитают скрывать: с т.н. “кухни”. У Хлебникова “тайна” изящной словесности становится очевидной: искусство поэта есть озерцáя приёмов стихосложения на всегдаву языка. Отправившись на поиски законов времени, поэт Хлебников постиг законы поэзии.
————————
Примечания
* Иноземные соответствия руссейшей, по Н.И. Харджиеву, словесности Велимира Хлебникова даны всплывающими подсказками в именительном падеже. — В.М.
** Наиболее полный в настоящее время перечень самоназваний Велимира Хлебникова здесь
— В.М.
Принятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
SPM:
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke.
München: Vilhelm Fink Verlag. 1968–1972. — (Slavische Propyläen: Texte in neu — und nachdrucken Band 37 (I–IV).
 1
1 Напомним, что хлебниковская
заумь — это онтологический язык, в котором силы, созидающие мир, непосредственно высказываются, обозначаются звуками языка. Этот аутосемичный язык, где смысл немедленно воспроизводится в звуке, остался экспериментальной гипотезой. Но эта гипотеза указывает на глубокую интуицию.
 2
2 Письма Хлебникова 1915–1917 гг. подтверждают этот факт, см.
СП V: 304, 306 и далее.
 3
3 «Доски судьбы» были изданы в Москве в 1922–1923 гг. Они представляют собой итог изысканий Хлебникова, начатых в 1920 году в Баку. См.:
СП V: 318–319:
‹...› Это полотно, где одна только краска — число.
См. также:
СП V: 324–325, письмо Хлебникова Митуричу.
 4
4 Достаточно ознакомиться с «Записной книжкой» Хлебникова и его стихами 1920–1922 гг., см.:
НП:180, 196 и
СП III: 26, 27, 67, 70–74; 75–86 («Царапина по небу»);
СП III: 139–140, 202–205; 281–283 («Морской берег»).
 5
5 См.:
СП V: 233, «Наша основа»:
Словотворчество — враг книжного окаменения языка, и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем.
 6
6 О пользе изучения сказок (
СП V: 196–197).
 7
7 См.:
А. Кручёных. Записная книжка..., соч. цит., с. 26.
 8 СП
8 СП III: 29.
 9
9 Осенняя (
СП III: 42–43).
 10
10 Облако с облаком... (
СП III: 226–227). См. также Поэт (
СП I: 145–159); Ладомир (
СП I: 183–201); Переворот во Владивостоке (
СП I: 274–282; Синие оковы (
СП I: 283–303).
 11
11 Можно, конечно, по нескольким статьям набросать контуры истинно хлебниковского поэтического искусства. См., в частности, «Песни 13 вёсен» (
НП: 338–340), «О расширении пределов русской словесности» (
НП: 341–342), «О современной поэзии» (
СП V: 222–224), «О стихах» (
СП V: 225–227). Вспомним суждение Хлебникова о “поэтических теориях” (письмо к Кручёных от 31 августа 1913 г.,
НП: 367):
Я боюсь бесплодных отвлечённых прений о искусстве. Лучше было бы, чтобы вещи (дееса) художника утверждали то или это, а не он.
 12
12 У Стравинского относительно термина ‘революция’, прилагаемого критиками к его творчеству, читаем:
Зачем нагружать словарь изящных искусств этим высокопарным термином, обозначающим в самом обычном его смысле состояние беспорядка и насилия, когда есть столько слов, лучше подходящих для обозначения оригинальности?
Честно говоря, мне было бы очень неловко привести хоть один факт из истории искусства, который можно было бы назвать революционным. Искусство созидательно по своей сути. Революция предполагает нарушение равновесия. Однако искусство — это противоположность хаоса. Оно не отдаётся хаосу, не видя непосредственной угрозы себе в своих живых произведениях, в самом своем существовании.
Игорь Стравинский. Музыкальная поэтика, указ. соч., стр. 9.
 13
13 Слово ‘mot’ (как и его русский эквивалент ‘слово’) наделено замечательной многозначностью; оно означает одновременно единицу речи (обычное “слово”), речь, язык, предложение, звуковую субстанцию, литературу, литературное произведение, словесный “материал” и т.д.
То же самое можно сказать и о злополучном слове ‘matériel’, получившем теперь право употребляться в литературной критике (правда, скорее, в неправильной форме “материал”). Это слово, помимо своей семантической неопределённости, традиционно вставляется в отношения противопоставления материя / форма, тело /дух. Однако “материя” как таковая — это идеалистическая выдумка непоследовательных (и догматичных) “материалистов”, с недостаточной настороженностью относящихся к уловкам, на которые горазд человеческий разум. На самом деле поэт имеет дело не столько с “материалом”, который он хотел бы сообщить, сколько со сцеплением “форм”: языка как формальной (то есть реляционной) системы и поэзии как другой формальной системы, дополнительной к первой, правила которой отличаются от правил языка. “Материя”, противостоящая поэтическому сообщению, представляет собой набор застывших форм, завещанных традицией (культурой языка или совокупностью произведений на этом языке) и множество возможных текстов, среди которых поэт ценой терпеливой проработки выбирает тот, который он переводит в категорию “реального”. Таким образом, “форма” — это общее название серии действий, которые сочетают в себе столь “формальные” факторы, как выбор темы, ритма, звуковой организации и т.д.; стихотворение представляет собой совокупкость форм, которые создают
αἴσθησις.
 14 Ю.Н. Тынянов
14 Ю.Н. Тынянов. Архаисты и новаторы, с. 570.
 15
15 Классическая риторика черпает смысл своего существования в понятии различия. Поэтическая речь “образна” той дистанцией, которую она устанавливает между собой и бытовой речью. Очевидно, здесь ошибка: следствие принимают за причину. См.:
P. Ricœur. La Métaphore et la nouvelle rhétorique // La Métaphore vive.
Paris: Le Seuil. 1975. P. 173–220.
 16
16 См.:
J. Cohen. Structure du langage poétique.
Paris: Flammarion. 1966. P. 224.
 17
17 См.: «Poétique et rhétorique», предисловие к: Rhétorique générale.
Paris: Larousse. 1970. P. 8–27. Авторы занимаются критическим восстановлением классической риторики, чтобы лучше установить основы общей теории оборотов (фигур) речи.
 18
18 Классическая риторика вообще весьма сурова к этой разновидности созвучия, видя в ней лишь холодную игру ума. См., например:
Quintilien. De institutione oratorio, VI, 3, 53–54–55. Парономазия, действительно, по определению, предложенному Цицероном (De oratore, кн. II, LXIII, 255), кажется поверхностной в том смысле, что затрагивает только словесную форму, а не “субстанцию вещей”, то есть идеи или смысл; см.: Quintilien, ibid., 57: „Acriora igitur sunt et Elegantoria quae trahuntur ex ui rerum. In iis maxime ualet similitudo” („Поэтому в шутках, основанных на природе вещей, больше пикантности и элегантности. В них наиболее ценно то, что основано на сходстве”).
Именно по этой причине Fontanier (Les Figures du discours.
Paris: Flammarion. 1968. Р. 347) склонен оправдывать этот приём: „Парономасис, который также называют “Парономазией” или “Просономазией”, объединяет в одном предложении слова, звучание которых почти одинаково, но смысл совершенно разный”.
Du Marsais гораздо более гибок в отношении такого рода образности (Traité des tropes.
Paris: Le Nouveau Commerce. 1977. Р. 199–200): „Есть слова, значение которых различно, а звучание почти одинаково; это соотношение, которое обнаруживается между звучанием двух слов, представляет собой своего рода игру, из чего риторы сделали фигуру, которую они называют парономазисом. ‹...› Следует избегать бессмысленных каламбуров, но когда значение сохраняется, даже несмотря на каламбур, таковые не теряют своих достоинств”. Действительно, связь заключается не только в звуковом “материальном”, но и в чувственной близости; семантически парономазия отнюдь не бедная фигура. О парономастической функции в поэзии см.:
R. Jakobson. Linguistique et poétique // Essais de linguistique générale. Paris: Éd. de Minuit. 1970. Р. 239–240.
 19
19 Полиптот — в древней риторике поименование многообразия одного и того же существительного. Отсюда значениее тавтограммы (или пантограммы) в поэзии Хлебникова: речь идёт о “склонении” одного и того же звукового понятия посредством его первоначального появления в нескольких “словах”, которые объединены по нескольким правилам. (См.: Перун,
СП III: 12–15 — см. замечание Кручёных в «Неизданном Хлебникове», вып. XVIII);
СП V: 71;
СП II: 42–44). Слово о Эль (
СП III: 70–72) представляет собой огромную блестящую пантограмму. Но, как пишет Кручёных о «Царапине по небу» (Неизданный Хлебников, вып. XIV):
‹...› При объяснении сокращений изобретатель всё время остаётся большим поэтом, и его полутеоретические стихи являются в то же время образцами высокого чисто-поэтического мастерства.
См. также
Плоскость X «Зангези» (
СП III: 337–338). Н. Пунин в своей статье в «Аполлоне», 1913, № 9–10 заметил, что имеется любопытная гомология с техническими исследованиями великих риторов XVI века, объясняемая той же заботой: вернуть свой голос освобожденному материалу (см.:
P. Zumthor. Le Masque et la lumière : La poétique des grands rhétoriqueurs.
Paris: Le Seuil. 1978. Р. 195). Обоснование пантограммы см. там же, р. 215–216, 249–250.
 20
20 Налицо глубокое сходство между хлебниковской парономазией и музыкальным приёмом контрапункта, одновременной хронономией, синтезирующей мелодические линии, расположенные на разных уровнях (см.:
Игорь Стравинский. Музыкальная поэтика, указ. соч., стр. 21). Об общем значении парономастического приёма как признака поэтической фантастики языка см.:
R. Jakobson. Le langage en action // Questions de poétique, op. cit., p. 216.
 21 СП
21 СП III: 26.
 22 СП
22 СП III: 21.
 23 СП
23 СП III: 59.
 24 СП
24 СП V: 21.
 25 НП
25 НП: 121.
 26 НП
26 НП: 180.
 27
27 Лесная тоска,
СП I: 165–166, 168–169.
 28
28 Возможности парономазии таковы, что она может породить, иногда без ведома автора, целое стихотворение. Таким образом, философская рефлексия стихотворения в прозе «Зверинец» обусловлена двойной связью
веры с
верблюдом и
зверем (
НП: 356). Виды животных (
звери) и религии (
веры) связаны в русском языке звуковой близостью, которую Хлебников воспринимает всерьёз и развивает в стихотворение или систему апофонических рифм (см.: Поэт,
СП I: 149):
В глуби спрятаны, как звери,
Спорят об умершей вере.
 29
29 См.:
Fontanier. Les Figures du discours, op. cit., p. 347: „‹...› Следует признать, что эти словесные сочетания, эти игры слов как таковые имеют во французском языке меньше изящества, чем в латыни. Наш язык, кажется, даже отвергает их как недостойные со строгостью, близкой к полному запрету. Поэтому подобных примеров у наших хороших писателей крайне мало”.
 30
30 См.:
J. Garelli. La Gravitation poétique, op. cit., p. 191–192 et 201–206.
 31
31 См.:
К. Чуковский. Футуристы, цит. соч., с. 55–57.
 32 В. Маяковский
32 В. Маяковский. Полн. собр. соч., цит. соч., т. 12, с. 25–26.
 33
33 Заклятие смехом,
СП II: 35.
 34
34 См.:
А. Кручёных. Записная книжкаа, цит. соч, с. 14–15, 19–20.
 35
35 Особенно в поэзии XVII века. См.:
Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Цит. соч., с. 76 («Ода как ораторский жанр»):
Поразительный пример словесной разработки у Державина:
Твоей-то правде нужно было
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность облачился.
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец, в бессмертие твое.
Здесь как бы одно слово, расчленившееся на много членов-слов ; особой силы достигает этот прием тем, что все эти слова, повторяя одну основу, отличаются друг от друга, что дает ощущение протекания слова, динамизацию его и может быть сопоставлено со словесными конструкциями Хлебникова.
 36
36 См.:
А. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу.
М. 1869. Т. III. С. 672–675.
 37 Р.В. Иванов-Разумник
37 Р.В. Иванов-Разумник. Маяковский — «Мистерия» или «Буфф»?
Берлин. 1922. С. 18.
воспроизведено на www.ka2.ru
 38 НП
38 НП: 95.
 39
39 См.:
В. Каменский. Путь энтузиаста. Цит. соч., с. 164–165:
Словождь! Журчей с горы русской поэзии. И, как журчей, он стремист в зачарованном беге, и в каждом отдельном движении его — победа и строгая мудрость завершенья. Каждые два, три слова его, взятые случайно, — поэма, мысль, самоцельность. Первый он освободил слово как таковое, придав ему значенье великое и открывающее, образно законченное, национальное. Словотворчество Хлебникова в своей расовой самобытности доходит до гениального выявления русского языка с его типическими особенностями в смысле современного понимания. Как сеятель неологизмов, филологически правильно построенных, он первый создаёт в русской поэзии особую форму стихотворения, в котором глубоко отразился современный дух. Хлебников сумел убедительно-строго пересоздать всю русскую поэзию во имя современного искусства.
воспроизведено на www.ka2.ru
 40 НП
40 НП: 90.
 41
41 Внутренняя символика — соответствие стихотворения поэтической парадигме (общему синтаксису искусства) — очевидно, не имеет ничего общего с тематической символикой “символистской” поэзии.
 42 НП
42 НП: 118.
 43 СП
43 СП II: 264.
 44
44 Полностью замечания Ю. Олеши о стихотворении «Морской берег» см. прим. 69.
 45 СП
45 СП II: 264.
 46 СП
46 СП II: 265.
 47 СП
47 СП II: 18.
 48 СП
48 СП II: 187.
 49
49 См. размышления П. Цумтора о Великой словесной игре, вызывающей смех (
P. Zumthor. Masque et la lumière, op. cit., p. 276): „Великая игра порождает этот взрыв смеха. Несомненно, именно поэтому двусмысленность так часто становится забавной. Но смех — это откровеннность, уверенность в себе —
γέλως ἴβεστος, волшебный смех гомеровских богов: в это мгновение складывается заклинание, которое вот-вот сорвётся с их уст, это время непредсказуемой связи между факторами небывалого прежде опыта. Именно тогда и происходит “работа”; именно с этого-то момента мнозначительной напряжённости”.
 50
50 См.: Зангези,
Плоскость XV (
СП III: 344–345).
 51
51 См.:
Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Цит. соч., с. 504.
 52
52 Бобэоби... (
СП II: 36).
 53 СП
53 СП I: 279–280.
 54
54 Мудрость в силке (
СП II: 180).
 55
55 Выражение взято из:
И. Стравинский. Музыкальная поэтика. Цит. соч, с. 21.
 56 В. Маяковский
56 В. Маяковский. Полн. собр. соч., цит. соч., т. XII, с. 100–102.
 57
57 В поэзии “примитивных” народов ритм — это порядок песни, порождающий другие поэтические факторы (метры, рифмы, ассонансы и т.д.), см.:
M. Bowra. Op. cit., p. 40–41 etp. 91.
 58
58 См. многочисленные свидетельства поэтов, собранные Э. Бремоном (
H. Brémond. Poésie pure.
Paris: Grasset. 1926):
В стихотворении всегда есть чистое и нечистое; но сама поэзия либо вполне чиста, либо нет. Появившись, она поэтизирует, если можно так выразиться, обожествляет те нечистые элементы, которые она должна присоединить к себе: идеи, образы, чувства; всё это вещи прозаические, на мой взгляд, по определению.
Для неё ритмично — всё: мысли, идеи, образы, ощущения; всё это, в конечном счёте, одно и то же. ‹...›
Как возникает поэзия?.. Поэт, занимаясь повседневными обязанностями, постоянно озабочен своим искусством — совершенно как финансист. Что бы он ни переживал, внутреннее или внешнее, он переводит это в образы, идеи, ритмы. Независимо от того, записывается это или откладывается в глубине души: не “подсознательно”, заметьте, а преднамеренно. В “долгий ящик”.
Мало-помалу, постепенно такие-то ростки укореняются, обретают форму, упорядочиваются. Иной раз “мысль” (?) становится определённее, чётче, обретает “пространственность”. С этого момента мастер обдумывает внешний вид, объём и, прежде всего, ритм будущего произведения. Он мог бы сказать, что оно завершено... [Мне кажется, что этого первичного ритма нет, его нельзя “представить”. Он дан в самом вдохновении, от которого, как я понимаю, его нельзя отличить. — Прим. автора].
‹...› В истоке всякой поэтической деятельности Фагус устанавливает “внутренний ритм”. Зачем сразу добавлять “ритм мысли”, даже возвышенной, если для задания его достаточно простой логики, то есть прозы? Для меня этот внутренний ритм есть сам поэтическое переживание, впечатление, вдохновение, непосредственное и объёмное постижение этой реальности, ускользающей от прозы. ‹...›
(Р. 50–57)
Свидетельство Карлейля (р. 122–123):
Если ваше описание подлинно музыкально, музыкально не только словесно, но и в его содержании, во всех мыслях и выражениях, во всём его замысле, то оно будет поэтическим; иначе — нет. Музыка: сколько всего вобрало это слово! Музыкальная мысль — это мысль, высказанная умом, проникшим в самое сокровенное нутро вещи, открывшая её самую сокровенную тайну, то есть сокрытую в ней мелодию; внутренняя гармония связности, которая является её душой, — благодаря ней она существует и имеет право быть здесь, в этом мире. Всё самое сокровенное мелодично, естественно выражено в песне. Значение песни таково, что мы называем поэзию мыслью музыки. Поэт — тот, кто думает именно так.
Т. Carlyle. Les Héros / trad. Izoulet, p. 132
Свидетельство Шиллера (р. 124):
Сначала душа моя наполнена каким-то музыкальным настроением; поэтическая идея приходит позже.
(Цит. по: Cassagne. La Théorie de l’art pour l’art. 1906. Р. 423)
Когда я сажусь писать стихи, то чаще всего вижу перед собой музыкальную сторону стихотворения, а не чёткое представление о предмете, с которым я часто не в ладу.
(Цит. по: Thibaudet. La Poésie de Mallarmé. P. 156)
Свидетельство Шелли (p. 124):
‹...› Общепринятое деление на прозу и стихи недопустимо с точки зрения точной философии. ‹...› Совсем не обязательно, чтобы поэт подчинял свой язык известной системе устоявшихся форм, при условии соблюдения гармонии, которая является его духом.
(Défense de la poésie // Œuvres de Shelley, t. III, trad. F. Rabbe, p. 336 et 367)
О ритме см.:
O. Brik. Rythme et syntaxe // Théorie de la littérature.
Paris: Le Seuil. 1965. Р. 143–153.
 59
59 См.:
A. Rannit. Towards a définition of Poetry // Russian Literature Quarterly, 1972, n° 2, p. 350:
‹...› Как бы то ни было, поэзия — это всегда искусство ритмического опьянения узорами слов; это согласованно пульсирующее словесное выражение нашего духа. Оно может быть достигнуто только посредством математически точного использования языка, наличием в стихотворении определённо выраженных трансрациональных и заклинательных элементов. В этой, возможно, окончательной перспективе поэзия остаётся священной геометрией.
 60
60 См.: Молот (
СП III: 90–91).
 61 СП
61 СП I: 303.
 62
62 См.:
R. Jakobson et Ju.Tynjanov. Les Problèmes des études littéraires // Théorie de la littérature, op. cit., p. 139:
Для лингвистики, как и для истории литературы, чёткое противопоставление синхронического (статического) аспекта и диахронического аспекта было плодотворной рабочей гипотезой, поскольку оно показывало систематический характер языка (или литературы) в каждый конкретный период. Сегодня появление синхронической концепции заставляет нас пересмотреть принципы диахронии. Диахроническая наука, в свою очередь, переформулировала понятие механического скопления явлений, которое синхроническая наука заменила понятием системы, структуры. История системы, в свою очередь, является системой. Чистый синхронизм оказывается теперь иллюзией: каждая синхроническая система содержит своё прошлое и своё будущее, которые являются неразделимыми структурными элементами системы (А. архаизм как факт стиля; лингвистическое и литературное целое, которое мы ощущаем как мёртвый стиль, вышедшие из моды; Б. новаторские тенденции в языке и литературе, рассматриваемые как нововведение системы).
Противопоставление синхронии диахронии противопоставляло понятие системы понятию эволюции; оно теряет своё принципиальное значение, поскольку мы признаём, что каждая система необходимо представляется нам как эволюция и что, с другой стороны, эволюция неизбежно носит систематический характер.
См. также:
D. Délas, J. Filliolet. Linguistique et poétique.
Paris: Larousse. 1973. Р. 99–103;
ibid, p. 139–146.
 63 СП
63 СП III: 28.
 64 СП
64 СП III: 29.
 65 СП
65 СП V: 71–72.
 66
66 См.:
О. Мандельштам. Слово и культура // Собр. соч., цит. соч., т. II, с. 266–267.
 67 СП
67 СП II: 217.
 68 СП
68 СП V: 259.
 69
69 Морской берег (
СП III: 281–283). Вот комментарий Ю Олеши, воспроизведённый в «Неизданном Хлебникове» (вып. XIX):
— на с. 3 Ю. Олеша отмечает:
Падают в старую тризну 33 богатыря / Жемчуг — слёзы, брызги очей моря катится ночная жуть / кат палач, кот, каталанка. /
напротив стихов: Но косит колосья строгой отмели серп
— с. 4, напротив строк Тотан, завывающий в трубы ‹...›:
Идёт всё это — тотан и этаны, как будто от северного эпоса, северных морей — Воттан Готты Тотан, завывающий в трубы — нибелунги. А море, между тем, воспринимается как заклинание. Как будто новый, не бывший, но вполне возможный эпос. Не болезненная мистика. Это жизнерадостность.
— р. 5, напротив стихов Бей, инея, о каменья! / Пегой радугой инес ‹...›
Испания. По лихости и звукам — Бейинея, окаменья — радугойнес.
— с. 6, о стихах горы / звери столетий:
Горы — звери. Вспомним в «Зверинце» о слонах, кривляющихся, как горы во время землетрясения. Тот же ход.
— Там же, о стихах Литься иливой рекой иливо ‹...›
Сравни смейево — месиво смеха, тесто смеха. Иливо — всё льющееся.
В заключение Ю. Олеша восклицает:
Эпос, эпос, новый эпос! Да здравствует Хлебников, создатель новой русской поэзии.
Воспроизведено по:
Jean-Claude Lanne. Velimir Khlebnikov: Poète Futurien.
Paris: Institut D’Études Slaves. 1983.
P. 235–262; 402–409.
Перевод В. Молотилова
Благодарим Г.Г. Амелина, В.Я. Мордерер и
Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за редкое по бескорыстию и своевременное содействие web-изданию.
Словарь выборочного перевода*** иноземных заимствований
на руссейший, по Н.И. Харджиеву, язык:
скандальный → бешено-сладкий
иллюзия → блазýнья | маннь
теорема → бугóиск
традиция → бывáва
ординарность → бытáва
поэтическая система → ведáва
константа → векыня
торговая марка → величава
информация → верéль
термин → вéрень
термины → вéрязь
реальность → вéроста
константа → вéроста
доминирующая литературная школа → верхáрня
практика → вещедéя
конструкция → видожизнь
трансцендентность → внéродь
психосоматика → волебрó
ὄντα → воявль
хронономия → временель
традиция → всегдава
универсальность → вселеннáва
мировая гармония → вселеннель
композиция → всутствие
оппортунист → вчерáхарь
анализ → выиск
процесс → вылязень
дискурс → вымолвь
жанр → выпыт
категория → дейёл
радикал | экстремист → дерзáвец
стиль → деюга
синтез → дóлево
геометрия → доломерие
эпоха → дóльза
архаика → древлезём
ансамбль → единéбен
символ → зáзовь
фонема → звучея
форма → зовéль
архитектоника → зодчбá
конфигурация → зриязь
аспект → зрыня
базовая теория → камнепрáвда
абстрактная фигура речи → колослóва
концепция → лýчшадь
культура → людоятие
эксперимент → мнóвие
гармония → многозвугодье
вариация → множáва
материя → можáва
теория-предположение могвá
метод → можбá
статус → можéль
метафора, метафоричность, метафоризация → морóль
антиномия → незь
нейтральность → ничтвá
абстракция → ничтимéя
классификация → нынёж
проекция → озерцáя
поэзия → певáва
модальность → перекóн
литература → письмёж
парадигма → прáвязь
консерватор → прошлéц
проект → продýма
модель → разумнядь
риторика → речёжь
формула → роковыня
автономия → самовизнá
композиционный центр → сердь
структура → слáда
неология → словéль
модуляция → струинá
ситуация → сущёл
типографская продукция → тисьмó
имманентность → тутóба
норматив, стандарт → улоýм
интеллигенция → умнечество
литературная школа → учáрня
иллюзии → хотежи
элемент → частерик
авторитет → чтязь
идея → этотá
был бы невозможен без справочного пособия
В.П. Григорьев. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта.
М.: Наука. 1986 г. С. 124–164. здесь
————————
*** Самодельные переиначивания, как то
ситуация → здессь (ничего особенного) | здеснь (достаточно тревожная) | здесть (ужас что такое) и т.п. приходится приберечь до установления связи с Ж.-К. Ланном хотя бы через посредника (здесть ещё та).




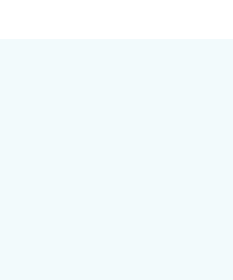 оэтическая система (ведава) Хлебникова как единебен изысканий в областях языка и времени беспримерна. Многолетние усилия по решению поставленных задач обеспечили её неуклонное совершенствование, а двунаправленность поиска потребовала безукоризненного всутствия, способного изгладить различие между бытием и языком — точнее, между воявленной
и певавной вымолвью (в первом случае “вещи” окружающего мира таковы, какими представляются обыденному сознанию,1
оэтическая система (ведава) Хлебникова как единебен изысканий в областях языка и времени беспримерна. Многолетние усилия по решению поставленных задач обеспечили её неуклонное совершенствование, а двунаправленность поиска потребовала безукоризненного всутствия, способного изгладить различие между бытием и языком — точнее, между воявленной
и певавной вымолвью (в первом случае “вещи” окружающего мира таковы, какими представляются обыденному сознанию,1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()