Н.Э. Радлов




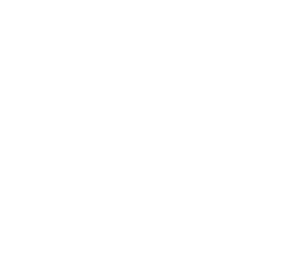 ужчина, лет тридцати пяти, нормально сложенный и серьёзный, грунтует холст цинковыми белилами, старательно вычерчивает на нём чёрный квадрат и, обрамив, вешает на выставку за полной подписью и с приложением краткой, но настойчивой рекомендации. Другой — молодой ещё человек, скромный и воспитанный, хороший семьянин и сын “интеллигентных родителей” делает чернильную кляксу на листе бумаги, сосредоточенно дует на неё сверху, снабжает своим именем и фамилией и отсылает в редакцию журнала для распространения по России в количестве двух тысяч экземпляров.
ужчина, лет тридцати пяти, нормально сложенный и серьёзный, грунтует холст цинковыми белилами, старательно вычерчивает на нём чёрный квадрат и, обрамив, вешает на выставку за полной подписью и с приложением краткой, но настойчивой рекомендации. Другой — молодой ещё человек, скромный и воспитанный, хороший семьянин и сын “интеллигентных родителей” делает чернильную кляксу на листе бумаги, сосредоточенно дует на неё сверху, снабжает своим именем и фамилией и отсылает в редакцию журнала для распространения по России в количестве двух тысяч экземпляров.Меня не интересует сейчас теоретическое обоснование этой деятельности. Я хорошо знаю, что найдётся третий интеллигентный и здоровый мужчина, который подвергнет критическому анализу оба произведения, установит на страх врагам наличие новой формы, с удовлетворением отметит “утверждение живописного материала”, в случае если таковой привлечёт его внимание, или восторженно возвестит об “отрицании материала”, в случае если таковой окажется недостаточно обнаруженным. Я предчувствую также, что, обладая широкой эрудицией, он не преминет указать на связь этих достижений с “формой” Сезанна, Пикассо и Брака, подчеркнув однако национальную смелость утверждения в одном случае и национальный пафос отрицания в другом. Без сомнения, от него не ускользнёт и бросающаяся в глаза зависимость обоих от русской иконы и творчества Ал. Иванова... Нет, меня мало интересует это сейчас. Семь лет тому назад, когда я писал первую из помещённых в этом сборнике статей, я еще чувствовал иначе. В молодости мир кажется ограниченнее и проще. С годами он раскрывается во всей своей загадочности и безграничности.
Не только мир в целом, но и каждая его часть. И человеческая глупость казалась мне определимой, я старался охватить ее границы и указать своё место.
Сейчас я верю в ее волшебное многообразие и безбрежность.
Я знаю, что нет такого выявления человеческой воли, направленной на материал, которое не получило бы места в какой-нибудь глубокомысленной эстетической теории. Меня не удивляют ни эти рассуждения, ни даже та торжественная серьёзность, с которой апологет “нового искусства”, много лет предводительствовавший ему в боях, печатает в солидном журнале, что оно „внутри себя сложено из элементов настолько противоречивых, что ни примирить их, ни даже найти какое-нибудь единство в этом новом искусстве нельзя”.
Я принимаю, как должное, когда убеждённый проповедник и толкователь нового искусства, на пятый год своей деятельности с невозмутимым достоинством заявляет, что „вряд ли можно найти такое сознание, которое не то чтобы указало всему своё место, но даже восприняло и поняло бы всё происходящее”.1![]()
Сейчас я хладнокровен ко всему этому, но меня искренне и глубоко волнует другой вопрос: я ищу определить те психологические предпосылки, на которых строится эта практическая и теоретическая деятельность, иронией судьбы поставленная в связь с художественным творчеством человека. Какие-то особые способности или особый духовный строй необходим для неё. Почему ни я сам, ни целый ряд нормально развитых, культурных и более или менее одарённых людей не может сосредоточиться на этого рода занятии и принужден влачить позорное существование в стороне от авангардов современной художественной мысли? Виной ли этому ограниченность наших изобразительных дарований? Вряд ли. Трудно, конечно, быть судьёй самому себе, но в минуты увлечения мне представляется, что и у меня хватило бы природных способностей на то, чтобы покрыть хорошей чёрной краской не один аршин холста и расплескать по бумаге целую бутылку чернил.
Нужна ли исключительная трудоспособность? По-видимому, нет. Покрыть холст одной краской несомненно легче, чем сложной комбинацией красок, да ещё в расчёте на определённый эффект каждой из них. Кроме того, если даже это утверждение неверно по отношению некоторых произведений, устроенных из железа, дерева, стекла и других туго поддающихся обработке материалов, всё же надо иметь в виду, что понятие трудоспособности не исчерпывается признаком количества потраченной энергии.
Так, мы не называем трудоспособным человека, восемь часов подряд играющего в преферанс, несмотря на изнурительность этой умственной работы.
Изобретательность! Предвижу, что именно это слово будет мне брошено с презрением. Прекрасное слово, которое должно взорвать все мои вопросы, откинув меня самого в беспросветную тьму обывательской косности. Руки прочь от священных изобретений, новых форм, “организующих сознание” и “формирующих мир”!
И всё-таки я позволю себе усомниться в этом термине. Более того, я считаю, что именно с ним произошло одно из наиболее печальных и значительных недоразумений.
Дело в том, что основной признак понятий изобретательности, выдумки, инвенции, всякого рода умственной изворотливости, заключается в преодолении некоторых препятствий, будь то утилитарные требования, как в технике, или условности правил, как в игре. Именно, поскольку даны трудно осуществимые задания, — напр. создать нож, который срезал бы волос, не повреждая в то же время кожи — изобретение безопасной бритвы представляет значительное творческое достижение. Если бы однако этих практических заданий не существовало, то изобретение аппарата, который мог бы резать волос, но мог бы его и не резать, мог бы повреждать кожу, но мог бы ее и не повреждать, не встретило бы никаких трудностей и не потребовало бы никакого особенного дарования. Между тем в области изобретения новых форм дело обстоит именно так. Молодому человеку говорят: сделай что-нибудь: он издает неожиданный звук, и на основании непредвиденности этого поступка его квалифицируют как изобретателя.
Нет, ни силой дарования, ни его особенностями, ни трудолюбием, ни смелостью выдумки не объяснить деятельность этой касты людей. Эти признаки слишком незначительны, они не покрывают всей группы и, изредка, встречаются у людей другой категории.
Но есть какая-то гораздо более значительная, потрясающая, колоссальная особенность духовного уклада, глубоким клином врезающаяся в самую гущу людей искусства, откидывающая на версту друг от друга одинаково одарённых и не одарённых, одинаково культурных и не культурных. . И какой стихийной силой должно обладать это свойство! Всю энергию весёлого и здорового человека, все жизненные силы, кипящие в нём, она подчиняет, скручивает, выбрасывает на бездушный, глухой как стена, неумолимый фетиш: чёрный квадрат или круг, железную палку или окаменелую пружину. Талант, иногда чистый и яркий, в жертву ей распластывается обездушенный, ослеплённый, стелющийся по гладкой поверхности безглагольной, безукоризненно пустой доски.
Человеческую мысль, безграничную в своих дерзаниях, в своём стремлении в заоблачные выси и фантастические глубины, она сковывает схоластическим льдом, разбивает и выставляет на показ и на посмешище её обескровленные, остекленелые куски.
Запах разложения, трупный, гниющий запах схоластики окружает ореолом, отгораживает от живого человечества непроницаемой, удушливой завесой всю эту деятельность новаторов. Схоластики, ещё не виданной в этих предельных, обнажённых во всей своей доктринёрской сухости формах, но хорошо знакомой уже искусству XIX века.
Barbus VIII года республики и немецкий классицизм конца XVIII века, Chevelus 1830-го года, прерафаэлитизм назарейцев и англичан середины столетия, Grandes Barbes 1848 года, неоимпрессионизм — всюду, где на место творческого энтузиазма являлись доктрины и системы, искусство, подточенное рассудочной теорией, мертвело, опадало и разлагалось. Но, всё-таки, во всех этих системах оставалось зерно жизни. И немецкие классики, и прерафаэлиты, чувствовали, боролись, пели, страдали и любили. Быть может, почти помимо их воли, их искусство — в веках оставленный отпечаток их человечности, их духовной и душевной жизни.
В новом искусстве этого нет. Душевная жизнь вымерла бесследно. В этом его основная, грандиозная, невиданная особенность.
Его душевная опустошённость, его беспримерная кристаллическая, дистиллированная бездушность — основной признак и основная причина его существования.
И в художественной практике, и в художественной теории. Потому с ними не надо говорить, как не надо говорить с покойниками, даже если они, бряцая цепями, гуляют вокруг своих могил.
Но о покойниках говорить можно.
Я приведу в пример крупнейшего из них. Величие смерти не позволяет мне давать примеры, которые могли бы нарушить серьёзность момента. Один из самых крупных сейчас в России изобразительных талантов — Вл. Лебедев. С его дарованием можно было бы завоевать мир. А, между тем, его искусство не доходит даже до широкой публики. Косность толпы? Несомненно нет. Публика принимает даже экспрессионизм, потому что в его нечленораздельных, истерических выкриках чувствуется биение крови. Даже футуристическую дребедень, поскольку в её престидижитаторстве иногда есть жизнь, хотя бы и цирковая.
Но творчество Лебедева безупречно мертво.
Ни единое дыхание жизни не пронеслось над его невиданной в России виртуозностью. Когда он пишет стекло — он делает шедевр. Оно прозрачнее, хрупче, стекляннее самого стекла. Можно преклониться перед его стеклом, но почувствовать нельзя ничего, потому что сам художник ничего не чувствует.
Лебедев — блестящий карикатурист. Он подметит всё, что должно броситься в глаза, утрирует то, что достойно утрировки, опустит то, что должно быть опущенным.
И его карикатуры совершенно не смешны. Они великолепны, но они не смешны, потому что смех — это чувство.
Что же говорить об остальных?
Какой фантастической душевной пустотой должна обладать группа молодых людей, объединившихся в “творческий коллектив”, чтобы в продолжение долгих месяцев сколачивать из досок, картона, проволоки, слюды нелепейшее сооружение, бесцельное и ненужное, как выветрившийся скелет издохшей лошади! Какая неслыханная, беспросветная скудость чувства в педагогических системах, из года в год преподающих “наращивание краски” и лессировки!
Каким плоским, мёртвым и до конца изжитым должен казаться мир “исследователям”, развивающим новые органы восприятия, (затылок, спину), вместо того, чтобы попытаться открыть на него старые испытанные глаза, глаза Тициана и Рембрандта!
Художественное творчество лишилось одного признака: одушевлённости творческого акта, „суггестирования в мир” человеческой личности, и сразу рухнуло всё. Рухнули границы между искусствами и границы между искусством и всякой другой деятельностью. Делать сапог и делать картину стало тем же самым; различие только в материале и форме.
Мастер иглы, делаешь ли ты жилетку или офорт, — ты в равной степени работник искусства!
Ясно ли намечаются отсюда выводы теоретику “нового искусства”? Конечно, нет! Ему надо с размаху упереться в стену, чтобы почувствовать тупик. И ударившись, он поворачивается с непоколебленной торжественностью и заявляет:
— Оказывается, это был тупик!
И нацеливается головой в соседнюю стену.
— Оказывается — супрематизм в тупике. — Несомненно. Это было ясно и пять лет тому назад. Но голова, предохранённая схоластической бронёй, не страдает от этого удара.
Оказывается — „кубизм в тупике и футуризм лопнул от собственного напряжения” (Архипенко). Прекрасно! Голова только крепнет от упражнения. Оказывается — „гуща новой буржуазии предпочитает шантан, кинема, сыщицкие романы”, — с великолепной горечью констатирует орган Ильи Эренбурга («Вещь» №3), после того, как открыв Америку в Америке (№ 1–2) он восторженно приветствовал обновление искусства через кинема, шантан, движение и пролетарскую революцию. Пострадала ли от этого его голова? Правда, журнал прекратился, стена дала трещину, но схоластическая броня только уплотняется.
Но это детали. Частные случаи частного недомыслия вульгарно и безответственно мыслящих людей.
С современным искусством произошло более показательное и более прискорбное недоразумение.
Когда окаменевшее в схоластике, выжатое как лимон, давно разучившееся смотреть на природу, искусство оказалось лицом к лицу с машиной, с „индустриальной вещью”, — оно немедленно распростёрлось ниц и потащило на заклание ей баранов. Кто был первым из этих баранов, для нас неинтересно. Можно уступить эту честь хотя бы Леже, ввиду его настойчивых на это притязаний (см. анкету в № 1–2 той же «Вещи»).
Но неужто никто из этих новаторов не обратил внимания на то, что ничего принципиально отличного в преклонении перед красотой машины от старого преклонения перед красотой в природе — нет?
Что многовековой опыт, очистивший и утвердивший понятие автономной художественной красоты, оказался, таким образом, начисто вычеркнутым, и снова осилила наивнейшая и вульгарнейшая точка зрения на искусство, фиксирующее природные красоты?
И чему научились художники от машины в результате своего нового преклонения перед красотой?
Заметили ли они те существеннейшие её свойства, которые действительно могли служить — не объектом изображения, но — примером искусству: её целесообразность и совершенную точность её работы? Попытались ли они, прислушавшись к этому своевременному и громкому окрику, сделать своё искусство тоже целесообразным, т.е. подчинить свои средства своим целям и тоже совершенным, т.е. уточнить свою технику и свою форму?
Ничуть не бывало!
Пародируя прельстивший их блестящий предмет, художники взяли от машины её средства и её формы, лишив их смысла и забыв о целях вообще. Очки были торжественно надеты на хвост. “Оказалось”, что через эти очки они не стали видеть лучше.
Я привожу этот эпизод, потому что в нём колоссальная разрушительная сила схоластической бездушности достигла своего высшего выражения. Новому искусству удалось обездушить не только художника, не только творческий процесс, не только природу, но даже машину.
Зрелище смерти не может внушить весёлых мыслей, но оно не должно препятствовать жизни жить дальше.
Когда я вижу, как загнанные в угол обнаруживают один за другим свои “тупики” и начинают пожирать друг друга, как гниющие беспредметные цилиндры Леже прорастают натуралистическими головами (в его картине «Мать и дитя», репродуцированной в «Kunstblatt», январь 1923 г.), как на посмешище всему культурному миру маскированные таланты Пикассо и футуристов обнажаются во всей своей пошлости и скудости, — я радуюсь, предчувствуя грядущее, близкое освобождение искусства.
Быть может, мою радость разделят со мной те, кто остались в живых из молодых художников. Только для этого я и пишу эти строки.
Меньше всего я рассчитываю в чём-нибудь убедить кого-либо из своих противников.
Потому что я хорошо знаю, что убеждает только личный опыт. И только факт собственной смерти окончательно убеждает человека в том, что он смертен и не живёт более.
Май 1923 г.
То же самое нам рассказывали раньше о Бурлюке, демонстрируя на тут же выставленных примерах его весьма скромное умение писать этюды общепонятным способом. Все характеристики творчества Гончаровой почти исчерпывались словом “талантливо”.
Здесь не место исследовать, как дошла критика до такого состояния. Индивидуализм, „выявление личности в искусстве” перенесли центр тяжести с произведения на личность художника. Теперь мы вкушаем плоды этого „выявления личности”. Критика берёт на себя компетенцию господа бога, художник выставляет не картины, а куски своей личности, обыватель покупает художника, а не его произведение.
Сейчас мы присутствуем при последнем акте трагикомедии индивидуализма. Ex machina явятся Беккер, Клевер и Штемберг и одним ударом распутают интриги нового искусства, заявив свои притязания на новый Парнас, ибо они несомненно тоже талантливы, поверьте, не менее талантливы, чем Пуни, Бурлюк и Розанова. Под занавес последний “супрематист”, “пневмолучист” или другой молодой изобретатель плюнет последним окурком на обрамленный кусок обоев и тоном мученика потребует преклонения перед этим выявлением личности...
Меня спросят: неужто безразлично, талантлив художник или нет? Конечно, не безразлично... для художника. Ибо, если он талантлив, ему легко создать хорошее произведение, если он не талантлив — трудно, и если он бездарен — вероятно, невозможно. Но предметом критики являются только факты искусства: известное направление искусства или художественное произведение. Эстетическая критика определяет ценность и связь художественных идей и произведений.
Вопрос о талантливости может интересовать лишь историческую критику, которая является вспомогательным орудием в руках “историка искусства и художников”.
Но место её — не на газетном столбце, и пишется она не для покупающих картины на выставках.
Поэтому вопрос собственно о футуризме был оставлен не решённым, окутанным тайной. Не решённым даже для себя, то есть для тех, кому надлежало прикрыть своим крылом ещё одно живописное направление. Было молчаливо условлено, что футуристы — молодёжь обещающая, ещё не перебродившая, не сознавшая себя полностью, частью заблудшая, но сильная и могущая вернуться на лоно родителей и радовать их новым опытом и раскаянием; нечто вроде блудного сына, за которым учреждён внешкольный надзор.
Между тем, этот вопрос необходимо было решить. Решить хотя бы настолько, чтобы понять, что футуризм может быть или принят, или отвергнут. Что, если футуризм принадлежит к искусству живописи, то понятие искусства живописи исчерпывается им, и все остальные течения и направления должны быть названы иначе? Ибо монархические притязания и определённость притязаний футуризма — это черты, единственные, может быть, черты, которые заставляют считаться с ним, как с известным цельным искусство пониманием, больше чем с направлением «Мира Искусства» или современной Академии Художеств.
Моё утверждение, что мне ясно положение футуризма в искусстве, что моё отношение к футуризму определённо и лишено надежд на непредвиденные откровения, вызовет, я знаю, скептическую улыбку. „Не отвергайте безапелляционно”... „Всё новое вначале отвергалось...” и т.д., и т.д... Нет ничего безнадёжнее этого скептицизма эстета, наблюдающего искусство современности с высоты исторических законов. В нём сказывается величайшее бессилие эстетической мысли, раздавленной историзмом, эстетическое неверие, прикрытое философской широтой взгляда, холодное равнодушие альтруиста...
Я не требую от критика рыцарского служения одному идеалу, мученичества или веры “quia absurdum”, но нельзя, исповедуя истину, верить в возможность другой, служить одному идолу и, на всякий случай, ставить свечи другому...
Вопрос о футуризме чрезвычайно усложнён самими футуристами. Слишком много различных художественных, не художественных и антихудожественных идей пользовались одной кличкой. Критик вправе выбрать любую из этих идей и утвердить именно за ней название футуризма. Я поступаю так же: из целого вороха спутанных, ничего общего между собой не имеющих художественных систем я высвобождаю одну, которая мне кажется единственно серьёзной, единственно имеющей все признаки системы, т.е. обособленного и цельного искусствопонимания.
Вторая, также чрезвычайно затрудняющая изучение черта — это склонность нашей художественной молодёжи к теоретизированию. Со свойственной всем недоучкам любовью к философским отвлечённостям, художники «Союза молодёжи», «выставки 0,10» и других подобных организаций услаждаются рассуждениями о “субстанции”, “реальности”, “концепции”, “вещи в себе”. В их теоретических исследованиях сквозит глубокомыслие гимназиста, проповедующего свои опровержения доказательств бытия божия или излагающего свою точку зрения на половой вопрос. Пуни и Ксения Богуславская убеждены, что говорят нечто умное и учёное, печатая в приложенном к каталогу выставки проспекте: „Картина есть новая концепция абстрагированных реальных элементов, лишённая смысла”. Подобными фразами, со столь убедительно звучащим окончанием, выражаются обычно мысли очень несложные и совсем не новые в более грамотной формулировке.
Таково утверждение презирающего знаки препинания Михаила Менькова: „Всякое искусство ценно своим творчеством повторять видимость недостаток искусства”, или Казимира Малевича: „Я уничтожил кольцо — горизонта, и вышел из круга вещей, с кольца горизонта в котором заключены художник и формы натуры” (сохраняю знаки препинания). И всё же подобные “мысли и афоризмы”, напоминающие по форме перевранную телеграмму, много симпатичнее и безвреднее, чем долгие научные рассуждения таких изобретателей новых художественных направлений, как Ларионов.
Я помню трактат его о “лучизме” и “пневмолучизме”, в котором ссылками на ультрафиолетовые и икс-лучи, на только что вычитанные, но не понятые законы оптики автор доказывал, что мы собственно видим не то, что видим, и призывал изображать не предметы, а какие-то невидимые излучения этих предметов. Подобные вещи, написанные слогом гимназических сочинений “о пользе и вреде воды”, печатались в больших и толстых книгах, иллюстрировались прославленной Гончаровой и, вероятно, читались той критикой, которая не хочет „отвергать безапелляционно”.
То, что больше всего смущало и смешило публику в футуризме, и за что больше всего футуризм заслуживает упрёка в нечестности — это названия картин. Надо быть критиком очень мудрым и очень серьёзным, чтобы не возмутиться до забвения всяких законов эволюции художественных идей, глядя на „студента путей сообщения”, составленного из трамвайных билетов, вилки и чернильного пятна, на „пейзаж с 3-х точек зрения”, на „живописный реализм футболиста — красочные массы в 4-м измерении”, и пр., и пр..
Всё это озорство, иногда обман, а большей частью глупость, это бесстыдство саморекламирования, любование своей невоспитанностью, эта фамильярность обращения с четвёртым измерением, с “вещью в себе” — черты, недостойные быть упоминаемыми в литературе об искусстве, как и всякая предприимчивая игра на запуганность и некультурность большой публики.
По крупицам приходится собирать то, что не имеет этих отталкивающих черт, выискивая немногое серьёзное, избегая приводить примеры, ибо почти на всём творчестве футуристов лежит этот отпечаток озорства и глупости. Надо откинуть решительно и бесповоротно всё, сделанное г.г. Бурлюком, Ларионовым и Кульбиным, ибо всё это неинтересно, бессодержательно и попросту скверно. Все эти иллюстрации и рисунки, украшавшие бесчисленные книги, в которых, увы, участвовали иногда и лучшие наши литературные имена, все претендующие на скандальность холсты, заклеенные ненужными предметами, картины Гончаровой, Розановой и др., лишённые всякой художественной идеи, распущенные, свидетельствующие о полном презрении художника к своему инструменту и годные только, как оправдательные документы талантливости автора... “Искания” вынесены в публику, в лабораторию вводят критику и смеются над ошеломлённостью обывателя, которому пробуют внушить, что настройка новоизобретенного инструмента столь же ценна, как и исполнение на нём художественного произведения.
Пользование эмоциональным свойством красок, отодвижение на второй план всего, что не действует непосредственно на чувство, — черты, присущие в той или иной мере творчеству многих художников, и, пожалуй, не в творчестве Джорджоне искать наиболее яркого выражения этого принципа. Но, во всяком случае, эпохе Джорджоне и более всего, несомненно, венецианскому искусству была свойственна идея „приближения к музыке”, идея, надолго затем вычеркнутая из целей живописи и возродившаяся в импрессионизме и, быть может, раньше и ярче всего в творчестве Делакруа. Развитие этой идеи дало нам Уистлера, Сотера и многих других, презрительно отодвинувших на последний план содержание картин и наводнивших каталоги выставок музыкальными терминами.
Но творчество Уистлера было только по-английски парадоксальным выводом из достигнутого уже французами. Этот вывод грозил довести идею „приближения к музыке” до абсурда; тем не менее, он был нужен Англии второй половины 19-го века, стране моралистической, исторической, героической, но менее всего “музыкальной” живописи. Франция — настоящая родина всей живописной культуры — не нуждалась в подобных парадоксах. Французы — всегда художники. В XIX столетии во Франции никогда не умирало искусство живописи, умение уделить содержанию ровно столько внимания, сколько оно заслуживает в картине. Здесь именно — та приближённость к музыке, которая свойственна живописи, и художественный такт указывал те границы приближения, перейдя которые, живопись теряет больше, чем приобретает, ибо, приближаясь к чужому, она отдаляется от своего.
История любит делать все логические выводы, возможные из данных посылок. Там, где эти посылки являются строго обоснованными, где нет сомнительных аксиом и утверждений ad hominem — исторический вывод создает события, обусловливающие развитие искусства. Из логических ошибок вырастают случайные пути, ведущие в тупик, часто особенно очаровательные неожиданностью извилин и крутостью обрывов, когда они случайны и проложены стихийным устремлением личности, а иногда пустынные и вымеренные, как городские тупики, когда они вычерчены сухим усилием искавшей их мысли.
Мы проследим ряд исторических силлогизмов, одной из посылок которых было “приближение к музыке”, а конечным выводом — небольшой эпизод истории искусства, завершающийся на наших глазах. Это — узкий, темноватый, не очень чистый, но прямой и вымощенный тупик; одно из разветвлений футуризма, которое я назвал бы “татлинским”, ибо имя футуриста Татлина должно стоять на самой высокой и видной, закрывающей выход стене тупика.
Я избегаю иллюстрировать примерами посылки и выводы истории, отчасти потому, что примеров этих слишком много, и сами творцы их делали всё, чтобы быть заметнее и надолго запомниться, а главным образом по причине, о которой я уже упоминал: большинство воплощений тех художественных идей, о которых идёт речь, запачканы нехорошей рекламностью, имеют наслоения нарочитой эксцентричности и поверхностной надуманности.
Пользование красочной гаммой, как воздействующей непосредственно на чувство, открывало искусству новые пути. Живописное содержание, т.е. та красочная идея, которая ставится в центре художественного замысла, сначала оттеснило, а затем и уничтожило идейное содержание картины. Явления стали равноценны для искусства, ибо каждое из них могло стать источником известной красочной идеи.
Искусству стало безразлично, что изображать, но всё же оно ещё изображало “что-нибудь”. Форма в узком значении слова, т.е. рисунок, оставалась тем сосудом, в который вмещалась красочная идея. В этом виде искусство живописи выливалось в систему, имевшую, несомненно, глубоко идущие аналогии с музыкой. Слово гамма употребляется в живописи не только в качестве метафоры; краска, как и звук, подчиняется тону, рисунок аналогичен ритму; мы можем уподоблять мелодии живописное изображение чего либо; понятие фактуры вполне точно отвечает тембру. Это искусствопонимание испытало дальнейшие превращения, которые являются логическим выводом из одной ложной посылки.
Этой посылкой был принцип полной аналогичности двух искусств. Каждая краска в отдельности и каждая комбинация раздражают нас специфическим образом, мы переживаем при созерцании их эстетические впечатления того же характера, как и при восприятии звуков. Возможна подобная, чисто музыкальная живопись. Художественное творчество свёдется в этом случае к отвлечённому сочетанию красок, к “божественной игре” красками. Живопись эволюционирует подобно музыке, отказываясь от изобразительности.
Но теми же свойствами, что и краска, лишь в меньшей степени, обладает и линия. Эстетические эмоции, вызываемые в нас созерцанием законченной красивой линии или комбинаций изломанных, оборванных, пересекающихся или параллельных линий, быть может, менее остры, но так же несомненны, как и эстетическое переживание красочной гаммы. И эти эмоции могут стать материалом художественного творчества; последнее сведётся тогда к отвлечённой игре линиями. Линейный орнамент — один из примеров подобного искусства, весьма отдалившегося, несомненно, от искусства живописи. Однако, в линейной орнаментике мы имеем ещё, так сказать, элементарную ступень этой линейной музыки. Симметрия, повторность, ритм в чередовании частей — всё это элементы чисто мелодические; мы можем представить себе искусство, отошедшее от них в сторону большей углублённости и свободы пользования многоголосием для возбуждения более сложных и тонких эмоций. Орнаментика — это чисто декорационное ответвление особого, неосуществлённого полностью, искусства линий.
Однако, линией и краской не исчерпываются элементы воздействия на зрителя; искусство с этой целью может воспользоваться и формой, отвлечённой трёхмерной формой. Оно сделало это, всё с той же последовательностью, сначала изображая её и оставаясь на плоскости, затем — вынеся в пространство.
Искусство живописи последовательно выродилось в свободную игру отвлечёнными пространственными формами. Это — тот футуризм, примеры которого мы все видели в достаточном количестве.
Переход от плоскостной к пространственной игре формами составляет последние шаги по новому пути. Искусство, “изображавшее” отвлечённую форму, отказывается теперь совсем от изобразительности. Если в красочной и линейной музыке и в игре плоскостными формами мы ещё могли уследить связь с родоначальником их — искусством живописи, в общепринятом значении этого понятия, то в новом, “татлинском” искусстве она теряется окончательно. Бессмысленно оставлять за ним название живописи, но весьма неосторожно также думать, что футуризм открыл новое, до сих пор неведомое искусство. Ибо — каковы его признаки?
Оно лишено изобразительности, действует непосредственно на чувство, не вызывая образов, его материалом в отвлечённом смысле является пространственная форма, в конкретном — дерево, железо и прочий строительный материал. Искусство, обладающее такими признаками, известно давно, это — архитектура. Она отличается от татлинского искусства только утилитарностью и размерами.
Эти отличия футуризма легко обозначить, по аналогии с живописью, термином “станковая архитектура”.
Через музыку живопись приходит к архитектуре. Ещё одно, быть может, лишнее доказательство близости первого и последнего из этих искусств.
Итак, перед нами новое ответвление искусства. Любопытно попробовать догадку, насколько жизненным оно окажется, какое будущее ждёт его впереди. Рассматривая внимательно это новое искусство, нетрудно заметить, что различия между ним и архитектурой не вполне исчерпываются указанным. Если мы представим себе любое архитектурное произведение уменьшенным до размеров выставочной вещи и лишённым утилитарности, мы несомненно уловим в нём те же черты, которыми обладает линейный орнамент, в отличие от того потенциального линейного искусства, на которое мы указывали. В этой миниатюрной архитектуре мы заметим те же мелодические, как мы их назвали, элементы — симметрию, параллельность, математическую пропорциональность, ритм в чередовании частей... Татлинское искусство является теоретически значительно более сложным, способным возбуждать более богатую и тонкую гамму ощущений...
К несчастью, однако, только теоретически.
Ибо — посмотрим, как выявляется фактически творческое начало в новом искусстве. Основой последнего является предположение, что известная комбинация пространственных форм должна вызвать в зрителе эмоцию специфического характера. Только при таком условии возможно художественное творчество в этой новой области, мыслим какой-либо художественный принцип, который бы сделал искусством развязную и бессмысленную игру. Предположение футуризма об эмоциональных свойствах отвлечённой формы — допустимо, как мы уже говорили. Однако, нетрудно убедиться, что эмоциональная сила формы чрезвычайно незначительна. Гамма чувств, возбуждаемая в зрителе сочетанием отвлечённых форм, столь узка, и чувства эти так неотчётливы, что искусство, вооруженное только этими средствами, должно быть идейно крайне бедным. Попробуем лишить любую архитектурную идею качеств, связанных с размерами архитектурного произведения, т.е. её величия, грандиозности, парения к небу или приниженности, интимности, и всех ассоциирующихся идей, внушаемых назначением строения. Мы увидим, как мало останется материала для эстетических переживаний художника и зрителя. В татлинской же “станковой архитектуре” искусство во имя свободы отказалось и от последних, элементарнейших эстетических воздействий, от требований симметрии, пропорциональности и т.д.
Эта чрезвычайная безоружность искусства заставляет художника искать новых средств, нового материала для возбуждения эмоций. Таким материалом может явиться только оставшаяся еще неиспользованной фактура — тембр. Всё то же стремление истории заключить цепь силлогизмов привело искусство к этому последнему выводу.
Теоретически несомненно, что само по себе сочетание известных материальных поверхностей, фактур, может служить средством эстетического воздействия. Дерево в соединении с металлом, верёвка и кусок картона раздражают нас известным образом уже в силу свойств самого материала. Если не ошибаюсь, параллельное движение в музыкальном футуризме завершилось исканиями — чисто теоретическими, слава Богу, — новых инструментов, производящих новые, неведомые до сих пор искусству шумы и скрипы.
Однако и привлечение эмоциональных качеств фактуры не в состоянии помочь делу по причине очевидной бедности и неотчётливости такого рода эмоций, и, главным образом, вследствие невозможности отвлечь фактуру от конкретного предмета, т.е. картонность, деревянность и металличность от данного куска картона или железной проволоки, подобно тому, как цвет может быть отвлечён от краски. Художник втыкает вилку в свой холст и называет этот поступок актом художественного творчества.
Мы подходим вплотную к стене тупика, ибо несомненно, что выхода из этого состояния уже нет. Совершенно очевидная бедность формальных идей ставит искусству пределы, убивающие всякую возможность творчества. Художественная мысль делается настолько робкой и неуловимой, что практически падают границы между произведением искусства и произведением природы. Приходится привлекать сложнейшие теоретические рассуждения, чтобы доказать, что данное сочетание отвлечённых форм и фактур неслучайно. А сама необходимость доказывать наличность формальной идеи в произведении искусства — разве не свидетельствует о крайней незначительности и нежизненности такого искусства?
Между тем, на наших глазах происходит следующее явление: на выставку выносится комбинация пространственных форм и фактур, называемая художником, если он честен и серьёзен,— “opus” такой-то и, если он молод и невоспитан, — „портрет жены художника”. Возможно, что при создании этого произведения художник руководился какой-либо идеей, которая заставила его именно в этом направлении комбинировать куски железа и картона, возможно также, что именно созерцание своей супруги возбудило в нем эмоции, разрешившиеся этим необычным путём. Допускается ещё одно предположение, что автор выставленной работы талантлив.
На основании этих трёх предположений и руководствуясь общей снисходительностью к молодёжи, свойственной всем, страдавшим в молодости за свои убеждения и к старости забывшим об убеждениях вообще, критика призывает нас не отвергать художника и отнестись серьёзно к его работе.
Попробуем подойти к выставленному произведению, отбросив на время все теоретические глубокомыслия, отказавшись от оценки личности художника, забыв о законах эволюции художественных идей, попробуем, одним словом, оценивать непосредственно и безусловно только ту художественную вещь, которая должна подвергнуться нашей оценке, и нам придется высказать суждение приблизительно такого характера:
Я вижу нагромождение предметов различных форм и материальных поверхностей. Эмоции, переживаемые мною при созерцании этих предметов, существенно не отличаются от эмоций, возбуждаемых во мне любой комбинацией предметов, например, находящихся сейчас на моём письменном столе. Данное сочетание форм воспринимается мной, как случайное, я не вижу той внутренней необходимости, из которой оно закономерно вытекало бы. Идея, которой руководствовался автор при созидании именно этого произведения, не только не внушается мне им, но даже не воспринимается мной при самом активном созерцании. Будучи убеждён, что моя эстетическая восприимчивость нормальна, я оцениваю с точки зрения художественности выставленный предмет, как негодный и ненужный.
Несомненно, возможен случай, при котором наблюдающий описанное произведение не пришёл бы к указанному выводу. Зритель с особо развитой эстетической чувствительностью, быть может, сумеет воспринять художественную идею, почувствовав достаточно сильные и отчётливые эмоции при созерцании верёвки и куска железа. Футуристы верят, что именно они обладают этим качеством и что, очевидно, в будущем и средний обывательский глаз может развиться до этой остроты (ибо иначе незачем было бы устраивать публичные выставки). Естественно, что в таком случае вся наша современная живопись оказалась бы за бортом „парохода современности”, ибо для этого будущего ценителя станковой архитектуры, навязчивость идеи в современном нам художественном произведении была бы невыносимой и целый ряд пластических элементов, составляющих сейчас неотъемлемую принадлежность живописного произведения — излишним. Поэтому-то футуризм может быть или отвергнут целиком, если мы убеждены в известной ограниченности и предельности развития художественного зрения, или принят полностью, как единодержавный. В таком случае искусство должно пережить революцию исключительную, не имеющую аналогий в истории его, от палеолита до наших дней.
Критика, интересующаяся талантливостью художников, упускает из виду это обстоятельство. Она не говорит ни да, ни нет, не отрицает футуризма, но и принимает его лишь в том популяризованном виде, в котором он ещё напоминает живопись и идёт на любые компромисы из желания быть обласканным.
Футуризм — сухая ветка пышного дерева искусства. Сухая, но плотно выросшая из ствола.
Говорят, если обрубать сухие ветки, дерево растет легче и цветёт пышнее. Но сделать это может только тот, кто убеждён в своём умении отличить ствол от мёртвой ветки и не боится резких движений, ибо стоит на твёрдой почве обеими ногами.
1916
Без особых предлогов революция не происходит
и потому разум выводит всевозможные предложения.
Худ. Казимир Малевич. . От Сезанна до Супрематизма.
Изд. Отд. Изобр. Иск. Наркомпроса.
Крайние левые группы художников, так называемые футуристы, испытывают сейчас, как руководители художественной жизнью Республики, несомненную неловкость и неуверенность. Оно и понятно. Ведь единственным потребителем футуризма в дореволюционную эпоху был тот окончательно пресытившийся художественными впечатлениями, развращённый класс общества, из среды которого вышел и первый изобретатель итальянского футуризма — Маринетти.
Ради этого зрителя, ради щекотания его притупленных нервов, надевались жёлтые кофты, размалевывались пейзажами физиономии и практиковался эстетический садизм, выражавшийся в площадной ругани и кощунствованиях с эстрады.
Футуризм, говоря языком современных художественных теоретиков, был искусством классовым, и все черты, свойственные такого рода искусству, присущи в интенсивнейшей степени и ему. Быть может, такое утверждение покажется парадоксальным тому, кто смущён этой новой формой классового искусства, удовлетворявшей эстетическому любопытству буржуазии, так сказать, “от противного”. Но такая неожиданность формы не должна пугать исследователя. Наоборот, в этом вырождении, может быть, в самом сконцентрированном виде, проявляются типичные черты явления. Ведь бывает же “сухая” форма холеры, на первый взгляд тоже как будто противоречащая обычному представлению о данной болезни.
В доказательство классового характера футуризма, сошлёмся на „кастовую замкнутость жрецов искусства”, на деятельность, направленную к „пропагандированию великих идей”, на стремление к острой индивидуализации и другие черты, которыми характеризуют буржуазное художество О.М. Брик и Н.Н. Пунин в своих, ниже мной цитируемых статьях.
Находясь в зависимости от определённого класса, художник естественно выработал и определённый подход к теоретическим вопросам искусства, применяясь к своей роли в данном обществе.
В изменение своего художественного credo он мог сообщить на заумном языке: — „макакака”, а на вопрос, почему к картине приклеен окурок, ответить: — „А это — четвёртое измерение”.
Со времени революции положение изменилось круто. Ни жрецы, ни дармоеды, согласно свидетельства Брика, коммуне не нужны. Каста творцов, занимающихся „пропагандированном великих идей”, оказалась за бортом. Кроме того, рабочий и крестьянин не позволяют говорить с собой на заумном языке, так как не причисляют это занятие к „деятельности общественно полезной”. И к четвёртому измерению пролетарий, привыкший „измерять пространство приводными ремнями”, не питает безусловного доверия.
Пролетарий требует определённой работы и определённых объяснений.
Удовлетворить этим требованиям, не изменив в корне своего отношения к искусству, оказалось трудным. Некоторая часть футуристов, слишком тесно связанная с своим прошлым, сочла за лучшее продолжать служение буржуазии за пределами Республики. Работа других, как свидетельствуют некоторые случаи с постановкой памятников, не встретила сочувствия; третьи, наконец, по большей части из примкнувших к крайней группе впоследствии, работают в добрых старых измерениях, находя для выражения своих мыслей язык вполне вразумительный. Примеров этому много, особенно в творчестве плакатов последнего времени.
Что касается объяснений, то здесь положение оказалось особенно затруднительным. Так как революция, по наблюдениям художника Малевича, „без особых предлогов не происходит”, то разум теоретиков, естественно, начал выводить „всевозможные предложения”. На этих предложениях, которым посвящен ряд изданий Отдела Изобразительных Искусств, мы и хотим остановиться, ибо они не только заслуживают, но и требуют нашего внимания, обращаясь непосредственно к нам, ко мне, т.е. к людям в достаточной мере искушённым в разговорах на отвлечённые темы искусства. Ведь не для рабочих же и крестьян издан в ограниченном количестве экземпляров на прекрасной меловой бумаге этот изящный журнал,2![]()
А поскольку обращаются ко мне, я считал бы невежливым не отвечать.
Правда, напечатано в «Изобразительном Искусстве»,3![]()
Остальные соображения О.М. Брика, направленные против буржуазного художника, менее убедительны, ибо основаны на явном недоразумении. „Сапожник делает сапоги” etc... „А что делает художник?” — спрашивает Брик: — „он ничего не делает; он творит”. „Неясно и подозрительно”.
Неясность действительно существует, но подозревать следует не художника, а самое постановку вопроса.
Ведь для того, чтобы получить конкретный ответ, следует и вопрос ставить в более конкретной форме.
Под термином “художник” понимаются люди столь различных профессий, что исчерпывающее перечисление всех видов этого рода деятельности не достигается и цитированным мною выше определением труда художника.
Если же спросить, что делают такие-то художники или художники такой-то профессии, то от собеседника можно ждать и вполне определённого ответа, напр.: такие-то пишут стихи, такие-то делают портреты, А — сочиняет доносы, Б — расписывает на своей левой щеке трёхмачтовое судно etc...
И если, на основании такого ответа, о ком-нибудь из них и можно сказать, что они не делают “общественно-полезное дело” и не исполняют „реальной работы, требующей особых способностей”, то разве о художниках последней категории.
Умелые и работающие художники найдут себе место в коммуне, художникам неумелым и неработающим там места не должно быть. Это — исчерпывающий итог статьи Брика. О новом искусстве или о новом художнике здесь нет ни слова.
Наоборот, действенный футурист Малевич в своих статьях и брошюрах разрабатывает вплотную вопросы нового искусства.
Впечатление некоторого трагизма выносишь из чтения его статьи «Наши задачи» («Изобразительное Искусство»4![]()
Что касается новаторства, то обосновывается оно всё тем же классическим силлогизмом: критика всегда поносила гениальных художников, пока их искусство было ново; критика поносит нас, пока наше искусство ново; следовательно — мы гениальные художники. Ссылка на учебник логики в этих случаях заменяет полемику. Я позволил бы себе по поводу Малевича ссылку также и на другие учебники. Не считает ли Отдел целесообразным, проповедуя борьбу с индивидуализмом, подвергнуть и индивидуальный стиль Малевича некоторой корректуре в смысле приближения его к требованиям внеклассовой грамотности?
Попытку говорить о новом искусстве по существу делает Малевич в своём очерке «От Сезанна до Супрематизма», на котором я остановлюсь подробнее, из боязни, что не всякий найдёт в себе силу разобраться во „всевозможных предложениях” автора. Этим предложениям свойственна одна черта — сравнительная элементарность мысли при чрезвычайной запутанности формы. Поставим, как рекомендует Малевич в своём эпиграфе, под контроль “экономии” „все творческие изобретения систем” и не будем растрачивать энергию на расшифровку таких пассажей:
Искусство за последние десятилетия эволюционировало от изобразительности к выявлению чисто живописных (“декоративных” в широком понимании термина) ценностей. Суть в том, может ли искусство, отказавшись от всяких предметных — вернее, образных — ассоциаций, путём комбинирования отвлечённых пространственных форм на плоскости или в пространстве, отвлечённых красочных пятен или материальных поверхностей (фактур), или наконец комбинированием всех этих элементов создать эстетическую ценность, способную вызвать в зрителе переживание специфическое и понятное, т.е. уясняющее тот принцип комбинирования, который руководил автором в его „познающей”, „уясняющей” мир (согласно словам Н.Н. Пунина) художественной деятельности. Малевич предполагает, что это возможно, я считаю это маловероятным и на основании тех примеров беспредметного творчества, которые репродуцированы в «Изобразительном Искусстве», и на основании опыта другого искусства — поэзии, которая в лице даровитейших футуристов ведь решительно уже отказалось от безобразного творчества, не довольствуясь комбинированием словесного материала, но, наоборот, решительно перейдя к сильнейшей интенсификации образности, как свидетельствуют прекрасные произведения Маяковского.
Опуская полемические места, мы можем резюмировать содержание его статьи «Искусство и пролетариат»5![]()
Художественный памятник, — свидетельство определённого классового сознания, но во всех прекрасных художественных произведениях (даже «Леда» Корреджо), есть нечто, что „носит в себе следы глубочайшей человечности”, а следовательно покрывает собой черты классового сознания. Отрицая эстетическую эмоцию, как основу художественного восприятия, Пунин считает последнее основанным на познавательном процессе и определяет его следующим образом:
Познание мира происходит в художнике и в зрителе через все те средства, которые свойственны именно данному роду искусства, поэтому изучение свойств этих средств, (так — стихии живописи для живописного искусства) и даже профессиональное их изучение, необходимо для развития искусства, очищенного от привнесенных классовым сознанием вне-художественных элементов. Искусство пролетариата — искусство внеклассовое, поэтому оно с наибольшей серьёзностью отнесется к этому моменту.
Эти мысли следует только приветствовать; они в одинаковой степени направлены и против прежней, “широкой публики”, искавшей в искусстве вне-художественных ассоциаций, и против тех новаторов, которые забывают, что искусство не может быть ограничено игрой материалами, а путём организации материала должно вести к познаванию мира.
К сожалению, Пунин не ограничивается этим. В его статье и в его лекциях встречаются места, которые несколько противоречат логичности всего остального. Таковы доказательства жизненности искусства и его процветания во внеклассовом обществе — положения, которые, ввиду отмечаемой Пуниным „глубочайшей человечности” искусства и пр., казалось бы и не требуют дальнейшего обоснования. Между тем, полемика автора с другими теоретиками социализма основана на ошибке, тем более досадной, что сама исходная точка полемики компрометирует учение социализма.
Пунин опровергает мысль, что „трудовая, голодная демократия”, „пролетарий, привыкший измерять пространство приводными ремнями”, отвергнет искусство, оттолкнёт его, как времяпровождение, доступное только тем, кто в силу тех или иных причин может позволить себе такую роскошь, как „конденсированье свободной энергии для такого пассивного восприятия, какое обусловливается наличностью эстетической эмоции”.
Но разве обновлённый социализмом мир будет царством голода и притупляющего безысходного труда?
Мне вспоминаются злейшие враги социализма, которые всё человечество будущего представляют себе как заводский комитет, а всю духовную жизнь, как какое-то сплошное заседание тарифной комиссии союза металлистов. В стране свободного труда возможность „конденсирования свободной энергии” будет доступна каждому, каждый будет в состоянии пользоваться плодами культуры и жизни.
Те чрезвычайно “консервативные”, безобидные выводы, к которым приходит Н.Н. Пунин, рассуждая об искусстве, иногда по-видимому тревожат его. Этим объясняю я его протесты, направленные против понятия эстетической эмоции, и выдвигаемый ими познавательный принцип творчества. Хотя указания на то, что всякое творчество познавательно, мало убедительны, но пусть так. Что изменилось от того, что художественная деятельность и художественное восприятие причислены к актам познавательным?
Ведь все равно и Пунину приходится характеризовать художественную деятельность ещё и по другим признакам, — как творчество, не имеющее утилитарного значения. Ведь всё равно этого рода познавательная деятельность и для Пунина остаётся специфической, и различия между научным и художественным познаванием пребывают в силе.
Не всякое познавание есть акт художественной деятельности. Следовательно, встаёт вопрос, чем характеризовать этого рода познавание? Ведь не материалом же? Иначе познавание чертёжника и рисующего художника было бы одним и тем же.
Вопрос передвинут в сторону. Новый термин (б. м., чрезвычайно ценный) водружён на место свергнутого, но всё равно зияет загадочная пустота, которую приходится заткнуть чем-то очень близко напоминающим прежнее, “эстетическое”.
Искусство, как деятельность уясняющая мир — это прекрасное определение, обнимающее собою всё творчество. Или почти всё. Труднее всего применить его к творчеству беспредметному; не правда ли? Это чувствует и Пунин, и он старается выйти из этого положения, или указать на пути к выходу, использовать которые до конца ему мешает его добросовестность теоретика. Этот несколько софистический выход намечается в статье.
Искусство познаёт мир, к которому принадлежит ведь и сам материал искусства. Итак, познавание мира может происходить через познавание самих средств познавания. Искусство, другими словами, в этом определении становится деятельностью уже гносеологической.
Я думаю, Пунин прав, воздерживаясь от этого окончательного вывода, но не сделав его, он не сделал ничего для обоснования беспредметного творчества в качестве деятельности не только экспериментирующей, подготовляющей.
Хорошие художники всех времён и народов и в глазах Пунина остаются хорошими художниками. Искусство и для него остаётся тем же вечным (не будем бояться этого наивного слова), единым искусством. Эксперименты научные делаются таковыми, только если они ведутся не ощупью и не случайно; и в искусстве “изобретения” будут художественными, только подчиняясь всем тем же извечным законам, заключённым в творческом инстинкте человека. Быть может, следует в эпохи искания новых ценностей поощрять даже эксперименты без осознанной цели, даже изобретения ради изобретения.
Но, определяя художника прежде всего как изобретателя, не боится ли Пунин вопросов своего пытливого товарища по журналу: „Что делает художник? — Он ничего не делает; он изобретает. Неясно и подозрительно”.
1920
Я знаю, трудно подавить в себе конкретные представления — и, прежде всего, видишь Татлинский проект уже осуществлённым в мире реальном. И вот тут — наш быт обладает свойствами чрезвычайной назойливости — идея Татлина порождает в современниках тяжёлые ассоциации. Я, например, не могу отделаться от представления о членах исполнительного органа, принуждённых в силу временного отсутствия электрической энергии ручным способом вращать свою пирамиду.
Я сознаю однако, что образное мышление обывателя неуместно при рассматривании исторических проблем, как не нужны и эстетические оценки для историка художественных фактов.
Н. Пунин, „считая себя в известной мере компетентным в вопросах искусства”, квалифицирует „этот проект как международное событие в мире искусства”.7![]()
![]()
Не соглашаясь, таким образом, с точкой зрения большинства зрителей, — я в то же время не нахожу необходимым тащить искусство в область политических и социальных доктрин, как это делают теоретики меньшинства с целью оправдать своё собственное пребывание в ней.
Поэтому я попробую ограничиться ответом на вопрос: какова связь беспредметного творчества с предшествовавшими ему явлениями художественной жизни, и — каковы возможные выводы из него (так трудно отказаться от прогнозов), для будущего нашего искусства.
Картина — это холст, украшенный красочными пятнами. Впервые для XIX века новые цели искусства с ясностью формулировал Гоген. И с этого момента новая точка зрения, со всё возрастающей скоростью и всё обостряясь в своей исключительности, проникает сквозь толщу всего европейского искусствопонимания, руша вековые предрассудки, создавая новые оценки и новые группировки художественных доктрин. Я обхожу вопрос об эстетической ценности формулированной с крайней односторонностью новой идеи и всех дальнейших выводов из неё. Почти на наших глазах первые попытки перенесения центра творческого интереса с сюжета на организацию красок в картине, оставив за собой скромные опыты деформирования природы ради этого принципа — выродились в искусство отвлечённой игры абстрагированных от предмета красочных пятен. В доктринёрской последовательности, с которой живопись Гогена через Матисса и присных дошла до живописи Кандинского, Матюшина и Малевича — несомненно, тяжёлая наследственность века, до отказа насытившего теориями свое искусство.
Колорит первый подвергся разложению. Это естественно. Эмоциональная сила цвета — больше чем линии или бескрасочной формы, поэтому эмансипация материала от изобразительной функции в сторону функции чисто декоративной скорее всего осуществилась в области колорита. Но разложение изобразительного начала не могло остановиться здесь.
Автономный колорит игнорировал форму, деформируя её, поскольку это было желательно ему, не считаясь с её законами и её волей. Отсюда — свобода и подкупающая лёгкость этого искусства игры красочными комбинациями, отсюда и сладковатый привкус дамского рукоделия.
Живопись Сезанна — громкий и грубоватый мужской окрик: в работе над освобождением краски не принижать трёхмерной сущности предмета.
Сезанн ещё полон изобразительности, иногда даже сюжетности, и всё же он стихийно захвачен общим движением, но с какой-то жаждой подвига он идёт труднейшими путями, ища безусловных и отчеканенных законов соотношения формы и цвета. Всякое цветовое определение окрашенной формы соответствует лишь одному, данному её состоянию. Интенсификация краски или другие её видоизменения необходимо искажают и форму. Вот — предпосылки его безусловного и закономерного искажения формы.
Но Сезанн не только дал толчок к принципиальному деформированию пространственного явления, он одним из первых в XIX веке увидел в краске не только её цветовую функцию и красящее свойство, но ощутил эмоции, возникающие от восприятия самого вещества, теста краски, фактуры.
Отсюда открывались искусству, стряхнувшему с себя оковы изобразительности, возможности новых и новых использований материала.
Эволюция шла путём строго логического развития основного принципа. Первой почувствовала себя свободной самая отвлечённая функция мазка — цвет, затем жажда эмансипации захватила линию, трёхмерную форму и, наконец, конкретное красящее вещество.
В тот же водоворот естественно были втянуты и другие пластические искусства. Ведь живопись, трактуя на плоскости трёхмерную форму, всё же “изобразительна”, поскольку основной материал искусства, — мазок, — даёт представление о пространстве, хотя бы и не ассоциирующемся с предметом. Скульптура дала новому искусству вынесенную в пространство форму для новых, казалось бы, безграничных возможностей свободного комбинирования.
Живописная фактура („шум” по неудачному выражению талантливого, но плохо знавшего русский язык, Вл. Матвея), как ни разнообразны возможности её модификаций, всё же однотонна в силу свойств составляющих её элементов. Отсюда сравнительная узость гаммы возбуждаемых материалом эмоций, ограниченность колебаний температуры живописной поверхности, говоря языком будущих теоретиков искусства. Естественно, искусство потянулось к новым материалам, к новым вещам. Из архитектуры был извлечен этот фактор эстетического воздействия, специфический именно для данного искусства — эмоции сопоставления материалов.
Мазок, лишённый способности изображать, пластическая форма, лишённая имитативной функции, и куски материи, от которых отнята их конструирующая, зодческая ценность, — стали материалом единой творческой деятельности. Живопись вытекла из рамы; скульптура вмазана в плоскость; усмирённая архитектура обрамилась и стала станковой. Три искусства, вовлечённые в общую катастрофу, распались в хаосе своих первоначальных элементов. В этом — стихийная и трагическая расплата за отвлечённую духовность искусства XIX века, презревшего своё третье сословие — ремесло. Это — логически неизбежное завершение процесса. Восстала материя, мстя своим поработителям. И разве это не величественная месть?
Вывеска с куском сапога, старая пружина от будильника, набитая на сигарный ящик, и самоварная труба, вставленная в оштукатуренную доску с вылизанной языком надписью РСФСР.
Ведь это только новое искусство, только новая форма творчества, законный потомок, старая кровь Парфенона и Сикстинской капеллы!..
Да и в чём различия? В материале? Он тот же, даже более разнообразен и обработан с не меньшей любовью. И творческое воображение не менее пылко; и в комбинировании материалов не меньший расчёт. Ведь Альтман, наверное, не согласится влизать на красную дугу слово “Дамс” вместо необходимого ему РСФСР, и Лебедев глубоко бы пострадал, если снабдить его башмак буквами РСФСР вместо категорического и ясного “Дамс”...
Биологи отказываются определить понятие жизни.
Правда, на этом основании трудно убедить человека, что его родственник остался после железнодорожной катастрофы тем же, каким был до неё...
Погрузившись в хаос, копошатся лишённые слова, слепые части вещей. Искусство распалось в прах, оно вернулось к своей исходной точке, пройдя в полстолетие обратно свой тысячелетний путь.
Разложение и конец? Но момент зарождения новой жизни неуследим. Между реакцией и акцией нет мёртвой точки острого угла, а есть закруглённость постепенного поворота.
Мёртвая материя гниёт; в ней назревают внутренние процессы, питая новыми соками семена новых всходов. Процесс гниения мало эстетичен, но не надо забывать его таинственного жизненного значения. Мы — современники — должны гордиться. Нам выпало на долю присутствовать при величайшем таинстве. Новая жизнь рождается.
Да не смутит нас эстетическое несовершенство молодых отпрысков. Новорожденные, да ещё преждевременно, редко бывают красивы.
Когда первый футурист на первой своей щеке начертал небольшой натюрморт и пошёл гулять по Кузнецкому мосту, разве это не был первый человек четвертичной эпохи, зататуировавшийся открыватель искусства живописи? И те три, нагромождённые друг на друга куба, что красуются у подножья Невской башни, — ведь это — та же каменная баба, тот первый упавший с неба камень, которому поклонялись финикияне в своих пустынях. Придет Дедал и прикосновением руки вложит жизнь в бесстрастную материю.
И всех торжественней и позднее всех (ведь человек четвертичной эпохи ещё не знал зодчества) возникает из хаоса искусство архитектуры. Тянется к солнцу нелепый и наивный, чудовищный зверь с радиотелеграфным рогом на голове и законодательным собранием в распухшем брюхе.
Что в том, что первая живопись на негрунтованной щеке ещё мало совершенна, и у будущего монумента вместо Дедала сидит, обменивая сапожные шнурки, армянин, которого ещё самого надо тронуть рукой, чтобы оживить мыслью? Пусть первое архитектурное сооружение рухнет, как Вавилонская башня! Всё равно. Великое совершилось. Три искусства, ввергнутые в первозданный хаос, воскресают снова, медленно и торжественно дифференцируясь, расчленяя материю и организуя её каждое по-своему, каждое для своих целей.
Через десять лет искусства, став опять искусствами — живописью, скульптурой, зодчеством, — не сможет легкомысленно возомнить себя духовной дисциплиной, надолго, быть может, сохранит память о своем происхождении из материала, из вещи, из предмета, из этого хаоса, который как будто с глубокой иронией назван “беспредметным”.
1921
Журнал в яркой обложке с геометрической беспредметностью, напечатанный на прекрасной бумаге со всеми исхищрениями современной типографской техники, с первого взгляда напоминает не то прейскурант велосипедных принадлежностей, не то каталог кинематографических фильм.
Внешность выдержана в глубоком соответствии с идеями издателей.
„Деловому органу” импонирует индустрия, новые изобретения... газетный язык, спортивные жесты, искусство для него — „создание новых вещей”, потому журнал есть в то же время „вестник техники, прейскурант новых вещей и чертежи вещей ещё не осуществлённых”.
Форма, таким образом, обоснована и целесообразна. Для вестника техники и прейскуранта естественны и рекламный язык и рекламные типографские приёмы.
Этим широким оповещением с заключённым в нём скромным каламбуром «Вещь» (Обже) на трёх языках открывает свою декларацию.
Прочитавший её (а прочесть её приходится, ибо она занимает первые четыре страницы журнала), узнаёт кроме того, что „мы присутствуем при начале великой созидательной эпохи, далее, что „пора на расчищенных местах строить” и наконец, что в настоящих условиях декларации вообще ни к чему: „скорей бросьте декларировать и опровергать, делайте вещи”.
Какое прекрасное предложение! Действительно, кому не надоели манифесты, поглощавшие всю творческую энергию созидателей и иллюстрации принципов, давно заменившие живое художественное творчество...
Но недаром рекламный язык стал провербиальным. Читателя, загоревшегося надеждой улицезреть настоящую, нужную вещь, просто и практически полезную или как-нибудь воздействующую на чувства или ум, ждёт тяжёлое разочарование.
Страницы «Вещи» украшены все той же татлинской башней, безнадёжно надоевшими упражнениями Глэза и целым кладбищем никому не нужных высохших скелетов выставки «Обмоху» или «Обмошю», как предупредительно переводит „деловой орган” для не знающих русского языка „молодых сил Европы”.
Как согласовать эти рекламируемые прейскурантом образцы с заявлением о наступлении „созидательной эпохи” и необходимости „строить”?
«Вещь» делает это просто. В той же вступительной декларации имеются, правда, лишённые особых типографских эффектов, несколько фраз, дающих новому искусству логические права на существование. „Однако ж не следует полагать, — предупреждает журнал, — что под вещами мы подразумеваем предметы обихода”. Далее — успокоительное заявление: „мы не хотим ограничивать производства художников утилитарными вещами”, ...„примитивный утилитаризм чужд нам”.
Правда, старое искусство говорило то же самое. Оно тоже рекомендовало художникам делать вещи, objets, Gegenstande, и тоже не требовало чтоб они сосредоточивались на производстве мышеловок или кофейных мельниц.
Но это было „прошлое в прошлом”, которому «Вещь» милостиво прощает его прошлое существование. Теперь же, в нашу созидательную эпоху, законно именно искусство «Обмошю» и по следующим причинам:
Во-первых «Вещь» зовёт делать „современное в современности” (последнее указание в виду затруднительности передвижения во времени мне казалось бы излишним). Далее, современность в представлении «Вещи» слагается из таких признаков, как развитие индустрии, машины, новые изобретения и пр. Основной же чертой современности «Вещь» почитает „Торжество Конструктивного Метода”.
Поскольку же, как указывалось выше, «Вещь» чужда примитивного утилитаризма, и художникам предоставляется организовывать поэмы и картины, так сказать, не указывая способ их употребления, то и искусство «Обмошю», строящее вещи исходя из конструкции и обработки материала, почитается достопримечательным проявлением человеческого гения.
Это построение грешит, к несчастью, несколькими неясностями, главным образом в характеристике современности и в определении звучного и многозначительного термина “конструктивный метод”.
Дело в том, что обработка материала и конструкция вещи в современной индустрии неотделимы от утилитарных целей, преследуемых данной вещью, ибо этими целями как раз определяется и выбор материала, и способ его обработки. Поэтому я боюсь, что „примитивный утилитаризм” современной индустрии делает вопрос о применении конструктивного метода в искусстве несколько более сложным, чем это думает «Вещь» и художники „строящие новые вещи”.
Игнорировать это обстоятельство рискованно, что для большей убедительности я позволю себе пояснить примером. Если я изобретаю новую мясорубку, то при всех высоких достоинствах обработки материала и совершенстве простой и конструктивной формы, моё изобретение не сможет рассчитывать на успех и распространение, если она лишена одного признака — способности рубить мясо. И если я, сконструировав свою вещь, напишу по примеру автора знаменитого «Памятника», воззвание к инженерам-мясорубщикам с предложением делать расчёты для применения новонайденной формы, то могу быть заранее уверенным, что моё воззвание останется без ответа.
Я начал не с того конца...
Поиски нового искусства начались не с того конца. Цель определяет всякую деятельность, будь она утилитарна или не утилитарна. С определения цели новой художественной деятельности и надо было начать. А о целях в манифесте «Вещи» имеются только следующие мысли, а именно, что „всякое — организованное произведение — дом, поэма или картина — целесообразная вещь, не уводящая людей из жизни, но организующая её”. Поэтому делается несколько поспешное и не вполне убедительное заключение: „Вещь считает стихотворение, пластическую форму, зрелище необходимыми вещами”.
Организованные произведения организуют жизнь... конечно, это чрезвычайно звучно и торжественно, но, к несчастью, совершенно безответственно и пусто. Можно не соглашаться с стремлением искусства “украшать” жизнь, но этот термин имел определённое содержание. Против организации жизни спорить трудно. Почему не предложить искусству “обмошю” просто “упорядочить жизнь”?
Но беда не в том, что редакция организованного делового органа предполагает сорганизовать деятельность, смысл которой никак не определён; и не в том даже, что поиски нового искусства начались не с того конца. Корни “обмошю” — глубже. Ошибочно, что новое искусство вообще ищется, что художники “зовутся” делать „современное в современности”.
Дело в том, что современное, или ощущается само или не ощущается. Искать его так же нелегко, как близорукому искать своё пенсне. Если оно на носу, то искать его нечего, если оно упало, то надо просить зрячего поднять его, ибо найти его самому трудно, не раздавив предварительно каблуком. Редакция «Вещи» нашла современность в индустрии и машине. Аполлон и Парфенон XX в. как изображает фотография — корма парохода, вытащенного на сушу.
Случается, что человек, ища пенсне, поднимет с полу окурок, но не следует сажать его себе на нос. Думать, что индустрия и машина характеризуют современность по отношению к западной культуре — наивно, по отношению же к России — по крайней мере бестактно.
Будем называть вещи своими словами. Искусство Татлина, Обмоху, Леже и др., беря от машины принципы нахождения форм и игнорируя в то же время целесообразность, т.е. первичный, основной признак, причину существования самой вещи, совершает то, что в самом тесном и прямом значении термина называется стилизацией. Мы переживали недавно период реставрации старых стилей, и занятие это называется сейчас ретроспективизмом, эстетизмом и др. нехорошими словами. Быть может, оно действительно достойно упрёков, но ему нельзя отказать в осмысленности и некоторой поучительности. Кроме того, в результате производились “вещи”, сохраняющие некоторую, быть может не высокую, объективную ценность.
Новые художники, плоть от плоти неврастеников эстетов и декадентов прошлого века, вместо камзола XVIII столетия облачившиеся в костюм инженера или куртку рабочего, так же бескровно и ненужно ищут “стиль” и стилизуют современность. Лишённые культурности, которой обладало старшее поколение, лишённые какой бы то ни было школы, опустошённые духовно, они преисполнились почтения перед циркулем, пропеллером, Дизелем, как дикари, восхищённые цилиндром и манжетами. С манжетами на ногах, новыми инструментами они “конструируют” и “организуют”, погрузив искусство по горло в теорию, педагогику, манифестирование и наивнейшую стилизацию.
«Вещь» — печальный результат этой деятельности — единственная вещь, которую до сих пор создало наше новое искусство. Если искусство стилизуется под машину, то художественный журнал естественно стилизовать под прейскурант и рекламу.
Я хотел бы в отношении журнала сделать ещё несколько замечаний. Во-первых, хороший прейскурант должен быть составлен не только в деловом тоне, но и с некоторой добросовестностью. Нельзя, например, поперёк страницы давать объявления о том что, „жажда порядка — высшая потребность человека, она родила искусство”.
Если первая часть утверждения говорит лишь о скромных духовных запросах редакции, то вторая свидетельствует о чрезвычайно низкой осведомлённости по вопросу о происхождении искусства. Далее, даже увлекаясь газетным языком и восторгаясь кинематографом, не следует печатать переводы, составленные по образцу кинематографических программ, издававшихся в Гельсингфорсе, вроде следующего:
Не зная голландского языка, я предполагаю всё-таки, что разобрался с текстом легче в оригинале..
Наконец, пользуясь так широко всеми типографскими эффектами, вероятно можно было бы достигнуть уменьшения числа опечаток, сильно затрудняющих чтение журнала.
Во-вторых, что касается рекламы, то и та должна быть не только кричащей, но и несколько сорганизованной, и, скажем, менее бесшабашной. Рекламирование на смежных страницах нескольких конкурирующих фирм вносит большую путаницу в сознание покупа.., виноват, читателя.
О значительности «Вещи» мы узнаём с первых же строк журнала. Его появлением характеризуется такое историческое событие, как прекращение блокады России. Далее к читателю обращается Маяковский: „Вам говорю я, гениален я или не гениален” и т.д., затем Кусиков: „Мы пришли строить. Нет искусства кроме имажинизма и имажинисты пророки его. Слава нам”.
Затем — художники, отвечающие на вопросы анкеты с большой деловитостью.
На этом фоне симпатично выделяется объективная сдержанность восторженного пропагандиста негритянских оркестров из барабанов, хрипучек и пр... Описания изобретённых им новых танцев полны достоинства и скромности: „Движения, автора: 1. Личные причуды собственного (!) тела”,... и т.д. (стр. 25).
В отделе «Искусство и Общественность» «Вещь» с упрёком констатирует „кликушество и хлестаковщину” части русской эмиграции.
Деловой тон «Вещи» действительно далёк от кликушества, но, кажется, этот недостаток покрывается избытком хлестаковщины.
Эмигрантщина остаётся эмигрантщиной: от дурной вороны — дурное яйцо, говорили греки, и какими бы перьями ни украшалась ворона, при каких обстоятельствах, с какими намерениями и на чей счёт ни снесла бы яйцо, оно всё равно будет дурным.
1922
Печальное свойство всего нового заключается в том, что оно со временем делается старым.
Выставка объединения трагична и страшна, как восковая маска, обладающая всеми чертами молодости и силы, кроме одной — жизни.
Как и всюду, есть несколько хороших работ, свидетельствующих о дарованиях, а иногда и умении авторов: несколько мастерских рисунков и иллюстраций Лебедева, две-три гравюры на линолеуме Козлинского, два недурных пейзажных наброска, сделанных года три назад, давно уехавшим за границу Пуни, пожалуй, один пейзаж Боднека. Интересным осталось сооружение Татлина, виденное на выставке лет восемь назад, не изменились к худшему и два наброска Тырсы, имеющие, кажется, такую же давность.
От остального — выносишь впечатление катастрофы.
Юткевич рабски и беспомощно копирует Анненкова, Самохвалов — “alter ego” Петрова-Водкина. Кодак берёт за образец Карева, десяток других сколачивают татлинские рельефы. Одно из двух: или новые “течения” заключаются в пересказах, или они сосредоточены, главным образом, на выставке «Мира Искусства».
Но подражание — не так уж страшно; в удачных условиях и при выборе лучших образцов оно может стать школой.
Хуже — принципиальное трючничество. Буквы, расклеенные на холсте в парадоксальнейшем беспорядке, надоели определённо. Эмоции, которые я ощущаю, глядя на них, далеки от эстетических, но не приближаются и к познавательным. Поле холста ограничено, алфавит европейских языков тоже. Ничего особенно нового в этой области не изобретёшь. Живописью футуристическими уголочками занимаются уже только безнадёжно бездарные люди. Имевшееся под руками сырьё, в виде дерева, осколков стекла, железа и пр., исчерпывается ввиду начавшегося ремонта Петрограда.
Нужно что-нибудь новое. Например, живопись на двух сторонах толстого стекла или рисование по линейке бессмысленных прямых на бессмысленной поверхности, или просто вставленная под стекло фотография из журнала.
От всех этих попыток остаётся впечатление неудавшихся несвоевременных острот. Не смешно.
Более того, в этом есть подлинный трагизм пустоты, зияющей духовной и нравственной опустошённости. Татлин с интуицией талантливого человека дал действительно исчерпывающее выражение этой современности в своей огромной доске, безупречно и наглухо закрашенной одной тупой, безнадёжной, бессмысленной розовой краской.
У Тэффи есть рассказ о кухарке, весь жизненный смысл которой заключался в том, чтобы удивлять нанимателей неимоверным требованием жалования. Одна наивная парочка, не знавшая толк в кухарочьем труде, наняла её, не удивляясь цифре жалования и ценам на продукты. В несколько дней кухарка увяла, не будучи в состоянии удовлетворять своё единственное стремление — изумлять.
Судьба футуристов — судьба этой кухарки. Несколько лет всё шло прекрасно. Устраивались выставки с изумительными названиями, писались беспримерные по философской глубине и безграмотности манифесты, публика шарахалась, футуристы жили полной жизнью. Но пришла парочка не знавших толк в художественном труде управителей и приняла их всерьёз. Манифесты стали утверждёнными учебными пособиями, произведения футуристов наполнили музеи, им были поручены памятники и доверена высшая художественная школа. И через пару лет предприятие кончилось крахом.
От всей свернувшейся практической, теоретической и педагогической деятельности футуристов осталась одна, имеющая сейчас хождение, ценность — “левизна”.
Мы подождём ещё парочку лет и заколотим футуризм прекрасной, прочной доской Татлина.
1922
Сменялись люди и сменялись точки зрения на цели и методы преподавания, противоречия заострялись, неразрешённые вопросы обрастали новыми сомнениями, и вопрос об Академии грозит стать “академическим вопросом”.
Между тем, его надо решить в ту или другую сторону. Быть ли Академии или Вхутемасу, воспитывать ли художников или „обделочников”, но что-нибудь делать надо, иначе художнической молодёжи грозит серьёзная опасность. Ибо в настоящих условиях она стоит перед дилеммой: не мудрствуя лукаво, фабриковать “Айвазовских” для НЭПа пли мудрствуя лукаво, изобретать беспредметные предметы.
Сейчас этот вопрос поднят заново. Будем надеяться, что эксперименты последних лет подготовили почву для серьёзного его решения.
Когда четыре года тому назад петербургская Академия была упразднена, декларация, подписанная восемью лицами, не имевшими к Академии никакого отношения и потому меньше всего способными судить о страданиях, которые она причиняла художникам, ещё тогда предусматривала единственный выход для искусства — организацию свободных мастерских на месте Высшего Художественного Училища. Эта мысль — сама по себе безукоризненная, за два года существования мастерских выяснилась как практически негодная. Конечно, одной из причин негодности явился неудачный персональный подбор руководителей, осуществлявшийся случайно и чаще всего по признакам, не имевшим отношения к искусству; но основной причиной неудачи была несомненно несвоевременность самого принципа. Государственная школа, не имевшая ни единого плана, ни единой программы, построенная на чисто индивидуальном подходе к целям и методам преподавания, не могла существовать в условиях нового строительства.
Когда этот период свободного преподавания оказался изжитым, и необходимость школы, не выпадающей из общего плана технически-профессионального обучения, стала ясной, вопрос художественной педагогики от полной беспринципности перескочил в обратную крайность. Казалось необходимым построить школу, аналогичную другим профессионально-техническим школам по целям и методам преподавания.
Согласно общим тенденциям времени, цели определялись как производство, причём с самого начала под этим термином понималось нечто, почти совпадающее с производством промышленным. Художественное образование, таким образом, строилось не по аналогии, а по образцу других примеров технического образования, отнимая от художественной деятельности характернейшие её признаки.
Забывалось, что продукт художественного производства имеет специфические цели своего существования, совершенно не совпадающие с утилитарными целями производства техники, точно так же, как не совпадает с ними и цель научного производства, т.е. новые достижения научной мысли. И что подобно тому, как от учёного нумизмата нельзя требовать производства монет, так не следует заставлять художника во что бы то ни стало сосредоточиваться на горшечном или переплётном деле.
Определение методов проф.-тех. худ. образования шло тем же, характерным для современной художественной идеологии, путём. Индивидуальный способ обучения оказался неприемлемым; на смену ему был выдвинут (защищаемый, главным образом, школой Штиглица) „объективный метод”, научно обоснованный, отрешающийся от всяких вопросов “вкуса” и “творчества”, от всяких эстетических оценок и рассматривающий творческий процесс как совокупность технических приемов.
В основе его лежат следующие мысли.
Независимо от своего идейного и формального содержания, каждая картина есть прежде всего плоскость с расположенным на ней красящим веществом. Возможно изучение произведений искусства как с точки зрения организации материала, так и со стороны “изображённого” автором. Этот метод изучения есть „эстетический материализм”; в науку об искусстве он входит как очень ценный приём исследования. К несчастию, однако, авторы „объективного метода” не ограничиваются этим. Предполагая творческий процесс аналогичным процессу изучения и путая, таким образом, объект изучения с объективной реальностью, они считают организацию материала исходной точкой творческой деятельности. Отсюда прямые выводы для педагогики. Надо обучить обращению с материалом; хорошо располагающий краску на поверхности и есть хороший художник.
Эта система уже реализуется в педагогике — учащиеся „лессируют”, „наращивают краску” и изучают спектр, старательно оберегаемые от “творчества”, натуры и воздействия вкуса.
Следует ли ждать, пока опыт даст свои результаты? Или вернее, позволительно ли производить над совершенно зелёной и некультурной молодёжью эксперименты, основанные на почти анекдотическом lapsus’e мысли?
Для тех, кого трудно убедить отвлечёнными рассуждениями, я позволю себе в более конкретной форме изложить построение педагогических выводов эстетического материализма или “объективного метода”, как предпочитают называть эту школу её представители.
Если поставить картину Рембрандта перед коровой, то, насколько мы можем предположить из нашего знакомства с психическим укладом животного, она сможет воспринять этот эстетический объект, как комбинацию пятен различной величины, окраски и яркости. Возможно, исследуя картину языком, она ощутит также различия “фактур”, поверхностей гладких и скользящих, корпусных, шероховатых и т.д. Я могу предположить, что введённая в Рембрандтовский зал Эрмитажа она, продолжая исследование зрительным и осязательным путём, сумеет разобраться в отличительных свойствах каждой из картин, а при большом навыке установить отличия рембрандтовского творчества в целом от творчества других мастеров и школ. Сведения, почерпнутые таким образом и систематизованные, составили бы прекрасный вклад в науку об искусстве. Деятельность коровы следовало бы приветствовать, если бы она остановилась на этом. Возможно, однако, что этого не случится. В результате произведённого опыта у неё естественно может сложиться представление о творчестве художника, как о комбинировании на плоскости различных материалов, разнообразных по окраске и состоянию поверхности. Этот взгляд на творческий процесс, составленный на основании определённого метода изучения или, вернее, способа восприятия, будет казаться воспринимающему совершенно неопровержимым, и элементы творческого процесса, оставшиеся не воспринятыми, естественно будут предполагаться несуществующими, ибо, в данном случае, и сам орган их восприятия отсутствует.
Если бы, далее, вдохновившись полученными результатами, указанная корова сделала попытку построения педагогической системы, то несомненно, в основу её было бы положено изучение приёмов сопоставления различных материальных поверхностей и красочных пятен. Успешное осуществление этой системы с неоспоримой очевидностью должно привести учащегося к созданию рембрандтовских шедевров.
Производство в указанном выше понимании как цель, — и объективный метод в понимании эстетического материализма, как приём, — лежит в основе тех попыток организации Вхутемаса, которые делаются сейчас в Петрограде во имя совершенно отвлечённой ненависти к Академии.
В одной из статей, посвящённых вопросам современного искусства, А.В. Луначарский, указывая на ненужность футуристического творчества, говорит, что Советская Россия приветствовала бы сейчас появление картин, по своей формальной и идейной значительности равных «Явлению Христа» Иванова или «Боярыне Морозовой» Сурикова. Эти слова — выражения определённого вкуса, разделяемого, вероятно, большинством любящих искусство людей.
Но из них надо сделать и практические выводы. Ал. Иванов кончил курс Академии, и Суриков кончил курс Академии. Мы знаем о творческих страданиях Иванова и убеждены, что в них повинна старая Академия (вероятно, впрочем, не в той степени, как это принято думать).
Новая школа должна быть построена иначе. Она не должна повторять ошибок старой Академии.
Это сознают все мыслящие об искусстве люди. Эта мысль легла в основу тех новых программ, которые в прошлом году осуществлялись Академией в условиях самого тяжёлого материального положения и ещё более тяжёлой борьбы с крайними “левыми”, находившими себе иногда неожиданную и интенсивную поддержку.
Существовать дальше в этих условиях школа не может. Вопрос о ней должен быть решён немедленно и окончательно.
Или Академия, учащая писать картины, развивающая способность восприятия и преподающая “творческие” приёмы, или Вхутемас, считающий, что Ал. Иванову было бы полезнее заняться переплётным делом, и что исторические картины Сурикова были бы лучше, если бы вместо писания с натуры он учился наращивать краску. Лучше отдать ребёнка чужой матери в надежде, что он сбежит от неё, когда она заставит его нищенствовать по трамваям, чем в продолжение долгих месяцев следить, как его медленно перепиливают циркулярами и распоряжениями на радость художественной бюрократии.
1922
Аргонавты, выехавшие в поиски за современностью, вернулись ни с чем. Часть их — дадаисты, дикие, — во имя очищения искусства скинувшие за борт своего ковчега все пары чистых, пристали к необитаемым островам и, раздевшись догола, орут дикарские песни вокруг упавшего с неба камня. Другие — в припадке истерии — пытаются кончить жизнь под колесами машины.
А полководцы “в отступлении”.
Пикассо выставляет натуралистические рисунки, “в манере Энгра”. Футуристы Kappa, Северини и др. работают под старое итальянское искусство.
Эпигоны, профессионалы манифестов и скандалов, слетевшиеся в Берлин вместе с мировыми спекулянтами и отбросами эмигрантщины на кровавые раны Германии, спешат на скорую руку поставить себе прижизненные монументы, чувствуя, что если не они сами, то кто же за них это сделает? И наши, когда-то неистовые “исты”, грозившие закидать музеи своими шутовскими колпаками, доживают преждевременную старость в собственном музее.
Футуризм, кубизм, супрематизм... отходят в вечность. Мир праху их. Не надо слёз! Они жили полной жизнью, пользуясь кредитом истории благодаря заслугам своих предков, и не уплатили своих долгов, впав в детство.
Правда, „дикие” будут ещё доплясывать, как курица без головы, свои последние канканы, и восхитившиеся „инженерией” строители вавилонских башен в последний раз воспоют хруст своих костей под оборотами винта. Маринетти на удивление дам изобретёт „одоризм”, сделав открытие, что его нос по-разному воспринимает различные запахи, а наши теоретики низшей ступени будут от времени до времени погружаться в „новую для них область мысли” (согласно признания Малевича: “супрематизм”) или в более знакомую им область политической спекуляции.
Это не важно. Экстремизм погиб. Окончательно и безвозвратно, во всём блеске своих конструкций и организаций, кинетизма и динамизма, фактур и живописных ценностей — всего того, что раньше носило искусство как привычные и не заявляющие о себе одеяния, и что теперь развевается угрожающим чучелом на плечах чиновников из Охобра.
Полвека назад яд вошёл в самое сердце искусства. Полвека назад, когда впервые вместо виноградного сока вдохновения, фантазии, экстаза, Дионис хлебнул extra-dry денатурата точных наук, искусство, ослепшее и обезумевшее, ринулось в пропасть материализма.
Точные знания, “методы”, “исследования”, “дисциплины” вытравили начисто душевную жизнь художника. Воображение было низложено и разложено на что-то, напоминающее “учёт и распределение”; вдохновение объявлено вне закона и сведено, кажется, к правильному пищеварению.
Собственно говоря, уже импрессионизм перестал быть изобразительным искусством. Художник не изображал, а делал оттиски. С творческой волей художника было покончено. Он стоял крепко привинченным к стативу аппаратом с одним огромным глазом, на ретине которого отпечаталась мёртвая, чудовищно распластанная природа, и с правой рукой на шарнирах теории и расчёта.
И дальше, принимая своё добровольное рабство за свободу, он зарылся в кучу давно парализованного и омертвевшего „живописного материала”, вычёсывая на удивление миру новые и новые его свойства, каждый раз оповещая об открытии новых делен и новых законов искусства. С той же кокетливостью, с которой раньше он носил свой берет и романтический плащ, он драпируется то в куртку рабочего, то в жреческие одеяния, иероглификой величественных терминов отгораживая свою деятельность от суда публики. Это развитие, или падение, шло с головокружительной быстротой. Что же странного? Искусство, потерявшее всякую связь с жизнью, гонялось за “современностью”, как собака за собственным хвостом.
Над свежей могилой хочется сказать несколько искренних слов утешения. Не жалейте о покойнике! Будем помнить, что Пикассо — хитрый выдумщик, но слабый рисовальщик и посредственный колорист, что итальянские футуристы — предприимчивые и бойкие дилетанты, не вышедшие за пределы приторной итальянщины XIX века, что наши новаторы не ответственны за низкий уровень, на котором стояло раньше наше начальное образование, и что девяносто девять сотых всего, что сделано новейшим искусством, может быть без труда исполнено любым гражданином Республики, имеющим свободное время и набор необходимых инструментов.
Граждане художники! проводив в места упокоения печальные годы художественных заблуждений и спекуляции, шарлатанства и безграмотности, не пора ли вспомнить о художественном творчестве? Не пора ли искусству вернуться к искусству? Ибо цели, причины и средства художественной деятельности не там, где их искали люди последних десятилетий.
Человечество запомнило имена Рембрандта и Фидия, Микельанджело и Рафаэля не потому, что они умели безошибочно изображать действительность (сотни профессоров всех академий мира были бы их счастливыми соперниками), не потому, что они “организовывали” на плоскости особенно восхитительные комбинации материалов (сколько удачливых соперниц имели бы они в этом деле!) и не потому, что они знали особенно тонко свойства материалов, умели „наращивать краску” или изобретать фактуры — (посредственный маляр или московское «Обмоху» дадут им сто очков вперёд). Ни глаз, ни рука, ни рассудок не делают художников.
Они — великие художники, потому что они полнее и глубже миллионов других людей воспринимали жизнь, умели чувствовать и умели передавать это чувство другим. Ибо в силе чувства, стихийно ищущего своего выражения, в глубине переживания, в запечатленной на веки веков душевной жизни творящего, в его любви и ненависти, в сострадании и жалости — единый и истинный источник искусства.
1923
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||