Виктор Эрлих


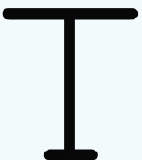 осле блистательного, но непродолжительного расцвета русский символизм был потеснён другими литературными течениями.
осле блистательного, но непродолжительного расцвета русский символизм был потеснён другими литературными течениями.Куда более активную и, пожалуй, более успешную атаку повёл на символистов новоявленный футуризм. Лозунгом этих мятежных представителей художественной богемы, которых на арену русской литературной жизни вынесла волна молодёжного бунта, стал полный разрыв с „удушающим прошлым”. Футуристы объявили войну кумирам благопристойности — „здравому смыслу и хорошему вкусу”.2![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Авторы футуристических манифестов не скрывали, что их призыв к отказу от русского литературного наследия относится и к авторам ближайшего прошлого. В сущности, самые гневные выпады идеологов футуризма направлены как раз против представителей символизма, о которых презрительно говорится как о плаксивых и разложившихся эпигонах.7![]()
![]()
Но футуристы расходились с эстетикой символизма отнюдь не по всем вопросам поэтики. Они полностью разделяли неприязнь своих предшественников к реалистическому искусству и твёрдую веру в высшую, пророческую силу поэтического слова. Белый противопоставлял „мёртвые символы” обыденного языка „живым” поэтическим образам; подобно ему, Велимир Хлебников проводил резкую грань между поэтической и “бытовой” речью.9![]()
![]()
Как уже сказано, теоретики русского символизма видели ценность слова не в нём самом, а в том, что оно подразумевает. В их поэтике, по точному замечанию Маяковского, „аллитерационная случайность похожих слов выдавалась за внутреннюю спайку, за неразъединимое родство”.11![]()
Теоретики футуризма начисто отвергли бодлеровскую теорию соответствий. Их совершенно не занимал ни мистический, ни социальный “внутренний смысл”. Для Кручёных или Хлебникова поэтическое слово не было ни средством передачи мысли, ни способом проникновения в “иной мир”. Не было оно и напоминанием о мифической молодости человечества,12![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Столь безоглядное отрицание психологизма может удивить противоречием взглядам признанного лидера западноевропейского футуризма Ф.Т. Маринетти. В своём знаменитом «Техническом манифесте футуристической литературы» Маринетти провозгласил главной целью новой поэзии отображение современного сознания языком механической эры. Новая поэтическая речь, свободная от оков традиционной грамматики — прилагательных, наречий, знаков препинания — должна была стать, говоря словами Альтенберга, „телеграфным стилем души”.17![]()
Действительно, эстетические позиции итальянцев и русских значительно разнятся в расстановке акцентов. Маринетти неизменно подчёркивал важность злобы дня. В современной поэзии, утверждал он, должен быть слышен пульс гигантских метрополий. Она должна воспевать „огромные толпы, движимые работой, удовольствием или бунтом ‹...› прожорливые вокзалы, проглатывающие дымящихся змей; заводы, привешенные к облакам на канатах своего дыма”,18![]()
Для теоретиков дореволюционного русского футуризма выбор темы не имел особого значения. „Подлинная новизна в литературе, — писал Кручёных, — не зависит от содержания. Новый свет, бросаемый на старый мир, может дать самую причудливую игру”.19![]()
![]()
Примат формы над содержанием — таков боевой клич раннего русского футуризма. Речевой знак мыслился как „самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей”.21![]()
![]()
![]()
Это посягательство на внятность речевого сообщения нашло выражение в так называемом “заумном языке”. Наиболее ярыми его проповедниками стали Кручёных и Каменский. Они пытались сочинять стихи, сплошь состоящие из произвольных сочетений звуков, и объявляли свои творения более совершенными и выразительными, чем „слащавые” стихи Пушкина и Лермонтова.
Однако если эти неудобоваримые эксперименты с бессмысленными комбинациями звуков можно рассматривать как творческую причуду, поэтические открытия В. Хлебникова свидетельствуют о куда более высоком уровне поэтической зрелости и виртуозном владении словом.
„Путеец художественного”,24![]()
![]()
![]()
![]()
Итак, лозунг самовитого слова был претворён в жизнь. Привычное соотношение между обозначающим и обозначаемым оказалось поставленным с ног на голову. В “бытовом” языке, как известно, знак подчинён объекту, который он обозначает. В хлебниковском “заумном” стихе объект является в лучшем случае слабым подобием знака; он заслонён причудливым взаимодействием потенциальных смыслов.
То, что справедливо в отношении референтов отдельных слов, применимо и к “референту” всей поэзии — внешнему миру. Выражая представления раннего футуризма о соотношении между искусством и действительностью, В. Маяковский писал в одной из своих статей, что искусство не есть копия природы, но стремление исказить природу в соответствии с тем, как она отражается в индивидуальном сознании.28![]()
![]()
![]()
Смелое новаторство футуристов и их настойчивые попытки подвести под него теоретическую базу не могли не оказать влияния на положение дел в литературоведении. Как показало время, влияние это было в равной мере и благотворным, и вредным.
Громогласные заявления футуристов о необходимости полной автономии поэтического слова были здоровой, хотя и несколько экстравагантной реакцией против пренебрежительного отношения к форме, всё ещё не исчезнувшего со страниц учебников по истории литературы, а также против произвольно-мистической трактовки поэтического образа, чем грешила символистская критика. Теория самовитого слова и её применение на практике ярко показали бесперспективность чисто тематического подхода к поэзии. Русские футуристы первыми сумели привлечь внимание к внутреннему динамизму языковых явлений, доказав, что средства просодии — рифма, аллитерация и ассонанс — могут использоваться не только в целях звукоподражания или создания символа. В более общем смысле футуристы заставили вспомнить давно забытую истину, что степень соотнесённости с “реальностью”, будь то чувственный мир натурализма или ивановская realiora, является не единственным критерием оценки поэтических произведений.
Обращение к „слову как таковому” дало толчок систематическому изучению поэтического языка, а провозглашение новаторского подхода к литературе выдвинуло на первый план вопросы исторической поэтики.
Теоретики символизма особо настаивали на единстве произведения искусства. Они посвятили себя выискиванию “сути” поэзии и чаще всего находили эту суть в той поэзии, которую сами же и создавали. „Всякое искусство, — писал Белый, — символично, — настоящее, прошлое, будущее”.31![]()
Футуристы решительно отвергли столь обобщённый и догматичный подход. Скорее, их можно обвинить в том, что они впали в противоположную крайность. Поскольку история литературы виделась им как череда бунтов против господствующих канонов, они невольно преувеличивали различия между последовательными стадиями литературной эволюции. Единственным критерием оценки для них стала способность поэта воспринять художественные веяния своего времени, что неизбежно привело их к критическому релятивизму, вплоть до полного отрицания эстетической ценности поэзии прошлого. Не вызывает сомнения, что скандальный призыв „бросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности” был эпатажем ненавистных “филистеров”, не более того. Однако не менее примечательно, что и во времена, когда футуристическая бравада стала достоянием истории, Маяковский писал: „Все рабочие и крестьяне поймут всего Пушкина (дело нехитрое), и поймут его так же, как понимаем мы, лефовцы:32![]()
![]()
Теперь уже совершенно очевидно, что пророчество Маяковского не сбылось: в последние десятилетия интерес русских “рабочих и крестьян” к творчеству Пушкина неуклонно растёт. Этот несомненный просчёт убедительно доказывает — если такие доказательства вообще необходимы, — что методологическая позиция Маяковского во многом уязвима. При этом справедливости ради нельзя не отметить, что в определённом смысле этот ультраисторический подход оказал и положительное влияние. Стремление футуристов рассматривать каждую литературную школу как отдельное явление подкрепило тезис, выдвинутый Брюсовым и отчасти поддержанный Белым: художественные достоинства отдельного произведения следует прежде всего оценивать с точки зрения литературных норм, существовавших в период его создания.
Другой составной частью футуристического кредо, позволявшей сделать шаг в направлении систематической поэтики, был его воинствующий, порой доходивший до грубости, эмпиризм. Поэты, вставшие под знамя футуризма, нещадно издевались над символистскими рассуждениями о вдохновении, о „поэзии как волшебстве”. Они спустили искусство с небес на землю и без всякой жалости сорвали с него златой венец. Допускаемый и даже поощряемый предшественниками уход от логики и реализма отнюдь не предполагал ни приобщения к “высшей” реальности, ни трансцендентализма. Футуристы попирали законы когнитивного языка не для того, чтобы воспарить к словесным высям, но ради свободной, ничем не обременённой словесной игры, которой была чужда любого рода метафизика. Из „хранителя тайны”34![]()
![]()
Деятельность футуристов, безусловно, обострила вопрос о необходимости создания адекватной научной поэтики. Именно это движение стало, как будет показано в последующих главах, одним из основных факторов, подготовивших возникновение русского формализма, который попытался такую поэтику выработать. Однако, с другой стороны, именно футуризм повинен во многих очевидных недостатках и заблуждениях новой критической школы. Методологическая однобокость, философская незрелость и психологическая косность раннего формализма напрямую проистекают из громогласных гипербол футуристических манифестов и их преувеличенного внимания к поэтической технике. Лозунг самовитого слова явился первопричиной методологического изоляционизма, отделив поэзию от жизни, отвергнув значимость психологического и социального аспектов. Убеждение Кручёных, что „форма определяет содержание”, предопределило взгляд на литературную эволюцию как на саморазвивающийся и самодостаточный процесс.
Влияние футуризма на формальную школу отразилось не только в методологии, но и в манере изложения. Именно из тесной связи с футуристической богемой проистекают такие редкие и ценные отличительные черты стиля критиков-формалистов, как юношеский задор, энергичность, жизнелюбие. Однако, с другой стороны, избыток смелости и жизненных сил повлёк за собой утрату сдержанности и чувства ответственности. Самоуверенная дерзость футуристических воззваний перелилась в работы ранних формалистов, найдя выражение в крайностях, в стремлении к намеренному преувеличению с единственной целью — потрясти, шокировать академические круги. Непосредственный вклад русского футуризма в теорию литературы куда менее значителен, чем те методологические сдвиги, которые косвенным путём вызвало это движение. Художественное кредо футуристов так и не развилось в целостную эстетическую систему. Причиной тому — поверхностность и легковесность их теоретических взглядов. Лозунги, выкрикнутые во весь голос, не могли заменить собой продуманную художественную доктрину. Кичливые декларации, зачастую призванные скорее шокировать публику, чем прояснить предмет спора, больше разжигали критические страсти, чем проливали свет на обсуждаемый вопрос.
Многие положения коллективных манифестов футуризма были в дальнейшем несколько более подробно раскрыты в критических статьях Маяковского и Хлебникова. Самой значительной теоретической работой Маяковского, вероятно, является его статья «Как делать стихи»,36![]()
![]()
![]()
Футуризм не сумел породить поэтов-теоретиков масштаба Вяч. Иванова и А. Белого. Хлебников, Кручёных и им подобные выходцы из среды разночинцев не обладали той литературной и философской эрудицией, которая выгодно отличала теоретиков символизма. Этим мятежным париям буржуазного общества недоставало научного багажа и логического склада мышления, необходимых для точного научного анализа. Всё, на что они оказались способны в области литературной теории — с жаром возвестить о необходимости новой поэтики.
Обосновать эту новую поэтику — подкрепить теорией футуристическую революцию в русском стихосложении — было по силам лишь профессиональным литературоведам, с интересом и симпатией относившимся к новоявленной поэзии. И вот соответствующее критическое движение, наконец, возникло. Сошлись две параллельно развивавшиеся линии: если поэтам требовалось содействие специалистов в области литературной теории, эти последние искали в слиянии с литературным авангардом выход из тупика, в котором на тот момент оказалось академическое литературоведение.
| Передвèжная Выставка современного èзобразèтельного èскусства èм. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 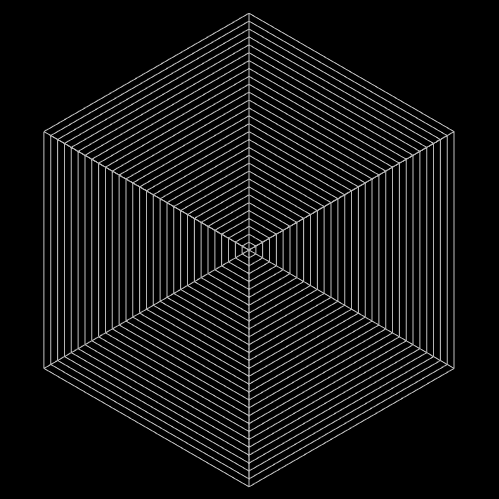 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||