Владислав Ходасевич

Сопроводительная записка В. Молотилова 
Декольтированная лошадь
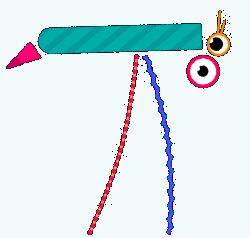
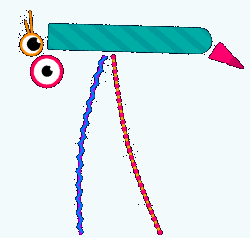
редставьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольтэ, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля жёлтые зубы.
Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл бы её, если бы несколько дней спустя, придя в Общество свободной эстетики, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями, в чёрной рубахе, расстёгнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное декольтэ. Каюсь: прозвище „декольтированная лошадь” надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде, или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошёл он по русской литературе — и ныне, сдаётся мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век.
• • •
Поэзия не есть ассортимент “красивых” слов и парфюмерных нежностей. Безобразное, грубое, пошлое — суть такие же законные поэтические темы, как и все прочие. Но, даже изображая грубейшее словами грубейшими, пошлейшее — словами пошлейшими, поэт не должен, не может огрублять и опошлять мысль и смысл поэтического произведения. Грубость и плоскость могут быть темами поэзии, но не её внутренними возбудителями. Поэт может изображать пошлость, но он не может становиться глашатаем пошлости.
Несчастие Маяковского заключается в том, что он всегда был таким глашатаем: сперва — нечаянным, потом — сознательным. Его литературная биография есть история продвижения от грубой пошлости несознательной — к пошлой грубости нарочитой.
Маяковский никогда, ни единой секунды не был новатором, “революционером” в литературе, хотя выдавал себя за такового, и хотя чуть ли не все его таковым считали. Напротив, нет в нынешней русской литературе большего “контрреволюционера” (я не сказал — консерватора). Эти слова нуждаются в пояснении.
• • •
Русский футуризм с самого начала делился на две группы: эгофутуристическую (Игорь Северянин, Грааль Арельский, Игнатьев и др.) и футуристическую просто, во главе которой стояли покойный В. Хлебников, Кручёных, Давид Бурлюк с двумя братьями. И эстетические взгляды, и оценки, и цели, и самое происхождение — всё было у этих групп совершенно различно. Объединяло их, и то не вполне, лишь название, заимствованное у итальянцев и, в сущности, насильно пристёгнутое особенно к первой, “северянинской”, группе, которую, впрочем, мы оставим в покое: она не имеет отношения к нашей теме. Скажем несколько слов только о второй.
Хлебниково-кручёновская группа базировалась на резком отделении формы от содержания. Вопросы формы ей представлялись не только центральными, но и единственно существенными в искусстве. (Отсюда и неизбывная связь нынешних теоретиков-формалистов с этой группой.) Это представление естественно толкало футуристов к поискам самостоятельной, автономной, или, как они выражались, „самовитой”, формы. „Самовитая” форма, именно ради утверждения и проявления своей „самовитости”, должна была всемерно стремиться к освобождению от всякого содержания. Это, в свою очередь, вело сперва к словосочетаниям вне смыслового принципа, а затем, с тою же последовательностью, к попыткам образовать „самовитое слово” — слово, лишённое смысла. Такое „самовитое”, внесмысловое слово объявлялось единственным законным материалом поэзии. Тут футуризм доходил до последнего логического своего вывода — до так называемого „заумного языка”, отцом которого был Кручёных. На этом языке и начали писать футуристы, но вскоре, по-видимому, просто соскучились. Обессмысленные звукосочетания, по существу, ничем друг от друга не разнились. После того как было написано классическое „дыр бул щыл” — писать уже было, в сущности, не к чему и нечего: всё дальнейшее было бы лишь перепевом, повторением, вариантом. Надо было или заменить поэзию музыкой, или замолчать. Так и сделали.
Ошибки хлебниково-кручёновской группы очевидны и просты. Отчасти они даже смешны. Но оценки, опять-таки, оставим в стороне. Худо ли, хорошо ли, правотой ли своей или заблуждениями, — но группа жила. В её деятельности был известный пафос — пафос новаторства и борьбы. Она пыталась произвести литературную революцию. Даже роли внутри неё были распределены нормально. Вождём, пророком и энтузиастом был Хлебников, “гениальный кретин”, как его кто-то назвал (в нём действительно были черты гениальности; кретинистических, впрочем, было больше). Кручёных служил доктринёром, логиком, теоретиком. Бурлюк — барабанщиком, шутом, зазывалой.
Маяковский присоединился к группе года через три после её возникновения, когда она уже вполне образовалась и почти до конца высказалась. На первых порах он как будто ничем особенным не выделялся:
Улица —
Лица у догов годов резче.
Это было “умеренней”, нежели „дыр бул щыл”, но в том же духе. Вскоре, однако, Маяковский, по внешности не порывая с группой, изменил ей глубоко, в корне. Как все самые тайные и глубокие измены, и эта была прежде всего — подменой.
Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Кручёных и несчастного шута Бурлюка, — в „зауми” делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский, без лишних рассуждений, на практике своих стихов, подменил борьбу с содержанием (со всяким содержанием) — огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы это было полнейшей изменой, поворотом на сто восемьдесят градусов. Маяковский молча произвёл самую решительную контрреволюцию внутри хлебниковской революции. В самом основном, в том пункте, где заключался весь пафос, весь (положим — бессмысленный) смысл хлебниковского восстания в борьбе против содержания, — Маяковский пошёл хуже чем на соглашательство: не на компромисс, а на капитуляцию. Было у футуристов некое „безумство храбрых”. Они шли до конца. Маяковский не только не пошёл с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и постепенно сумел, так сказать, перевести капитал футуризма на своё имя. Сохранив славу новатора и революционера, уничтожил то самое, во имя чего было выкинуто знамя переворота. По отношению к революции футуристов Маяковский стал нэпманом.
Уже полоумный Хлебников начал литературную “переоценку ценностей”. Но каким бы страшным симптомом она ни была, все же она была подсказана чем-то бесконечно более “принципиальным” в эстетическом смысле. Она свидетельствовала о жуткой духовной пустоте футуристов. Маяковский на все эти эстетические “искания” наступил копытом. Его поэтика — более чем умеренная. В его формальных приёмах нет ровно ничего не заимствованного у предшествовавшей поэзии. Если бы Хлебников, Брюсов, Уитман, Блок, Андрей Белый, Гиппиус да ещё раёшники доброго старого времени отобрали у Маяковского то, что он взял от них, — от Маяковского бы осталось пустое место. “Новизною” он удивил только Шкловского, Брика да Якобсона. Но его содержание было ново. Он первый сделал пошлость и грубость не материалом, но смыслом поэзии. Грубиян и пошляк заржали из его стихов: „Вот мы! Мы мыслим!” Пустоту, нулевую значимость заумной поэзии он заполнил новым содержанием: лошадиным, скотским, „простым, как мычание”. На место кретина стал хам. И хам стал “голосом масс”. Несчастный революционер Хлебников кончил дни в безвестности, умер на гнилых досках, потому что он ничего не хотел для себя и ничего не дал улице. „Дыр бул щыл”! Кому это нужно? Это ещё, если угодно, романтизм. Маяковский же предложил практический, общепонятный лозунг:
Ешь ананасы, Рябчиков жуй, —
День твой последний приходит, буржуй!
Не спорю, для этого и для многого “тому подобного” Маяковский нашёл ряд выразительнейших, отлично составленных формул. И в награду за крылатое слово он теперь жуёт рябчиков, отнятых у буржуев. Новый буржуй, декольтированная лошадь взгромоздилась за стол, точь-в-точь как тогда, в цирке. Если не в дамской шляпке, то в колпаке якобинца. И то и другое одинаково ей пристало.
• • •
„Маяковский — поэт рабочего класса”. Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и “босяков духовных”. Был таким перед войной, когда восхищал и “пужал” подонки интеллигенции и буржуазии, выкрикивая брань и похабщину с эстрады Политехнического музея. И когда, в начале войны, сочинял подписи к немцеедским лубкам, вроде знаменитого:
С криком: „Дейчланд юбер аллеc!” —
Немцы с поля убирались.
И когда, бия себя в грудь, патриотически ораторствовал у памятника Скобелеву, перед генерал-губернаторским домом, там, где теперь памятник Октябрю и московский совдеп! И когда читал кровожадные стихи:
О панталоны венских кокоток
Вытрем наши штыки! —
эту позорную нечаянную пародию на Лермонтова:
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?
И певцом погромщиков был он, когда водил орду хулиганов героическим приступом брать немецкие магазины. И остался им, когда, после Октября, писал знаменитый марш: «Левой, левой!» (музыка А. Лурье).
Пафос погрома и мордобоя — вот истинный пафос Маяковского. А на что обрушивается погром, ему было и есть всё равно: венская ли кокотка, витрина ли немецкого магазина в Москве, схваченный ли за горло буржуй — только бы тот, кого надо громить.
Но время шло. И вот уже перед нами — другой Маяковский: постаревший, усталый, растерявший зубы, — такой, каким смотрит он со страниц последнего, пятого, тома своих сочинений.
Ни благородней, ни умней, ни тоньше Маяковский не стал. Это — не его путь. Но забавно и поучительно наблюдать, как погромщик беззащитных превращается в защитника сильных; “революционер” — в благонамеренного охранителя нэповских устоев; недавний динамитчик — в сторожа при лабазе. Ход, впрочем, вполне естественный для такого “революционера”, каков Маяковский: от “грабь награбленное другими” — к “береги награбленное тобой”.
Теперь, став советским буржуем, Маяковский прячет коммунистические лозунги в карман. Точнее — вырабатывает их только для экспорта: к революции призываются мексиканские индейцы, нью-йоркские рабочие, китайцы, английские шахтеры. В СССР “социальных противоречий” Маяковский не видит. Жизнь в СССР он изображает прекрасной, а если на что обрушивается, то лишь на “маленькие недостатки механизма”, на “лёгкие неуклюжести быта”. Как измельчали его темы! Он, топтавший копытами религию, любовь к родине, любовь к женщине, — ныне борется с советским бюрократизмом, с растратчиками, со взяточниками, с системой протекции... Предводитель хулиганов, он благонамеренно и почтенно осуждает хулиганство. А к чему призывает? „Каждый, думающий о счастье своём, покупай немедленно выигрышный заём!” „Спрячь облигации, чтобы крепли оне. Облигации этой удержу нет: лежит и дорожает пять лет”. Какой путь: из громил — в базарные зазывалы!
“На любовном фронте”, бывало, Маяковский вверх дном переворачивал “буржуазную мораль”. А теперь — „надо голос подымать за чистоплотность отношений наших и любовных дел”. Вот он — голос благоразумия, умеренности и аккуратности.
Бывало, нет большей радости, чем “сбросить Лермонтова с парохода современности”, оплевать дорогое, унизить высокое. Теперь Маяковский оберегает советские авторитеты не только от оскорбления, но даже от излишней фамильярности: „Я взываю к вам от всех великих: — милые, не обращайтесь с ними фамильярно!” Ибо почтительное сердце Маяковского сжимается, когда он видит
Гигиенические подтяжки
Имени Семашки
или что-нибудь “кощунственное” в этом роде.
Мелкомещанская жизнь в СССР одну за другой подсовывает Маяковскому свои мелкотравчатые темочки, и он ими не только не брезгует — он по уши увяз в них. Некогда певец хама протестующего, он стал певцом хама благополучного: певцом его радостей и печалей, охранителем его благ и целителем недугов.
При этом мысль Маяковского сохранила, конечно, свою постоянную грубость. Свою работу на пользу нэпствующего начальства Маяковский считает выполнением “социального заказа”, а труд революционного поэта не прикровенно связывает с получением гонораров. Недаром, говоря о низком уровне мексиканской поэзии, он рассуждает: „Причина, я думаю, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя”. Недаром также, зазывая Горького в СССР (безнадежная, кстати сказать, задача), — Маяковский в виде самого убедительного аргумента божится:
Я знаю — Вас ценит и власть, и партия,
Вам дали бы всё — от любви до квартир.
• • •
Что Маяковский стареет, постепенно выходит в тираж, что намечается и крепчает уже даже в СССР литературная “переоценка Маяковского”, — я говорю отнюдь не на основании только моих собственных наблюдений. Это прежде всего стал чувствовать не кто иной, как сам Маяковский, и его последняя книга в этом отношении показательна.
Брюзжание на молодёжь, на “нынешних”, выставление напоказ старых заслуг — первый и верный признак старости. И всё это есть в «Послании к пролетарским поэтам», «Четырёхэтажной халтуре». Уже недавний застрельщик новаторства (хотя бы и самозваный) — Маяковский плачет и причитает, — над чем бы вы думали? Над профанацией литературы! О чём скорбит? О забытых заветах! Что видит вокруг себя? Упадок. Этому трудно поверить, но вот прямые слова Маяковского:
С молотка литература пущена.
Где вы, сеятели правды или звёзд сеятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина...
Ныне стала зелень веток в редкость,
Гол
Литературы ствол.
Это ли не типичное брюзжание старика на молодых? От общих рассуждений о “нынешней” литературе Маяковский пытается перейти в наступление. Одного за другим то высмеивает, то объявляет он бездарностями поэтов более молодых, тех, в ком видит возможных наследников уже уплывающей от него славы. Достаётся по очереди Казину, Радимову, Безыменскому, Уткину, Доронину — всем, кого справедливо ли, нет ли, но выдвигала в последние годы критика и молва. И наконец — последний, решительный признак старости: желание казаться молодым, не отставать от молодёжи.
„Я кажусь вам академиком с большим задом?” — спрашивает Маяковский — и тут же миролюбивозаискивающе предлагает: „Оставим распределение орденов и наградных, бросим, товарищи, наклеивать ярлычки”.
Бедный Маяковский! Он то сердится, то заискивает, то лягается, то помахивает хвостом — и всё одинаково неуклюже.
Ещё более неуклюже выходит у него поучение к молодёжи, напечатанное здесь же, под заглавием: «Как делать стихи?» Это — первое, сколько я помню, “теоретическое” выступление Маяковского. К сожалению, недостаток места не позволяет мне остановиться подробно на этом беспорядочном, бессистемном перечне поэтических “правил”. Грубость и глупость формальных суждений Маяковского превосходит всякие ожидания: это всё, что я могу сказать, не утомляя неподготовленного читателя анализом, который к тому же занял бы слишком много места. Читая “поэтику” Маяковского, удивляешься, каким образом, при столь жалких понятиях о поэтическом мастерстве, удавалось ему писать хотя бы даже такие стихи, как он писал? Очевидно, как это часто бывает, “муза” Маяковского, его внутренний инстинкт — всё-таки бесконечно выше и тоньше его жалкого ума. Нет ничего более убогого в литературе о поэзии, нежели эти рассуждения Маяковского — эта смесь невежества, наивности, хвастовства и, конечно, грубости.
• • •
Однажды, не так давно, Марина Цветаева обратилась к Маяковскому со стихами:
Превыше церквей и труб,
Рождённый в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ,
Здорово в веках, Владимир!
Кажется, это был один из последних поэтических приветов, посланных Маяковскому. Впрочем, „тяжелоступ” остался верен себе и ответил на него бранью.
сентябрь 1927
О формализме и формалистах
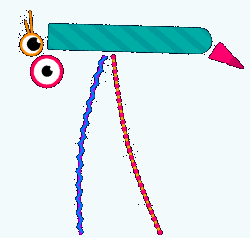
ражданственная тенденция, владевшая русской критикой с середины прошлого столетия вплоть до символистов, резко отделяла “форму” от “содержания”. „Симпатичное направление” было её кумиром. Художник оценивался смотря по тому, как относился он к “гуманным идеям” и твёрдо ли верует в то, что “погибнет Ваал”. Формальное мастерство в лучшем случае прощалось как невинное, но ненужное украшение. Чаще всего оно презиралось.
Символизм провозгласил основные права “формы”: её свободу и гражданское равенство с “содержанием”. Работы символистов, особенно Брюсова и Андрея Белого, при всем их несовершенстве, выразили и на время утвердили законную мысль о неотделимости формы от содержания.
Однако господство этой идеи было недолговечно. Она была верна, а потому умеренна. Исконный русский экстремизм вскоре взорвал её изнутри. Форма, раскрепощённая символистами, переросла нормальные размеры в писаниях футуристов. Хлебников и Кручёных, самые последовательные из них, — можно сказать, в несколько прыжков очутились в области “чистой формы”. Постепенное и, наконец, полное изгнание какого бы то ни было “содержания” логически привело их сперва к „заумной поэзии”, а там и к „заумному языку”, воистину „простому, как мычание”, облечённому в некую сомнительную “форму”, но до блаженности очищенному от всякого “содержания”. Знаменитое
дыр бул щыл было исчерпывающим воплощением этого течения, его началом и концом, первым криком и лебединой песней. Дальше идти было некуда, да и не нужно, ибо всё прочее в том же роде было бы простым “перепевом”. Что касается Маяковского, Пастернака, Асеева — то это, разумеется, предатели футуризма, можно сказать — футуросоглашатели: доброе, честное
отсутствие содержания они предательски подменили его
убожеством, грубостью, иногда пошлостью. Про себя они хорошо знают, что это совсем не одно и то же.
В искусстве теория почти всегда приходит после практики. Духовным детищем футуризма возрос тот формальный метод критических исследований, который сейчас оказывается если не господствующим, то, во всяком случае, чрезвычайно модным и шумным, а потому и кажется “передовым”.
Формалисты недаром начали своё бытие статьями, посвящёнными оправданию заумной поэзии: это они наспех закрепляли крайние позиции, занятые футуристами. Позднее им пришлось заняться более тыловыми делами. Обратясь к “старой”, до-футуристической литературе, они объявили необходимым и в ней исследовать одну только “форму”, игнорируя “содержание”, — или, как они предпочитают выражаться, — изучать приёмы, а не темы. Для формалистов всякое “содержание” (то есть не только сюжет или фабула, но и мысль, смысл, идея литературного произведения) — есть не более как рабочая гипотеза художника, нечто условное и случайное, что может быть без ущерба изменено или вовсе отброшено.
Таким образом, дело сводится к провозглашению примата формы над содержанием. Старое, ещё писаревское отсечение формы от содержания восстанавливается в правах, с тою разницей, что теперь величиною, не стоящею внимания, объявляется содержание, как ранее объявлялась форма. Формализм есть писаревщина наизнанку — эстетизм, доведённый до нигилизма.
Изучение литературных явлений с формальной стороны, конечно, не только законно, но и необходимо. Когда оно забывается, о нём дóлжно напомнить. Но в общей системе литературного исследования оно может играть лишь подсобную (хотя и почтенную) роль, как метод, условно и временно отделяющий форму от содержания, с тем, чтобы открытия, сделанные в области формальной, могли послужить к уяснению общих заданий художника. На изучение формы западная наука в последние десятилетия обратила большое внимание. Но на “гнилом Западе” эти работы занимают подобающее им служебное место. В советской России, где формализм процветает, дошли “до конца”. Загорланили: долой содержание!
Конечно, сосчитав пульс и измерив температуру, мы узнаем многое о состоянии человека. Но сосчитать пульс и измерить температуру — не значит определить человека. Формалисты считают, что значит, и что этим можно и дóлжно ограничиться.
Это они называют “научным” и “точным” определением, прочее же — догадками, к тому же и несущественными, как дальше увидим. Поэтому, вместо благодарности, на которую подчас имеют законное право многие из них, как составители добросовестных вспомогательных работ, — вызывают они раздражение. Если средство подносится с тем, чтобы заслонить и исказить цель, — от этого средства позволительно отмахнуться.
Словарь Даля порою необходим для того, чтобы верно понять Пушкина, Гоголя, Льва Толстого. Но что бы сказали мы, если б воскресший Даль поднёс нам свой словарь с такими, примерно, словами:
— Бросьте-ка вы возиться с вашими Пушкиными, Толстыми да Гоголями. Они только и делали, что переставляли слова как попало. А вот у меня есть все те же слова, и даже в лучшем виде, потому что в алфавитном порядке, и ударения обозначены. Они баловались, я — дело делаю.
Нечто подобное говорят формалисты. Правда, когда Виктор Шкловский, глава формалистов, пишет, что единственный двигатель Достоевского — желание написать авантюрно-уголовный роман, а все “идеи” Достоевского суть лишь случайный, незначащий материал, „на котором он работает”, — то самим Шкловским движет, конечно, только младенческое незнание, неподозревание о смысле и значении этих “идей”. Я хорошо знаю писания Шкловского и его самого. Это человек несомненного дарования и выдающегося невежества. О темах и мыслях, составляющих роковую, трагическую ось русской литературы, он, кажется, просто никогда не слыхал. Шкловский, когда он судит о Достоевском или о Розанове, напоминает того персонажа народной сказки, который, повстречав похороны, отошёл в сторонку и, в простоте душевной, сыграл на дудочке. В русскую литературу явился Шкловский со стороны, без уважения к ней, без познаний, единственно — с непочатым запасом сил и с желанием сказать “своё слово”. В русской литературе он то, что по-латыни зовется Homo novus. Красинский блистательно перевёл это слово на французский язык: un parvenu. В гимназических учебниках оно некогда переводилось так: “человек, жаждущий переворотов”. Шкловский “жаждет переворотов” в русской литературе, ибо он в ней новый человек, parvenu. Что ему русская литература? Ни её самой, ни её “идей” он не уважает, потому что вообще не приучен уважать идеи, а в особенности — в них разбираться. С его точки зрения — все они одинаково ничего не стоят, как ничего не стоят и человеческие чувства. Ведь это всего лишь “темы”, а искусство заключается в “приёме”. Он борется с самой наличностью “тем”, они мешают его первобытному естеству. „Тема заняла сейчас слишком много места”, — неодобрительно замечает он.
За год до смерти Есенин мучился нестерпимо. Кричал о гибели своей — в каждой строчке. Стоит послушать, как в это самое время Шкловский поучал его уму-разуму: „Пропавший, погибший Есенин, эта есенинская поэтическая тема, она, может быть, и тяжела для него, как валенки не зимой, но он не пишет стихи, а стихотворно развёртывает свою тему”. Иными словами: надо „писать стихи”, „делать” стихи, самоновейшего, модного стиля, — а этот Есенин неуч, так немодно, точно валенки не зимой, вопит о гибели какого-то там Есенина. Да ещё о какой-то России... Нет, ты покажи “приём”, а на тебя и на твою Россию нам наплевать.
Неуважение к теме писателя, к тому, ради чего только и совершает он свой тяжёлый подвиг, типично для формалистов. Правда, родилось оно из общения с футуристами, которые сами не знали за собой ни темы, ни подвига. Но, распространённое на художников иного склада, это неуважение превращается в принципиальное, вызывающее презрение к человеческой личности и глубоко роднит формализм с мироощущением большевиков. „Искусство есть приём”. Какой отличный цветок для букета, в котором уже имеется: „религия — опиум для народа” и „человек произошёл от обезьяны”.
Говоря о близости к большевизму, я нарочно говорю о формализме, а не о формалистах. Это потому, что я хочу быть точным. Формализм, как течение, несомненно, внутренне близок к большевизму, хотя это не сознаётся ни формалистами, ни большевиками, и хотя обе стороны друг от друга открещиваются. Именно по причине внутреннего родства формализм так и процвёл под небесами большевизма. Именно вместе с большевизмом будет изжит и формализм. Но пока что формалисты “не помнят родства”, ясно не сознают себя связанными с большевиками, а если сознают, то далеко не все.
По составу своему формалистская группа очень пестра во всех отношениях. Тут есть люди талантливые, образованные и необразованные, с умом хорошо устроенным, хотя плохо направленным, и с умом плохо устроенным. Если различать побудительные причины, толкающие к формализму, то и тут придётся установить известные разряды. Прежде всего, среди формалистов довольно много неудачников из начинавших поэтов. Это довольно своеобразный тип. Испробовав некогда силы на поэтическом поприще и увидев, что дело безнадёжно, люди порой с особым жаром принимаются за изучение поэтической механики: ими владеет вполне понятная надежда добраться-таки, наконец, до “секрета”, узнать, “в чём тут дело”, почему их собственная поэзия не удалась. Быть может, эти литературные алхимики втайне ещё не теряют надежды со временем отыскать секрет, превратить свой свинец в золото. А быть может — алхимия уже захватила их сама по себе, и они преданы ей бескорыстно ради “чистой науки”.
Второй разряд составляют фанатические филологи, патриоты филологии. Как им не прилепиться душой к формализму? Ведь их дисциплину, по природе своей вспомогательную, формализм кладёт во главу угла. Формализм тут оказывается чем-то вроде филологической мании величия.
Третья группа формалистов — люди, тяготеющие к анализу ради анализа, чувствующие себя уютно и прочно, пока дело ограничивается “строго научной” “констатацией фактов”, люди подсчёта и регистрации, лишённые способности к творчеству и обобщению, боящиеся всякой живой и самостоятельной мысли. Это — добросовестные, но бездарные собиратели материала, не знающие, что с ним делать, когда он собран. К формализму они привержены потому, что “обнажать приём” гораздо легче, чем разбираться в “идеях”. В нём они с благодарностью обретают некое принципиальное оправдание своего творческого бессилия и идейной бедности.
К ним примыкают четвёртые, понуждаемые к формализму не склонностью, но обстоятельствами. Это те, кто неминуемо подвергся бы преследованиям со стороны большевиков, если бы вздумал высказать свои мысли. Формализм позволяет им заниматься подсчётом и наблюдением, уклоняясь от обобщений и выводов, которые неминуемо оказались бы “контрреволюционными”, если бы были произнесены вслух. Сейчас в России начальство требует от критики искоренения “буржуазной” идеологии — или молчания. Формализм оказывается единственным прикрытием, в котором, не отказываясь от работы вовсе, можно говорить о литературе, не боясь последствий: пойди уличи в крамоле человека, который скромно подсчитывает пэоны в пятистопном ямбе Пушкина; а заговори он об этом же ямбе по существу — крамола тотчас всплывёт наружу. Имея в виду именно такой “разрез” формализма, молодой польский учёный В.А. Ледницкий правильно говорит, что формальный метод „избавляет критика от заглядывания в опасную при советских условиях область религиозных, общественных и политических идей. ‹...› Он идейно и психологически менее обязывает исследователя, ибо оставляет в стороне его внутренние убеждения. ‹...› Исследователь превращается в машину для подсчёта и записи”.
Наконец, пятую, далеко не невинную и не безвредную категорию формалистов составляют те, кто вместе с большевиками имеют ту или иную причину ненавидеть весь смысл и духовный склад русской литературы. Они быстро поняли, что игнорация содержания, замалчивание и отстранение “темы” — отличный способ для планомерного искоренения этого духа из народной памяти.
март 1927
Воспроизведено по:
Владислав Ходасевич. Собрание сочинений в четырёх томах.
Том второй. М.: Согласие. 1996. С. 159–167; 153–158.
———————
Биток из конины
1. Жеребилово – Лошанск – Жеребилово
Ваше молчание сочту за слабость мысли
перед моим величием.
Константин Олимпов. Из письма А.В. Луначарскому (1922)
Кто меня кличет из Млечного Пути?
А? Вова?
В звёзды стучится!
Друг! Дай пожму твое благородное копытце!
В. Хлебников. Ну, тащися, сивка... (1922)
И мерин сивый желает жизни красивой.
В. Маяковский. Даёшь изячную жизнь!
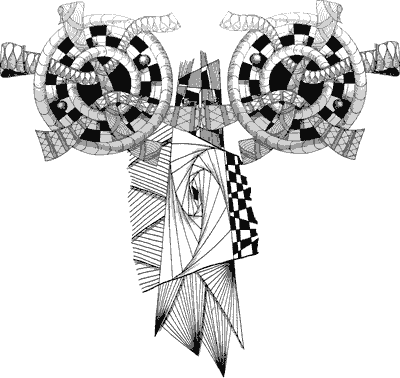 утуристы, если это не соловьи без претензий (понтов, поправляет меня внук) и без особой глубины, всегда начинают с главного. Это подметил (1927) Борис Александрович Ларин (1893–1964):
утуристы, если это не соловьи без претензий (понтов, поправляет меня внук) и без особой глубины, всегда начинают с главного. Это подметил (1927) Борис Александрович Ларин (1893–1964):Нарастающий ли смысловик Владислав Ходасевич? Какое там. Шкловский со товарищи блеют на живодёрне с марта 1927, родовспомогателя шкловщины ошкуривают аж полгода спустя, в сентябре. Маяковского, да.
Иначе говоря, Ходасевич впряг свою лошадь в декольтэ позади телеги с формалином, головой в самую вонь.
Доброхотно предпринятая (см. выше) перестановка тягла и тягомотины свела эту несуразицу на нет.
Оцениваем итог перепряжки: подладил я Владислава Ходасевича под Бориса Ларина или нет? Формально — да, по сути — воз и ныне там.
Во-первых, половые различия у лошадей выражены в гораздо меньшей степени, чем у коров. Кобыла, например, вполне годится под верх, корова — никогда, особенно бык.
А родовспомогатель шкловщины Владимир Маяковский свои письма к любимой подписывал Щен и Вол. То есть по-щенячьи радовался, что любимая водит его за нос в прямом смысле, посредством продетого в ноздри кольца.
Полная противоположность родео в исполнении зачинателя шкловщины Алексея Кручёных и Ольги Розановой, не так ли.
Во-вторых, больное воображение любит влепить своему плоду животные черты. Не надо быть Бехтеревым, чтобы признать Гоголя больным на всю голову: влепил Собакевичу медведя. Собакевичу!
В-третьих, никто не отменял понятия лошадиное лицо. Не надо быть Гоголем, чтобы согласиться с оценкой Бориса Пастернака Мариной Цветаевой: аргамак, влюблённый в плётку созвучий. От глагола плести.
То же самое Ходасевич, если бы не пенснэ и не глагол плестись. Пенснэ — один в один шоры погребального тягла (чтобы плелось если уж не в сторонке, то хотя бы по струнке).
В-четвёртых, плодовитость. Простой пример: у Плюшкина, Манилова и Ноздрёва дети есть, у Собакевича и Собакевны — ни гу-гу. А вы скрестите собаку с медведем, скрестите. Другое дело самооговор: случай Маяковского. Холощёная подпись в письмах к любимой — знак великодушия из ряда вон. Любимая застудила придатки, не может зачать. Маяковский берёт вину на себя: ложь во благо. А вы могли бы?
 Осознав губо-челюстную смычку Пастернака и Ходасевича, уточним их лошадячество. Конинность, прошу прощения. Кони в разрезе плодовитости делятся на жеребцов и меринов. Борис Леонидович оставил потомство, Владислав Ходасевич — ни гу-гу. И жеребец арабской породы Пастернак (сыновья) выдаёт тяжеловозу Маяковскому (дочь писательница) охранную от обвинений в творческой несостоятельности грамоту в то самое время, когда сивый мерин Ходасевич клеймит его кобылой в декольтэ.
Осознав губо-челюстную смычку Пастернака и Ходасевича, уточним их лошадячество. Конинность, прошу прощения. Кони в разрезе плодовитости делятся на жеребцов и меринов. Борис Леонидович оставил потомство, Владислав Ходасевич — ни гу-гу. И жеребец арабской породы Пастернак (сыновья) выдаёт тяжеловозу Маяковскому (дочь писательница) охранную от обвинений в творческой несостоятельности грамоту в то самое время, когда сивый мерин Ходасевич клеймит его кобылой в декольтэ.
В-пятых, чувство слова. Галина Николаевна подтвердит: достаточно ложки сваренного этим раззявой супа, чтоб духа моего у плиты больше не было. То же самое в изящной словесности. Чтобы отрицать чувство слова у Ходасевича, незачем выхлёбывать до дна все четыре котла его варева, довольно Декольтированной лошади.
Хотите знать, как следовало бы озаглавить (налицо пять главок через тройное дын-дын-дын) этот кишинёвский погром?
Нет, не «Конь блед». Довообразили? Запятую не забудьте.
Кое-кто подумал, что в пику Ходасевичу я предъявлю убойные заголовки Велимира Хлебникова. Увы. Убойных, глядя с колокольни Бориса Ларина, заголовков ровно девять, и все они принадлежат зачинателю шкловщины Алексею Елисеевичу Кручёных.
Вот эти перлы: Замауль, Миллиорк, Туншап, Фо-лы-фа, Цоц, Зьют, Качилдаз, Шбыц, Биель.
Именно мимолётные виденья, именно. Сморгнул читатель заголовок — и дальше (ниже, включая год издания) время жизни расходовать просто глупо. Всепобедное торжество будетлянской заповеди „Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока!”
Впрочем, негоже навязывать свои предпочтения кому бы то ни было. Я рассудил так, Анфиса Абрамовна — эдак, а Фома Фомич знай крутит пальцем у виска, знай крутит!
Всё-таки предъявлю достижения Велимира Хлебникова по части обратного семантического хода:
Инири, Водняга, Временель, Бех, Суэ,
Ладомир, Эль, Восстание собак, Жуть лесная, Мировик, Мирсконца,
Мудрость в силке, Ночь в окопе, Одинокий лицедей, Садок судей, Пощёчина общественному вкусу,
Свояси, Снезини, Труба Гуль-муллы, Училица, Тцинцуанцан, Царапина по небу, Чернотворские вестучки,
Взлом вселенной, Ка2, Зангези.
Вобравший в себя пирамиды Египта и теорию функций комплексного переменного заголовок Ка2, хотя многое скажет сердцу Франсуа Шампольона и голове Эйлера, совершенно замылился молитвами сусликов Хлебникова поля. То же самое Ладомир, но уже молитвами закованных в бумажные латы рыцарей Гутенберга. Что уж говорить о Пощёчине общественному вкусу, скатерти-самобранке толп, орд, общин и полчищ!
И этой благодатью наделил человечество именно гениальный кретин, и-мен-но.
Выше у выродка польской шляхты (см.: Юрий Колкер. Последний поэт старой России // Евреи в культуре русского зарубежья, II. Составитель М. Пархомовский. Иерусалим. 1993) Владислава Ходасевича (герб Долэнга) на примере галло-гужевых новообразований была вскрыта исчезающе малая тяга к самовитому слову (см.: А. Кручёных, В. Хлебников. Слово как таковое. Москва. 1913). Зато панский гонор на подворье чужого монастыря ещё как налицо, ещё как. Литвину герба Радван Достоевскому тоже не повезло в плане избяного русопятства, зато суконно-калашный здравый смысл сидит на нём, как влитой: Достоевскому — достоевскиймо, капитану Лебядкину — лебядство. Окажись Достоевский пленником созвучия, Олейникову, Введенскому и Хармсу досталась бы выжженная земля Байконура. Выж-жен-ная!
2. Полонез в четыре смычка и мазурка в четыре
Не вьются вкруг малюточки,
Тихохонько резвясь.
Алексей Мерзляков. Среди долины ровныя
Поскольку Ходасевич, сосредоточившись на смене пола Маяковскому, досконально вникнуть в творческое наследие стрелочника на путях встречи Прошлого и Будущего соблаговолить не удосужился, обратимся к его последователям.

сылка на Достоевского существенна для интересующей нас проблемы в целом ряде отношений. Прежде всего, ввиду той роли, которую в его романах играет пародирование ‹...›.
Графоманы Достоевского цитируют, имитируют, перевирают, пародируют Шиллера, Пушкина, Фета, Огарёва, Некрасова, народный и городской фольклор и даже откровенно слабую, а то и шуточно-пародийную поэзию (Печёрина, Мятлева). Но это в значительной мере — тот же самый набор, что и поэтические стили и клише, “неумело”, со сбоями используемые Хлебниковым. ‹...› Всё это подаётся у Хлебникова как бы под знаком высокопарного актёрства, гаерства — того, что по-английски называется hamming. ‹...›
Разрушение нормы, принявшее массовый характер к концу Серебряного века, началось во второй половине XIX века. Параллельно Достоевскому подрывом литературного канона занимаются создатели Козьмы Пруткова, а философского — Ницше, теоретик относительности человеческих ценностей. У Достоевского, Ницше и далее Фрейда, с его трёхъярусностью человеческой личности, полифония ранее неприемлемых голосов выходит наружу; затем у декадентов аморализм, демонизм и т.п. овладевают уже и авторским голосом. Таким образом, Хлебников предстаёт как часть, если не вершина, целого культурного переворота — выламывания из канона и выхода наружу “нехорошего”, неблагополучного, неблагонамеренного, неорганизованного, дестабилизирующего голоса персонажа. ‹...›
Совмещение в едином авторском голосе разноголосого множества стилевых элементов, к тому же быстро сменяющих друг друга на малых отрезках текста, — вызывающе трудная конструктивная задача, успешное решение которой и является ценнейшим художественным открытием Хлебникова, Итак, чем же мотивирована, или, выражаясь языком современной литературной теории, как “натурализована” (naturalized) в стихах Хлебникова эта хаотическая смесь, на какой человеческий и литературный стержень она нанизана, какого рода “персонажу” приписаны эти стихи? ‹...›
Прежде всего, этот персонаж оказывается носителем очень “громкого” голоса, в одно и то же время предельно естественного и в высшей степени ненатурального. Если установка Хлебникова на “неправильность”, примитив и свободу всячески нарушает условность, то быстрая смена разнородных кусков, напротив, повышает литературность текста, диктуя усиленное интонирование, форсирование голоса, принятие многозначительных поз (ср. соображения В. Маркова об „оперных жестах” и „насильных противопоставлениях” и мои о гаерстве), без чего текст распался бы на отдельные фрагменты. Чтобы “держать” эту ненатурально высокую ноту, и привлекается монструозный персонаж — графоман, шут, маньяк, версифицирующий идиот, подражающий взрослым ребёнок. Он же — поэт-учёный, что не противоречит примитивизму (как полагает Марков), а прекрасно с ним уживается, ибо это псевдоучёный, философ-самоучка, каких много среди героев Достоевского, а в дальнейшем Платонова и Зощенко. Естественно, что передача такому доморощенному гению “из персонажей” авторского слова звучит пародией на роль учёного-мудреца, всерьёз принятую на себя символистами — Мережковским, Вяч. Ивановым, Брюсовым, Белым. ‹...›
Таковы стилистические средства, характерологические параллели, психологические мотивировки и общие историко-литературные связи, определившие тот конкретный поэтический облик, который приняла попытка Хлебникова освободить — технически и идейно — русскую поэзию от канона. Несмотря на гениальность Хлебникова, а может быть, как раз ввиду её масштабов и экстремизма, эта попытка, утопическая, “графоманская” уже в своём замысле, пока что не привела к успеху. Восторжествовали более умеренные формы поэтической революции, представленные Маяковским, Цветаевой, Пастернаком и Ахматовой, поэтика которых во многом впитала уроки Хлебникова, но в целом осталась в рамках “большого стандарта” — морально-политического благородства, силлабо-тонической упорядоченности, языковой и стилистической нормы.
Александр Жолковский. Графоманство как приём (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие)
Итак, бестрепетная рука профессора Доуэля совокупила с доморощенным гением (genius, дух места) не просто идиота (ιδιώτης, частное лицо), а идиота-стихотворца. Он же маньяк, шут, ребёнок и графоман. Всё это про Велимира Хлебникова, и всё — правда святая. Маниакальное упорство в оттачивании формулировок (включая математические), блеск (понятного далеко не всегда: мой случай) остроумия, детская непосредственность, чудовищное (монструозное, по Доуэлю) прилежание к словесности. Разве не так? Так.
И что Хлебников силлабо-тонический Стёпка-растрёпка, поддержу: прищемить хвост коту-баюну для насельников подполья — дело чести, доблести и геройства. Только у них это называется не прищемить, а джаз по наитию. Глядя из Лондона, Велимир Хлебников — Charles Lloyd в столбик, без малейшей натяжки. Если не Miles Davis. А то и John Zorn.
Омри Ронен (1937–2012), кстати говоря, отвергал моих ставленников яростнее, чем домыслы о расовой неполноценности Юрия Владимировича Андропова:
— У Майлза одна малахолия в капоте! А ллойды с цорнами ни на шаг от шпаргалки, раболепцы нотного стана! Если не хотите сломать шею в потёмках вкусовщины, равняйтесь на Кита Джарретта, юноша!
Спору нет, джаз по наитию — не для средних умов. Для средних — вечные спутники Галины Николаевны предисловия (увертюры) Вагнера и Россини. Все мне уши вводной к «Золоту Рейна», бывало, изгваздает, а уж примется предварять «Сороку-воровку» — заявлением на развод не приструнить!
Слово найдено: приструнить. Как ни странно, Владислав Ходасевич и Александр Жолковский составили чудесный дуэт имени Леопольда Ауэра. Вторая скрипка удивительно хороша на терциях Абрама, удивительно! Иван Крылов не одобрял струнные квартеты, но это было давно и неправда. Кто куда, а я хлопотать насчёт альта и виолончели. Ба! обыскался рукавиц, а они за поясом:
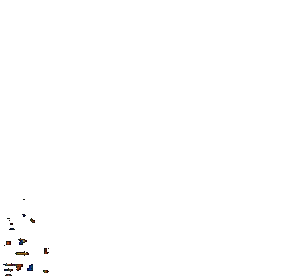
евизию хлебниковской математики естественно будет начать c определения объёма этого понятия. Алгеброй оно не исчерпывается, ибо алгебра — лишь один из рычагов сложного механизма. Второй такой рычаг — геометрия, хлебниковедением практически не замеченная. Сам же механизм — назовём его нумерологическим проектом — восстанавливается в два этапа. Сначала алгебра и геометрия интегрируются в историософию (редко обсуждаемую) и язык (тщательно и многосторонне описанный), а затем к полученной концептуальной конструкции подключаются жизнетворческие стратегии.
Посмотрим теперь на этот механизм в действии. В руках недоучившегося математика, историософа-любителя и прирождённого словоиспытателя, каким был Хлебников, математика с её простейшими операциями оказалась ключом к ритму возникновения войн и их характеру, жизни народов и отдельного индивидуума, языкам вообще и русскому в частности — в общем, ко всему. Произведя соответствующие замеры, Хлебников суммировал данные в “законы” времени (правильнее: истории) и языка с далеко идущей целью: предугадать будущие войны и тем самым вырвать у судьбы мир и счастье для человечества. Нумерологическая деятельность осуществлялась Хлебниковым не только с позиций пророка, но и законодателя. В этом последнем качестве он учреждает две новые институции, направленные на объединение человечества: 317 Председателей Земного Шара и
звёздный язык, и подумывает о новом государственном устройстве в масштабах земли и космоса. ‹...›
Отдельный вопрос — имел ли в виду Хлебников, объявлявший
починку мозгов человечества своей первостепенной задачей, перестроиться на философский лад и свести алгебру и геометрию в законченную систему? Да, если исходить из «Нашей основы» и «Зангези» с такого рода попытками, а также из установки Хлебникова на универсальность чисел для существования космоса. И нет, если принять во внимание мышление Хлебникова — детское и примитивное, мифопоэтическое и легко сбивающееся с одного предмета на другой. Системности противоречит и риторика Хлебникова, рассчитанная на декларации и пророческие озарения, но не на интеллектуальные построения. И уж совсем не согласуется с ней самообраз Хлебникова — юродивого-прозорливца, а не кабинетного учёного. ‹...›
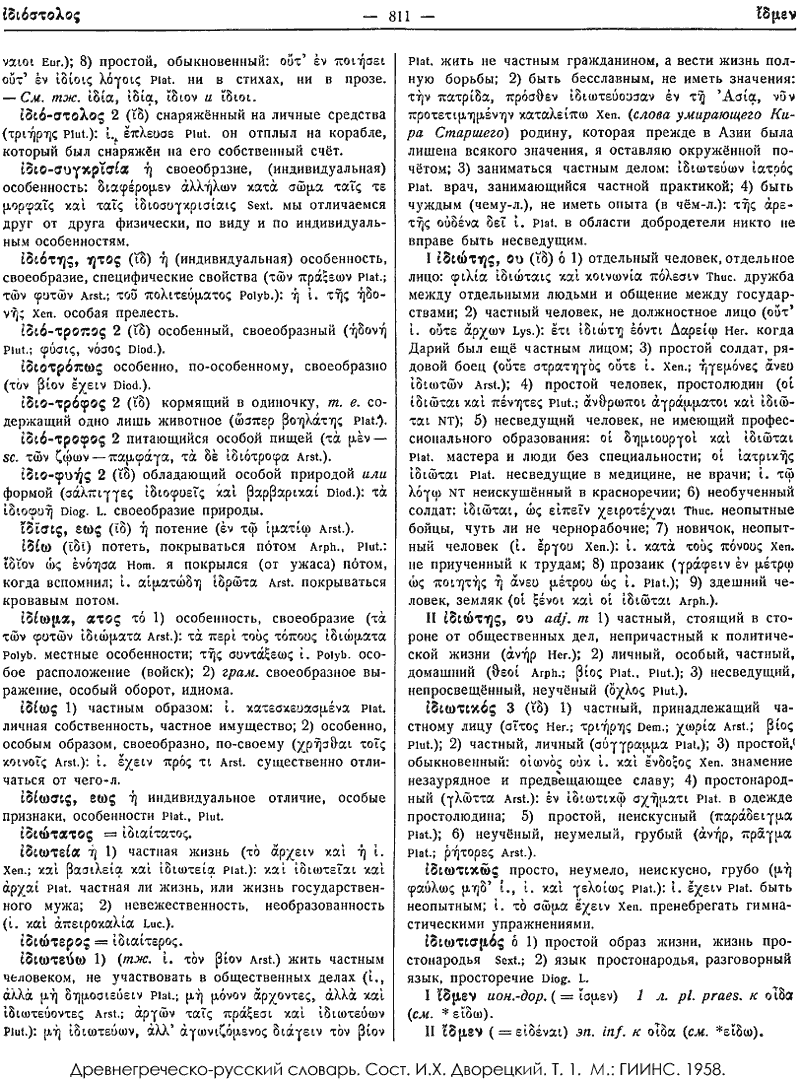
Историософия, редуцированная до чисел, занимает особое место в культуре Серебряного века. Познаниями Соловьёва (профессионального философа), Брюсова (историка), Иванова (филолога-классика), Бальмонта (знатока многих цивилизаций и путешественника по экзотическим странам), Кузмина (с тремя годами консерватории и систематическим самообразованием) или Белого (сына профессора математики, с солидным университетским и самообразованием) Хлебников, безусловно, не обладал. Дебютировав в литературу в символистской среде и заразившись её интересами и вкусами, он позднее сориентировал свой нумерологический проект на авангардные ценности ‹...›, а вместе с ними — на более низкий культурный уровень и массовую аудиторию. ‹...›
Революцию 1917 года Хлебников встретил с радостью, как избавление от службы, не просчитав, что она, окончательно лишившая его нормальных условий жизни, станет его погибелью. Чем дальше, тем сильнее Хлебников вживался в роль юродивого — или дервиша, как он называл себя во время поездки в Персию в 1921 году. Мемуаристы детально запечатлели его антибыт: редкие гонорары идут не на приобретение собственного угла, еды или семьи, а на сладкое; рукописи не хранятся в рабочем столе, а переносятся в наволочке и иногда используются для растопки костра; и т.д. И все общавшиеся с Хлебниковым после 1917 года в один голос утверждают — он был юродивым, странником, Божьим человеком ‹...›
Несмотря на большой диапазон жизнетворческих ролей, для зрелого Хлебникова оправданно говорить о двух основных ипостасях: пророка-юродивого и законодателя. Первая, позаимствованная у символистов, претерпела футуристическую огранку. Пророк, но с уклоном в математическую науку; юродивый, но в то же время шаман, мистический воин и заклинатель судьбы. Вторая же отвечает футуристической практике. Она объединяет Хлебникова с русским авангардом, занятого пересозданием мира, требующего себе за это тотальной власти и пользующегося этой властью по меньшей мере на участке литературы — например, с помощью прескриптивных произведениях типа «Приказа по армии искусства» (1918) Маяковского. ‹...›
Нумерологическому проекту явно отвечает мегаломания. Как мы помним, критики и литературоведы видели в Хлебникове-стилисте ребёнка. По-детски выглядит и его нумерологический проект. Наконец, хлебниковская мегаломания, то есть сверхчеловеческие претензии на тотальную власть, может прочитываться как неизжитые младенческие переживания своего всемогущества.
Лада Панова. Нумерологический проект Хлебникова как феномен Серебряного века
Приходится отдать должное моей находчивости: Лада Панова похожа на пана Влада, как дочурка из пробирки. Сотри случайные черты и убедись: подобие тютя в тютю, разве что у тяти волос короче. Тем более странно, что дочерний нумеролог-мегаломан зарос бородой полоумного визионера не по самые глаза. Ср.:
Вождём, пророком и энтузиастом был Хлебников, “гениальный кретин”, как его кто-то назвал (в нём действительно были черты гениальности; кретинистических, впрочем, было больше). Кручёных служил доктринёром, логиком, теоретиком. Бурлюк — барабанщиком, шутом, зазывалой.
Маяковский присоединился к группе года через три после её возникновения, когда она уже вполне образовалась и почти до конца высказалась. ‹...› Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера (выделено мной. — В.М.) Хлебникова, тупого теоретика Кручёных и несчастного шута Бурлюка, — в „зауми” делать было нечего.
Владислав Ходасевич. Декольтированная лошадь
За полоумного я обеими руками, за визионера — туда же в обе ноги. Как это почему.
Потому что головной мозг позвоночных разделяется на два полушария, левое и правое. Внутричерепным прижиганием и глубинной щекоткой мозга человека установлено преобладание в его левом полушарии бугров, ответственных за речь (Демосфен, Цицерон, Троцкий), в то время как правое словами не разбрасывается (Моцарт, Рембрандт, Растрелли, Алёхин, Гаусс, Эдисон, Чарли Чаплин, Майя Плисецкая). Таким образом, для уяснения полоумного визионера следует определиться с половиной вместилища ума и перевести на русский язык имя существительное. С него и начнём.
Vēnī, vīdī, vīcī: ясновидец. Именно победа глаза над слухом, именно. Стало быть, разговорчивая половина мозга отпадает. Перелагаем полоумного визионера на кириллицу: отъявленный правополушарник, прибегающий к услугам бугров-антиподов для истолкования пророческих видений своих.
Ох и врежет мне Хлебников за отсебятину αντί-ποδος (две и более ноги валетом)! Спешу пролить примиряющий елей: полоумный визионер переводится единственная скважина, через которую будущее падало в России ведро.
И вот она, предъява от правильных пацанов: а нумеролог-то мегаломан о чём, братан?
О том, граждане гопники, что тонкой рябине уж замуж невтерпёж. А через дорогу, за рекой широкой, так же одиноко дуб стоит высокий. В законе дуб развесистый, от клюквы жёлудь скис. Короче, нумеролог-мегаломан по фене великий числяр, а за гнилой базар дубу раскоронование, зуб даю. Или даже опустят.
И тут смотрящий забивает мне стрелку на пустыре: порожняк гонишь. Отвечаю не без распальцовки: определите значения слов, и вы избавите понятия братвы от половины фуфла. Избавить?
Да легко: уже правильные пацаны знают, что идиот всегда наособицу. Единоличник, по фене.
Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чудак ‹...›. Чудак же в большинстве частность и обособление. Не так ли?
Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом, и ответите: “Не так” или “не всегда так”, то я, пожалуй, и ободрюсь духом ‹...›. Ибо не только чудак “не всегда” частность и обособление, а напротив бывает так, что он-то пожалуй и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались...
Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. От автора.
Но Достоевский, ободряя в трудный час князя Мышкина и Марью Тимофеевну Лебядкину, воздерживается от похвального слова кретин.
Почему похвального и почему воздерживается.
Потому что сам кретин. От латинского christiānus, христианин. Вспоминаем происхождение ругательства поганый от латинского же pāgānus (ловчила, увиливающий от воинской службы). То же самое кретин: поди докопайся до подлинного смысла.
Допустим, докопался. Толку-то: коли нет затылочного глаза, одобрять ближнего кретином (т.е. христианином первого призыва, катакомбником) следует с оглядкой. Идиот — другое дело. Не надо уточнять, есть у него внутренний стержень или только прикидывается несгибаемым. Кто прикидывается, того русский человек известно как выяснил: куда народ, туда и урод.
Короче говоря, в наши дни кретин без прилагательного — чёрт знает что. Крестили по всем правилам благочиния, а он в храм ни ногой. Кретин? Возможно. Страшный Суд всенепременно доищется правды, всенепременно.
Ино дело гениальный кретин Владислава Ходасевича: однозначность и ещё раз однозначность. Гений места (ни шагу назад) — раз, христианин первого призыва (под страхом пожирания хищниками) — два. Таким образом, глубинный католик Владислав Ходасевич возводит Велимира Хлебникова в светочи православия.
Даже я отзываю свой приговор о врождённом отсутствии у поляков герба Долэнга (Dołęga) тяги к самовитому слову. Питомцы иезуитов издалека заводят речь, только и всего. Равно и приговор литвину герба Радван (Radwan) Достоевскому отзываю: одна расфуфыренная шлёпохвостница чего стоит! А слепондасы? А недоразвитки? Да он сам признаётся, что ради таких вот перлов и словесничал:
И если я читателям теперь надоел, то зато будущий Даль меня поблагодарит. Так пусть для него одного и написано (выделено мной. — В.М.). Если вы хотите, то для ясности покаюсь вполне: мне в продолжение всей моей литературной деятельности всего более нравилось в ней то, что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь, и когда я встречал это словцо в печати, то всегда ощущал самое приятное впечатление.
Ф.М. Достоевский. Дневник писателя
Как бы то ни было, скрипичный дуэт имени Леопольда Ауэра и примкнувшая к ним виолончель налицо. А это и есть трио имени Бородина.
Почему я так решил? Потому что Леопольд Ауэр, справедливо надеясь на взаимность, не раз и не два говаривал Петру Соломоновичу Столярскому:
— Да что с него взять, химик и есть... Уж эти мне бертольды шварцы!
И как было Петру Соломоновичу не покивать головой: допрежь Бородина такой разврат и в страшном сне привидеться не мог. А Леопольд Ауэр давит и давит на совесть:
— Если не Орфей, то кто, голубчик вы мой, утвердил состав струнного трио: скрипка, виолончель и альт? Генделя не предлагать. Боккерини? Да вы с ума сошли. Тут ещё вот какое дело, батенька: замироточит, бывало, и вчерашняя доска, но животворить сподоблен только намоленный образ. На-мо-лен-ный!
Простой вопрос: каким боком тут рояль. И не Бородин его прописал, между прочим, а Людвиг ван Бетховен. Похлеще Бородина отважился перечить Орфею: даёшь взамен альта чёрного носорога на колёсиках! Предваряющий преступление ход мыслей Бетховена восстановить проще простого: неважно, чем задеть струну, а крышку откинем.
Анфиса Абрамовна уже сообразила, что речь о Beethoven Triple Concerto in C-dur. Единственное в своём роде произведение, святыня и роскошь одновременно. Ни Эдвард Григ, ни Ян Сибелиус не решились посягнуть. Да что Сибелиус — Антонин Дворжак соперничать не отважился!
Но Антонина Дворжака не успела поразить круговая порука Давида Ойстраха, Мстислава Ростроповича и Святослава Рихтера, а я подростком запилил их чуть не насквозь. Лишний повод проверить озвученную Крыловым усталость наперёд: друзья, как ни садитесь, и тому подобная безнадёга. Руководить рассадкой буду я. Roll over Beethoven!

лебников (1885–1922) умер на тридцать седьмом году жизни и оставил по себе упоительную легенду, скалькированную с истории Христа: легенду об отвергнутом спасителе. Человек пришёл дать нам волю, осчастливить нас; явился в мир, чтобы мы прозрели, с новой благой вестью, а мы, презренные фарисеи, — не признали его, не увидели своего счастья, высмеяли мессию. Неблагодарные! Глупые, слепые и неблагодарные!
Легенда сложилась в крохотном, но деятельном кружке русских футуристов. Она была удобна людям не очень одарённым и совсем бездарным, служила им щитом и знаменем, сообщала силы и агрессивность в борьбе за место под солнцем. Едва она успела оформиться, пришли большевики. Эстетическое помрачение наступило такое, какого история не знала. Художественная тупость новой власти шла дальше всякого вероятия — и оказалась превосходным пьедесталом для хлебниковской легенды. ‹...› Его, будетлянина, большевики не признали — и тем вознесли.
К 1950-м годам в порядочном обществе имя Хлебникова стало паролем и символом веры: кто считает его великим поэтом, тот свой, а с прочими говорить не о чем. ‹...› Тут в сознании интеллигенции Хлебников сравнялся с Маяковским, болванками которого, чугунными и гранитными, была вся страна уставлена. Поэт конвенции встал в один ряд с поэтом резолюции. Хлебников подходил по всем статьям: революцию и новый мир — приветствовал, был революционером в искусстве (это и по сей день считают достоинством), не нравился тупым большевикам, главное же — воплощал в себе некое тайное знание, тайную доктрину. Тайна — панацея обездоленных. В катакомбах творится будущее.‹...›
Хлебников оказался в Петербурге в 1908 году, двадцати трёх лет. Приехал из Казани, мест весьма лобачевских, где немного учился математике и физике. Как раз такого начинающего поэта в столице и недоставало. Теория относительности только-только стала злобой дня, докатилась до газет. Физика вступала в свою романтическую эпоху. Многие прослышали: там — творится нечто
заумное, превышающее возможности человеческого воображения. Виду homo sapiens отказано природой в способности чувствовать кривизну пространства — ан вот поди ж ты, оно искривляется! Параллельные прямые — сходятся-таки в бесконечности, которая конечна. Нужна кривизна и в искусстве, смекнули некоторые. Новизна и кривизна. Революция. Не отставать же от физиков! Нужно нечто такое, чтобы обывателю непонятно стало и страшно. Нужно ткнуть его носом в то, что он — обыватель. Эпатировать. Тогда — с испугу и чтобы не подвергаться насмешкам — он станет платить. ‹...›
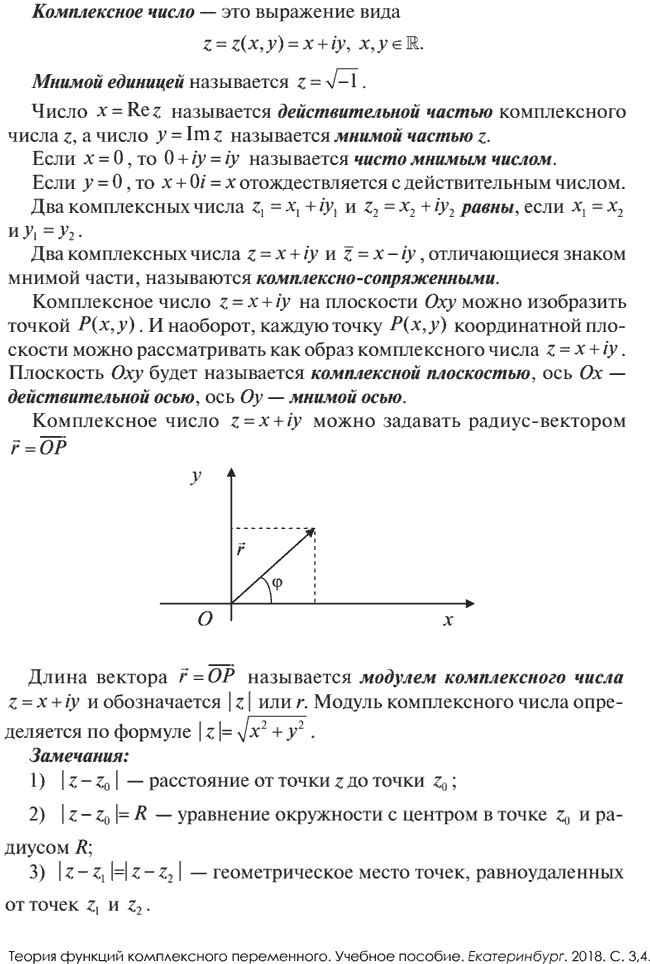
Футуристы догадались: кривизна в искусстве, вслед за революцией в политике и в физике, вот-вот станет товаром, стоит только навалиться всем миром, ухнуть, а там — сама пойдёт. Поскольку Пушкин сброшен с парохода современности, а свято место не бывает пусто, нужен был другой оракул. Маринетти не годился, оказался мелок и чужд. Хлебников пришёлся впору. ‹...›
Говорят и такое: Хлебников — учёный. Возможно, он и сам так думал. В университетах слегка учился математике и физике, в литературный текст вставлял рассуждения о теории относительности и формулу Эйнштейна (не совсем кстати). Писал и другие формулы, будто бы вскрывающие суть истории. ‹...› Хлебников научных трудов не оставил (вздорные формулы не в счёт), к размеренному кропотливому труду был не способен. Учёные Гумбольдт, Потебня, Соссюр скрупулезно собирали свою истину по крупицам, выстраивали её. Хлебникова — осеняло. Работа это очень разная. И тип темперамента — разный. Поставить его имя рядом с именами филологов и особенно лингвистов — грубая, тенденциозная натяжка. Тут одновременно и они унижены, и он. ‹...›
Человеческая физиономия Хлебникова в целом привлекательна. Подмёток он не рвал, на поэтический Парнас карабкался словно бы нехотя, жил в мире своих грёз, не лишённых поэтичности — и не вовсе бесплодных (хотя бы уже потому, что миф о Хлебникове поэтичен; этот миф и есть его главное произведение, итог его жизни). ‹...›
Сегодняшние бандиты с именами художников — в изобразительных искусствах, в поэзии, в Америке, в Европе, в России — топчут нас с санкции Хлебникова и ему подобных. Внёс ли Хлебников в литературу хоть что-нибудь? Внёс: показал, что можно наплевать на композицию — и толпа проглотит. ‹...› Композиционная свобода — вот главное и единственное, за что можно похвалить Хлебникова как стихотворца, да и то — с оговоркой: его догадку подхватили и развили другие, более одарённые. ‹...›
Другой вклад Хлебникова (в культуру, не в поэзию) — легенда, та самая упоительная легенда, калькирующая и пародирующая историю Христа (и теперь разошедшаяся во множестве удешевлённых копий). Она красива. Её можно любить, а в определённом возрасте — даже нельзя не любить. Но взрослеть приходится. И на сочинения Хлебникова приходится-таки однажды взглянуть открытыми глазами. Сняв розовые очки, мы признаем, что в литературном, в собственно литературном отношении Хлебников не сделал ничего — ничего положительного. Король гол. ‹...› Вылавливать крохи истины в его скучных, вялых, совершенно резиновых по звуку стихах, в его нарочито уродливой прозе — занятие пустое и неблагодарное. Для читателя Хлебников мёртв. Для начинающего поэта — благодаря легенде — может служить чем-то вроде катализатора („и меня признают, и я пророк”). Жив Хлебников только для его исследователей, для литературоведов, особенно западных и “левых”, из которых большинство кое-как освоило русский язык — и продолжает видеть в революции благо. Жив и полезен. Исследовать его можно до бесконечности. Тропа учёных спекулянтов к нему не зарастет никогда. Нерукотворный памятник!
Юрий Колкер. Будетлянин: взгляд из будущего
Обещал убойную рассадку? Получите:
• Юрий Колкер. Айдесская прохлада. Очерк жизни и творчества В.Ф. Ходасевича // Владислав Ходасевич. Собрание стихов в двух томах. Составление, редакция и примечания Юрия Колкера. Paris: La Presse Libre. 1982–1983.
• Юрий Колкер. Университетские годы Ходасевича // Русская мысль № 3624, Париж, 6 июня 1986.
• Юрий Колкер. Саул Черниховский и Владислав Ходасевич // Еврейский Самиздат, том 26. Ленинградский еврейский альманах, № 1–4, под редакцией Юрия Колкера. Иерусалим: Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме. 1988. С. 29–33.
• Юрий Колкер. Ходасевич, или Триединый завет Вольтера // Русская мысль № 4289, Париж, 14–20 октября 1999.
У такого альта не забалуешь! Но плох тот конь, в черепе которого гадюка не наплодит гадёнышей. Добро пожаловать на конский завод имени полоумного визионера Олега!
3. Юзги в Жеребилово
Всё дальше, дальше от ням-ням!
Мы стали лучше и небесней,
Когда доверились коням.
В. Хлебников. Страну Лебедию забуду я...
Знакомые боги
Приветливо заржут
Из конюшни числа
В. Хлебников. Я велик... (1921)
Хлебников разрывался между языком и математикой;
безусловно, он предпочёл бы открыть законы времени,
нежели закрепиться в анналах поэзии.
В.Ф. Марков. История русского футуризма. VII.
Исааку Бабелю повезло наотмашь, как сказочному Ивану-дураку: его заметил Горький. Заметив, благословил не рассиживаться: бегом в кипяток! Наберётесь впечатлений — за письменный стол. Наросла шкура взамен облупленной — снова в кипяток!
Повезло с путёвкой в жизнь и Виктору Хлебникову:
Помню, радостный поступал он в университет. Все с любопытством смотрели на этого голубоглазого мальчика в новеньком студенческом костюмчике. Но так было лишь в начале: лекции его не удовлетворяли, он стал манкировать, предпочитая книги. Затем, верно около 1905 года, стал увлекаться политикой, затем революционным движением.
Помню, он как-то запер свою комнату на крюк и торжественно вынул из-под кровати жандармское пальто и шашку: так, по его словам, он должен был перерядиться с товарищами, чтоб остановить какую-то почту, затем это было отложено. И однажды он с моей детской помощью зашил всё это в свой тюфяк подальше от взора родных!
Писать он, верно, начал в последних классах гимназии.
Я смутно помню, что как-то, взяв меня таинственно за руку, он увёл в свою комнату и показал рукопись, исписанную его бисерным почерком, внизу стояла крупная подпись красным карандашом “Горький”, и многие места были подчёркнуты и перечёркнуты красным. Витя объяснил, что он посылал своё сочинение Горькому, и тот вернул со своими заметками, насколько помню — одобрил, так как вид у Вити был гордый и радостный.
Вера Владимировна Хлебникова. ВоспоминанияРукопись не сохранилась, но позволительно предположить, что благословение Горького и в этом случае сводилось к пожеланию больше двигаться. Жизненный путь Велимира Хлебникова наводит на такие подозрения с железной настойчивостью.
На него указывали как на чудака, жителя кельи, тогда как он был человеком открытого поля и светлых горниц, философом и писателем от народа, посланцем от всех и каждого, никогда не забывавшим о пославших его. ‹...›
Он исходил и изъездил свою страну от моря до моря, от запада к востоку и от востока к западу, знал её леса и реки, знал её книги и песни, поэзию и науку, пришёл из провинции, учился в столице, был солдатом-пехотинцем первой мировой войны, знаком был с теплушкой, пробирался по шпалам, пил и ел из общего котла. Человек очень индивидуальный, всегда занятый своей мыслью, задумавшийся, он не отгородился от всех этих впечатлений большой массовой жизни, часто очень трудных и бедственных, они вошли в него, сделались своими. Он писал о войне, о голоде на Волге как человек, застигнутый событиями вместе со всеми, не отделяющий своей судьбы от общей. Хлебников почти не испытал того удобного быта, который вели его старшие сверстники, символисты и акмеисты. Иные из них умышленно искали бедствий и событий, выезжали на них, как на тигриную охоту, как в заповедник с зубрами. Хлебников в драмах из народной жизни участвовал взаправду и не сказал о них ни одного легкомысленного, принаряженного слова, его поэмы о войне и вокруг войны — это литература основательная и честная.
Берковский Н.Я. Велимир ХлебниковИли:
Хлебников складывался между революциями 1905 и 1917 годов. И революция даровала поэту то, в чём, вероятно, более всего нуждается люди его темперамента, его типа, его склада: исторические обстоятельства сложились так, что поэт получил драгоценный
простор. И речь идёт не только о географическом пространстве, необходимом поэту-чудаку, поэту-скитальцу: поэт странствовал, кочевал, многократно пересекая границы, разделяющие земли одного народа от исконных земель другого, постоянно оказываясь среди новых национальных культур, нравов, обычаев и традиций. Революция подняла на ноги весь пёстрый люд уходящей с исторической арены Российской империи. Скитаясь по этому многонациональному разноцветью, поэт повсюду ощущал себя как дома, в родной стихии; он вырвался на простор, без которого мог бы задохнуться, угаснуть. Но поэту был дарован и простор внутренний: простор исканий, проходящих на границах искусства и точных наук, поэзии и математики, игры и серьёзных социологических прогнозов, веры и разума. Он обрёл то, чего не могло быть у его предшественников, у его типологических родичей, скованных ощущением незыблемости их социального окружения, этикета, морали.
В.Н. Турбин. Традиции Гоголя в творчестве Велимира Хлебникова
И ещё:
С лета 1917 года начинались самые трудные и, может быть, лучшие годы жизни поэта, годы тяжких испытаний, которые он прошёл вместе со всей страной, и
годы самых замечательных его творческих достижений (выделено мной. —
В.М.).
Иногда говорят о какой-то отрешённой философской созерцательности поэзии Хлебникова, далёкой будто бы от злободневной действительности. Это неверно. Напротив, мало кто из литературных современников видел революцию и гражданскую войну так, как видел её Хлебников, в её важнейших, поворотных событиях. И когда говорят о каких-то его бесцельных и необъяснимых странствиях, о каких-то его внезапных отлётах в пространство, забывают, что почему-то всякий раз он оказывался там, где происходило что-то знаменательное. ‹...›
В октябре 1917 года он был в Петрограде, и это описано в его воспоминаниях «Октябрь на Неве» и поэме «Ночной обыск». В ноябре 1917 он был свидетелем боёв в Москве, и это описано в его поэме «Сёстры-молнии». В 1918 году он видел движение революции на Волге, в Астрахани, и это описано в его воспоминаниях «Никто не будет отрицать того...» и поэме «Ночь перед Советами». В 1919–1920 годах он пережил все превратности гражданской войны на Украине, поход Деникина на Москву и его разгром, и это описано в его рассказе «Малиновая шашка», поэмах «Каменная баба», «Полужелезная изба...» и «Ночь в окопе». В 1920–1921 годах он был на Кавказе и в Персии, куда его особенно влекли начинающиеся освободительные движения на Востоке, и это описано в его поэме «Труба Гуль-муллы». И всё это помимо множества стихотворений и таких поэм, как «Война в мышеловке», «Азы из узы», «Берег невольников», «Горячее поле», «Настоящее», «Ладомир», где речь идёт о революции в её целом. Причём все эти годы он постоянно работал в различных газетах, в бакинском и пятигорском отделениях РОСТА, в Политпросвете Волжско-Каспийского флота. ‹...›
Его произведения последних лет полны точных примет времени. Лица, события, даты записаны в них прямо с фактографической тщательностью, так что могут служить историческим первоисточником.
Р.В. Дуганов. Велимир Хлебников. Природа творчества. Глава первая.
Дело доходит до того, что Хлебникова не только причисляют к соприсяжному братству калик (от лат. caligātus, обутый в солдатские сапоги; в вполной боевой готовности) перехожих, но прямо возводят в проповедники жизни на ходу:
Идея движения, жажда странствия, добровольность отказа от какой бы то ни было укоренённости, вера в бесконечность пути и выбор непроторенной дороги были ядром идентичности Хлебникова. Он видел себя кочевником, славил кочевой образ жизни и предъявлял его как манифест: в частной жизни, поэзии, публицистике, лингвистических размышлениях, философских набросках. Бытовая неустроенность и тяга к перемене мест — не внешняя, а стержневая черта его биографии. ‹...›
Поэт перемещался в силу внутренней потребности, а не из-за каких-то привходящих обстоятельств или утилитарной необходимости. Такое впечатление, будто он использовал любую оказию для того, чтобы сняться с места и ускользнуть. Его практически невозможно представить работающим изо дня в день в закрытом кабинете, зависящим от личной библиотеки, обременённым заботами семейного быта, запертым в границах какого-либо жанра или научной дисциплины. ‹...›
Произведения Хлебникова — это торжество сырого и неоконченного. Стихи, проза, сверхповести, драматические произведения начинаются часто in medias res, без линейного развёртывания фабулы и сюжета, с неожиданным лаконичным концом. Это как нельзя более точно передаёт образ мира, с которым имеют дело кочевники. ‹...›
Приём монтажа, произвольная состыковка разнородного материала идеально отвечает намерениям изменить статичный мир оседлой цивилизации. Монтаж оказывается чем-то вроде управляемого семиотического взрыва, детерриториализующего окультуренное пространство ‹...›.
Кочевники с фатализмом относятся не только к себе, но и к окружающей их реальности: вещи, люди, пейзажи постоянно меняются, и единственное, что каждому дано — это дорога. И, как в дороге, исполненной случайных встреч, разрозненных впечатлений, смен ландшафтов, разных скоростей передвижения, так и в текстах Хлебникова трудно предугадать, кто или что появится за поворотом следующей строки, в каком порядке сложатся страницы, искру какого нового смысла даст очередное
скорнение слов. ‹...›
Попытки исследователей создать канонический корпус хлебниковских произведений (по каким-либо произвольным критериям отделяя “законченные работы” от черновиков) и систематизировать хлебниковские теории языка, метабиоза, чередования исторических циклов и др. неизменно упираются в “сопротивление материала” и учёный, вместо того, чтобы привести в идеальный порядок архив Будетлянина, обнаруживает, что хаоса (вопросов, сомнений) стало значительно больше, нежели на подступах к этому предприятию. Это, по всей вероятности, и есть знак того, что номадологический проект Хлебникова состоялся: он пребывает в движении сам и приводит в движение каждого, кто с ним мысленно соприкасается.
Карла Соливетти, Артём Марченко. Номадизм Хлебникова
Возможна ли живопись на ходу? Ещё как возможна: Илья Ефимович Репин. Лицом к лицу лица не увидать, большой мазок видней на расстоянии. Пять шагов от ... пять шагов к ... пять шагов от ... пять шагов к ... топ-топ-топ-топ-топ ... топ-топ-топ-топ-топ ... топ-топ-топ-топ-топ ... топ-топ-топ-топ-топ... И так часами. В Пенатах мастерская на втором этаже, горе гостям на первом: хозяин встаёт чуть свет.
А сочинять на ходу можно? Ещё как: Владимир Владимирович Маяковский. Для «Клопа» и «Бани» он, кажется, использовал письменный стол, но за «Облако в штанах» можно ручаться: вышагано (ключевое слово штаны) от и до.
Или взять акына: что вижу, то пою. В юрте впечатлений на пару-тройку возгласов: одобрение кошмы — раз, одобрение шурпы — два (одобрение бешбармака — три). Барды Британии, по свидетельству Юлия Цезаря, на постое не задерживались долее дня, то же самое рапсоды Эллады. Пробовали ослепить Гомера в видах оседлости — какое там. Впрочем, к нашим бандуристам хлопчики-поводыри так и льнули: готовь сани летом.
Однако ни Репин, ни Маяковский, ни Гомер отвлечённым от бытовых нужд вычислениям и лёжа-то не предавались, в то время как белый конь городов только этим в пути, бывало, и занят. Простой пример:
32·232·23
——————
(3+2)2·33·2(3+2)
Ни дуб развесистый, ни липу вековую пронять этим не удастся: целые числа, подумаешь! Подумаешь и скажешь: а как вам такое?
Избрать 1915 год годом Новой Эры;
обозначить года посредством чисел плоскости а + в√–1 , в виде 317d + е√–1, где е < 317.
Велимир Хлебников. Предложения. 1915, ‹1918› // ПСС, т. 6–1, с. 241, 244.
Внимание, внимание, говорит и показывает мнимых чисел звальник: выражение а + в√–1 есть краеугольный камень теории функций комплексного переменного. Велимир Хлебников называл √–1 двуличным корнем и числил по ведомству двоякоживущего, включая сущности, которые наличествуют и отсутствуют одновременно.
Дабы не смущать очеса, зеницы и вежды острием радикала (кокорины), Гаусс предложил заменить √–1 на i (от лат. imāginārius, кажущийся, воображаемый, мнимый). Поскольку i (от лат. imber, поток) Ампер уже занял под величину тока, в электротехнике для √–1 отведён значок j. При расчёте электрических цепей двуличный, как Янус (Jānus), корень j призван пособить новичку освоиться с потрясающим открытием: ток в ёмкости опережает прилагаемое к ней напряжение. Дело даже не в том, что следствие опережает причину, — ёмкость в общем случае представляет собой две обособленные пластины, и, пока прокладка между ними цела, тока вообще не может быть. Во-об-ще.
Однако расчёт цепей стоит на молчаливом признании того, что ёмкость (на схеме изображаемая как безоговорочный разрыв цепи) есть проводник. Но, как уже догадалась Анфиса Абрамовна, проводник мнимый. Поэтому комплексное сопротивление индуктивно-ёмкостной цепи рассчитывается по формуле
Z = ZL + ZC, где
ZL = jXL; ZC = – jXC
XL = ωL, XC = 1/ωC
Ни дуб развесистый, ни тонкая рябина и ухом на это не поведут. И липа вековая не поведёт. Мою надежду на взаимность всецело питает белая черёмуха душистая: Велимир Хлебников —
вождь юношей. Объявляю общий сбор!
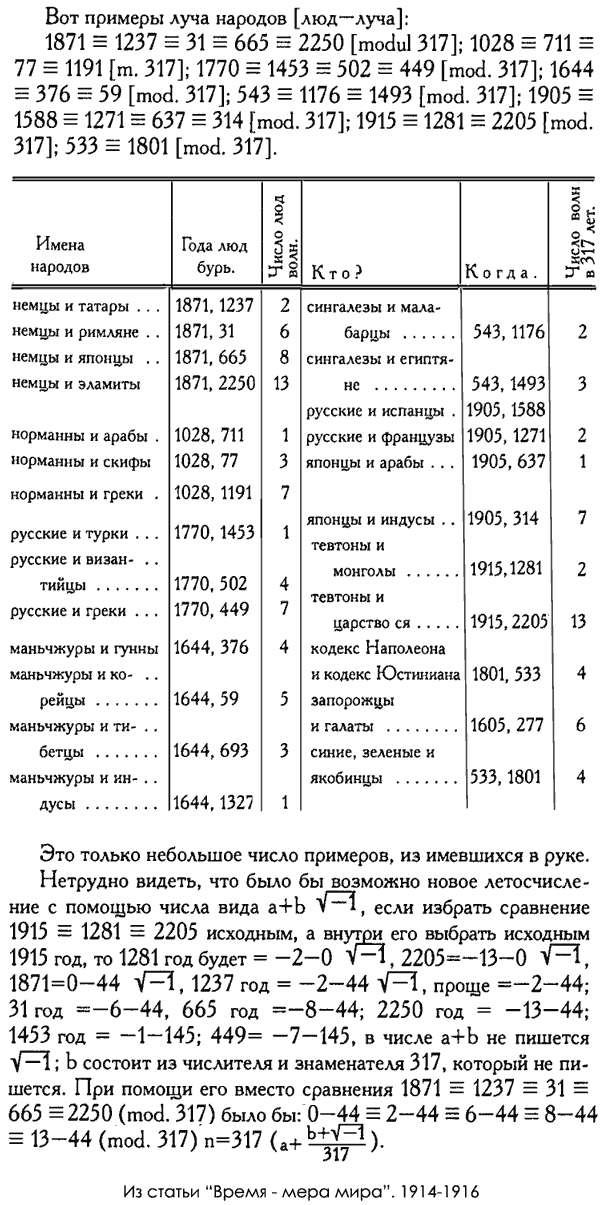
Выше (см. врезку на
Юрий Колкер. Будетлянин: взгляд из будущего) надёжа-молодёжь освежила (или порадовалась основательности познаний своих) в памяти азы теории функций комплексного переменного. Затем попыталась вникнуть (или расщёлкала, как семечки) в суть
предложений Велимира Хлебникова
избрать 1915 год годом Новой Эры; обозначить года посредством чисел плоскости а + в√–1 , в виде 317d + е√–1, где е < 317.
Слева отрывок из статьи «Буги на неб
ѣ» (в дальнейшем «Время — мера мира»). Это пояснительная записка к выше означенным
предложениям: в отличие от меня, Хлебников пытался обратить в свою веру и дубы, и рябину, и липу.
Почему я так решил?
Встречный вопрос: что это за три палки плашмя между
годами людбурь?
Обширности познаний уже не хватает, знаю по себе. Одно дело перезарядка ёмкости с частотой ω, другое — сравнение чисел по модулю.
Как ни странно, привлекаемые Хлебниковым в союзники дубы отчеканят даже спросонков: числа
а и
b сравнимы по модулю
m в двух случаях:
1). разность
а и
b делится на
m без остатка;
2).
а может быть представлено
a =
b +
k·m, где
k — некоторое целое.
Сравнение по модулю (у Хлебникова
modul 317) и обозначают в математике тремя палками плашмя. При этом
k = (
а –
b) /
m. Именно
k Хлебников и называет
числом людволн.
Простой пример: сокрушение Германией Франции (взятие Парижа) 1871 и первое нашествие татар на Русь (взята Рязань, горожане вырезаны поголовно) 1237. 1871 – 1237 = 634. Модуль 317 укладывается без остатка дважды (
2 людволны).
Эламиты взяли Вавилон в 2250, событие произошло до Рождества Христова. Поэтому сравнимость с датой взятия Парижа высчитывается 1871 – (–2250) = 4121 (
13 людволн).
1770 памятен для русских блистательными победами екатерининских орлов (фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский, адмирал граф Орлов-Чесменский и др.) над турками-османами. Взяты Рябая могила, Ларс, Кагул, Измаил, Килия, Браилов, Бендеры, Аккерман, выиграно Чесменское морское сражение. При этом Константинополь османы взяли в 1453, на подъёме предыдущей
людволны: 1770 – 1453 = 317.
Кто господствовал в Малой Азии до турок? Персы. 502-й — год начала (502–506) провальной для Византии войны с шахом Кавадом. 1770 – 502 = 1268,
4 людволны.
Когда начался дивный расцвет Древней Греции? После Каллиева мира, 449 г. до н.э. По итогам войны держава Ахеменидов лишилась господства в Эгейском море, Афины становятся великой морской державой. 1770 – (– 449) = 1219,
7 людволн.
Кто такие якобинцы (1801), липа вековая наслышана; как насчёт синих и зелёных (533)? Совершенно верно, совпадает по времени с повелением Юстиниана Великого составить полный свод законов Восточной Римской империи (533). Поскольку Хлебников с младых ногтей (уроки Закона Божия) знал, что Юстиниан был славянином,
Святой Юстиниан, император Византии, был славянин: он родился в селении Вердяне, близ города Средца, в нынешней Болгарии. Его дядя Юстин, который также был уроженец Вердяны, пешком в одном тулупе пришёл в Константинополь. Здесь он, благодаря своим природным дарованиям, быстро возвысился, а потом сделался даже императором. В Константинополь он перевёл вслед за собой из Вердяны свою жену Лупкиню с её сестрой Бегляницею, матерью Управды. Этот Управда, по смерти Юстина, и занял византийский императорский престол с именем Юстиниана.
Император Юстиниан известен в истории своими успешными войнами с врагами Византийской империи, а также изданием полного собрания римских законов. Но, сверх того, он прославился своими заслугами в пользу христианской Церкви и православия. Так, он предпринял немало забот к распространению христианства и к искоренению язычества. Закрыв языческие школы в Афинах, он повелел, чтобы преподавание наук вели иноки. Язычество более всего подвергалось его преследованиям в самой столице его царства — Византии, а также и в Малой Азии. С целью обращения ко Христу язычников Юстиниан послал в Малую Азию Иоанна, епископа Ефесского, и тот крестил там до 70 тысяч язычников, а император построил для обращённых до 90 церквей.
Наряду с распространением христианства Юстиниан радел о сохранении чистоты православной веры. В его царствование продолжали беспокоить Православную Церковь несториане, которые учили, что Христос не был Богочеловеком и что Божество только обитало в Нём, как в простом человеке. Ещё более несториан волновали Церковь монофизиты, учившие, что в Иисусе Христе Божеское естество поглотило человеческое. Против этих-то произвольных измышлений человеческого разума Юстиниан составил песнь: „Единородный Сыне и Слове Божий”, которую повелел петь за Богослужением. По его же стараниям в 553 году был созван пятый Вселенский Собор для осуждения несторианских мыслей в сочинениях Феодора Мопсуетского, Феодорита Киррского и Ивы Едесского и для прекращения раздоров в Церкви.
Ревнитель православия и благочестия, Юстиниан много заботился о богослужении Православной Церкви и о благолепии храмов, как мест Богослужения. В своем своде законов он поместил, между прочим, закон об обязательном повсеместном праздновании праздников Рождества Христова, Крещения Господня и Воскресения, Благовещения Пресвятой Богородицы и других. Кроме того, Юстиниан построил много прекрасных храмов во славу Пресвятой Богородицы, апостолов и других святых. Самым знаменитым созданием Юстиниана считается храм святой Софии, Премудрости Божией, в Константинополе.
Построенный ещё равноапостольным царём Константином храм при Юстиниане был сожжён во время одного бунта. Благочестивый царь собрал лучших строителей, не щадил золота и денег и соорудил храм на удивление векам по своему величию и красоте.
В своей частной жизни Юстиниан проявлял высокое благочестие. Всегда набожный, он проводил Великий пост в суровом воздержании и молитвах, не вкушал хлеба, а довольствовался растениями и водой, да и то через день и два.
Так, живя в чистоте и благочестии, он царствовал 39 лет и мирно скончался о Господе. За заслуги Церкви и за благочестие он причислен по смерти к лику святых. Вместе с ним причислена к лику святых и его супруга, царица Феодора, которая была сначала грешницей, но потом раскаялась и провела остаток жизни в чистоте и благочестии.
Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых.
Память благоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры (14 ноября).
он, если можно так выразиться, за него болел из родо-племенных соображений. Да и родство душ налицо: Хлебников тоже был неприхотлив (краюшка хлеба и капля молока — не самый показательный пример) и законодательствовал (сами законы творим, законов бояться не надо, и лепим глину поступков). Закон иной раз кое-что и разрешает, но, в общем случае, ограничивает или вменяет в ничто. Неизбежен клич прошлецов: долой! Отсюда вывод: законы творят по праву сильного. Или (случай одинокого врача в доме сумасшедших) по праву сильных доводов.
Особенно возмутила обывателей Константинополя отмена (скорее, покушение на отмену) Юстинианом скачек, они же конные ристания, они же гонки колесниц. Болельщики (скорее ультрас, чем фанаты) делились на синих и зелёных, по цветам скамей на ипподроме. Оказался ли ультрамарин любимым цветом ворвавшихся во дворец императора молодчиков, Прокопий Кесарийский не сообщает, но было их числом до двухсот пятидесяти. Юстиниан согласился отменить всё, что ущемляло далеко не бескорыстную (чья колесница приходит первой, те и крышуют городской рынок) вольницу, но это была военная хитрость: когда ультрас расселись по скамьям в очередной раз, верные присяге воины зачистили всех без разбора — и синих, и зелёных. 1801 – 533 = 1268, 4 людволны.
Переходим к предложению ввести новое летоисчисление: началом новой эры (кальпы) Хлебников предлагает избрать 1915 год. И обосновывает нововведение так, что голова идёт крýгом. На самом деле ларчик открывается просто: дабы пресечь кривотолки, Осип Максимович Брик собрал учёных, которым великий числяр изложил свои наблюдения над повторяемостью событий.
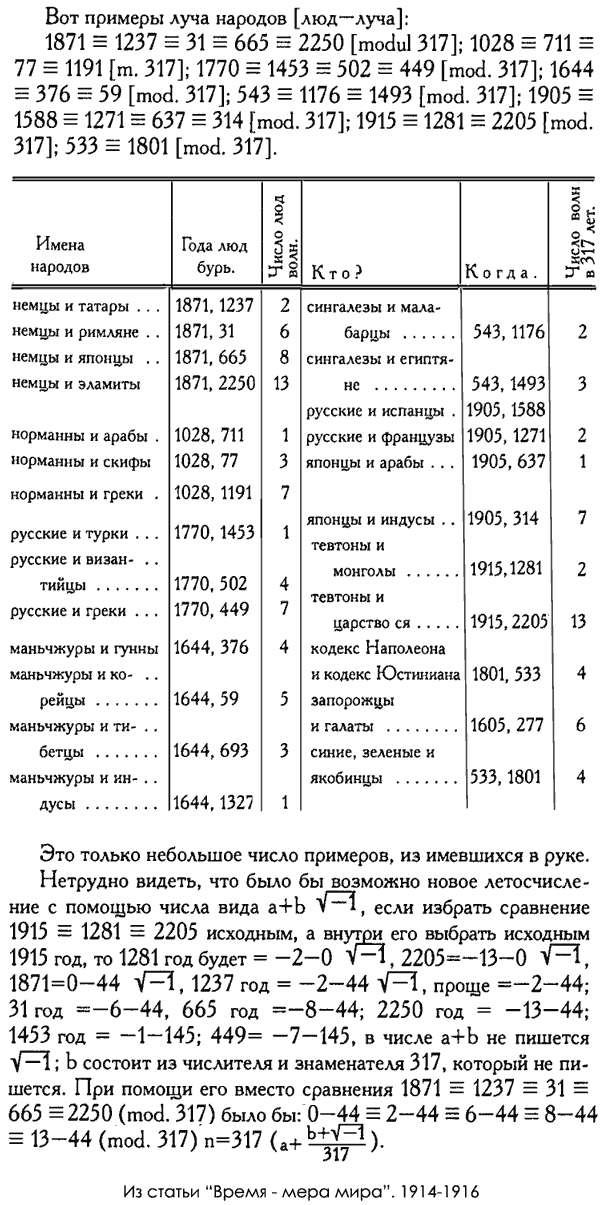
Бывать в штабе у Бриков стало делом культуры и удовольствия.
Здесь мы читали новые вещи, обсуждали текущие затеи, возмущались военной чертовщиной, ждали революцию.
Виктор Шкловский, этот начинённый снаряд, разрывался парадоксальностью, острыми мыслями об искусстве, проявлял крупные способности новой формации.
Лично для меня Шкловский был примечателен тем, что, прослушав мои вещи, говорил комплименты, собирался обязательно написать обо мне — и до сих пор не устаёт собираться...
И такой же компактный снаряд, как Осип Брик.
Недаром этих двух очень боялся Хлебников и, по дороге от Бриков, говорил мне:
— Я больше к ним не пойду.
— Почему?
— Боюсь.
— Чего?
— Вообще... у них жестокие зубы.
Но Хлебников приходил, читал стихи и загадочно посматривал на зубы Брика и Шкловского.
Как известно, Хлебников был одержим математикой, цифроманией. Мы в этом ничего не понимали.
Поэтому Брик однажды созвал учёных-математиков к себе, и Хлебников прочитал доклад «О колебательных волнах 317-ти».
По Хлебникову, число 317 было законом колебательного движения государств, и народов, и событий, и войн, и толп, и даже отдельных душ и отдельных поступков.
Хлебников доказывал математикам (у Брика) связь между скоростью света и скоростями Земли солнечного мира, связь, заслуживающую названия
бумеранг в Ньютона.
После хлебниковских уравнений выходило, что
площадь прямоугольника, одна сторона которого равна радиусу Земли, а другая — пути, проходимому светом в течение года, равна площади, описываемой прямой, соединяющей Солнце и Землю, в течение 317 дней.
Переходя затем к волнениям отдельных душ, поэт-математик доказывал, что жизнь Пушкина даёт примеры колебательных волн через 317 дней.
Например, свадьба Пушкина состоялась на 317-й день после помолвки с Гончаровой.
Смелость хлебниковских уравнений в отношении закона души одного человека привела учёных в состояние опасного психомомента, и они ушли с несомненным бумерангом в головах.
Ибо никак не могли связать уравнения опытных наук со свадьбой Пушкина.
Только один профессор, надевая галоши, молвил:
— А всё-таки это гениально.
Вскоре после вечера математики Маяковский и Брик выпустили журнал «Взял», где Хлебников и напечатал свой
бумеранг в Ньютона.
Василий Каменский. Путь энтузиаста
Каменский запамятовал важное происшествие, которое совпадает по времени (конец 1915) с изданием брошюры «Взял!», где были напечатаны и «Буги на небѣ» и «Предложенiя»: у Бриков Хлебникова провозгласили королём времени. Вот дневниковая запись:
19.XII.
Основание Государства Времени.
‹...›
31.XII.
Осип Брик провозгласил тост за короля времени В. Хлебникова.
ПСС, т. 6–2, с. 230.
Следовательно, предложение избрать 1915 год годом Новой Эры есть заявка на отмену христианского летоисчисления в пользу эры (кальпы) Хлебникова, ибо самодержцем Государства Времени он уже был по факту. По крайней мере, в глазах Бриков и Маяковского. Виктор Шкловский здравицу Осипа Максимовича поддержал с редкой даже для Василия Каменского безоглядностью: он только что понял, чем существительное остранение отличается от существительного устранение. Углом φ на плоскости комплексного переменного, конечно.
4. Усмиритель потопа
Хлебниковское нетрудно видеть указывает на то, что воспринимающей стороной он полагает не только тех, кто разбирается в трёх палках плашмя и умеет работать с комплексной плоскостью, но и, хотя с оговорками, приемлет подрыв устоев (παρά-δειγμα, образец) науки. Один такой вчерахарь, благодаря деловой хватке Осипа Максимовича Брика, себя с лучшей стороны проявил ещё до запуска бумеранга в Ньютона посредством печатного станка (на средства Осипа же Максимовича, замечу не без умиления).
Будущего свидетель, разумеется, предвидел взрыв негодования на его предложение избрать 1915 нулевым годом эры Хлебникова. Пришлось, подобно Юстиниану, идти на хитрость: намекнуть, что знаменательный для тевтонов год соотносится посредством двух людволн с неудачной попыткой хана Хубилая завоевать Японию — раз, с царством ся — два. Напрашивается вопрос: чем так знаменит 2205, что Хлебников надеется на него, как Тарас Бульба на Янкеля?
Завѣренное аттестатомъ образованiе Велимира Хлѣбникова — казанская классическая гимназiя (VIII летъ обученiя). Преподаванiе исторiи, согласно циркуляру отвѣтственнаго Вѣдомства Министерства Народнаго Просвещенiя, начиналось съ III-го класса, причемъ это былъ вводный курсъ; обозренiе исторiи народовъ классической древности преподавалось въ IV-мъ; въ V-мъ проходили исторiю среднихъ вѣковъ; въ VI-мъ новую исторiю (съ 1517); въ VII-мъ таковую заканчивали на времени царствованiя императора Александра II; въ VIII-мъ излагались всѣ опущенныя статьи въ предшествующихъ классахъ. Относительно преподаванiя исторiи Древняго Китая можно полагать за вѣрное: таковая циркуляромъ не предусмотрена, полагались достаточными краткiя свѣдѣнiя объ египтянахъ, евреяхъ, финикiянахъ, вавилонянахъ, ассирийцахъ и персахъ.
Разумеется, вероятность ознакомления с древностями Китая в VIII классе казанской гимназии отнюдь не нулевая, но разумнее предположить, что Хлебников узнал о царстве ся из первоисточника (историю маньчжуров, арабов, корейцев, индусов, сингалезов, малабарцев и галатов тоже, кстати говоря, в гимназиях не проходили).
Таковымъ на переломѣ XIX–XX вв. оказывается отдельное изданiе магистерской диссертацiи С.М. Георгiевскаго «Первый перiодъ китайской исторiи (до имеператора Цинь-шу-хуанъ-ди)». Сергей Михайлович Георгиевский (1851–1893) первым в России занялся переводом анналов китайской старины на русский язык; внемлем и мы слову подвижника (экстраординарный профессор С.-Петербургского университета по кафедре китайской словесности С.М. Георгиевский умер от переутомления усиленными занятиями, возвращаясь из командировки в Лондон, Париж и Берлин).
На 70 году своего правленiя Яо пожелалъ заблаговременно найти себе преемника, такъ какъ сына своего, Дань-Чжу, имѣвшаго дурныя наклонности, не считалъ достойнымъ престола. Государю указали на Шуня, отличавшагося высокими душевными качествами и сыновнимъ благочестiемъ. ‹...›
Спустя некоторое время Яо ‹...› поручилъ ему удалить воды потопа с территорiи Китая. Чтобы выполнить послѣднее, Шунь избралъ себѣ помощникомъ Юя. ‹...›
Обозревъ с Юемъ мѣста, оставшiеся незатопленными, Шунь поручил ему заведывать работами по осушенiю.
Юй ‹...› спустилъ воды потопа въ русла главнѣйшихъ рѣкъ ‹...›, вырубилъ непроходимыя леса и привелъ территорiю Китая въ такой видъ, что люди опять могли селиться на ней и пользоваться ею. ‹...›
Труды свои Юй кончилъ черезъ 9 лѣтъ по начале ихъ и возвратился въ столицу. ‹...›
Чтобы наградить Юя за его полезную дѣятельность, Яо далъ ему въ наследствунную собственность удел Ся (здесь и ниже выделено мной. — В.М.), вслѣдствiе чего Юй стал называться Ся-бо или Ю-ся ‹...›
Яо скончался въ 2258 г. до Р.Х. ‹...› и Шунь сталъ править как единодержавный государь, а Юй ‹...› согласился быть его соправителемъ. ‹...›
По смерти Шуня Юй ‹...› остался государемъ, и по прошествiи 3-хъ лѣтъ траура по Шуню, съ 2205 г. до Р.Х., началъ единодержавно править государствомъ ‹...›.
Отъ Юя начинается династия Ся, государи которой правили Китаемъ от 2205 до 1766 г. до Р.Х.
Сергѣй Георгiевскiй Первый перiодъ китайской исторiи (до имеператора Цинь-шу-хуанъ-ди)» СПб.: Печатня А. Григорьева. 1885. С. 20–31.
Всё-таки книга редкая даже на переломе прошлого и позапрошлого веков, настаивать на знакомстве с ней Виктора Хлебникова не приходится. Плодотворнее обратиться к знаменитому словарю Брокгауза и Эфрона, благо на сайте НЭБ доступны все тома, от А до Я.
О царстве ся отдельной словарной статьи не находим, однако зиждитель оного налицо:
Юй, прозванный Великимъ — одинъ изъ древнихъ государей в Китаѣ. Свои дарованiя и энергiю онъ проявилъ при императорѣ Яо, когда ему удалось вернуть воды, затопившiя землю, въ прежнiя ихъ границы. Затѣмъ ему было поручено произвести дѣленiе Китайской имперiи на 9 провинцiй, что онъ выполнилъ успѣшно въ 2278 г. до Р. Хр. За большiя услуги, оказанныя Юйем въ дѣлѣ устройства государства, императоръ Шунь сдѣлалъ его регентомъ, а затѣмъ назначилъ его своим наслѣдникомъ. На престол Юй вступилъ въ 2205 г. и положилъ начало династiи Ся, правившей въ Китаѣ до 1766 г. до Р. Хр.
Энциклопедическiй Словарь. Томъ XLI. Эрданъ – Яйценошенiе.
Издатели: Ф.А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И.А. Эфронъ (С.-Петербургъ).
СПб.: Типографiя Акц. Общ. Брокгаузъ-Эфрон. 1904. С. 328 (Юзовъ – Юкагиры).
Не лишено оснований подозрение, что Виктор (найти законы времени он поклялся в 1905-м, за 4 года до перемены имени) Хлебников запомнил дату 2205 именно в связи с Юем Великим, усмирителем потопа: жизнь, без остатка отданная благу народа. При этом Юй в писаниях Воронихина столетий не упомянут ни разу. Не упомянут в писаниях человека, поклявшегося порадеть человечеству: законы времени позволят заглядывать в будущее столь же свободно, как на часы. Установив стрелку будильника на исчисленную беду, человечество будет во всеоружии. Во всеоружии!
Внимание: все даты хлебниковской таблички на комплекносй плоскости в равной степени сопряжены, однако для своего предложения избрать для сравнения с нулевый годом эры Хлебникова указан год начала династии Ся. Ещё раз: никогда, нигде соискатель не упоминает имя основателя таковой. Хотя для того, чтобы выйти на 2205, пришлось перелопатить весь брокгаузо-эфроновский громозд (мы приняли за верное, что с книгой С.М. Георгиевского Хлебников не пересекался): заметка о Юе Великом находится в предпоследнем томе справочника!
Кстати говоря, Сергей Михайлович пользовался какими угодно источниками, только не «Ши-цзи» Сыма Цяня. У последнего читаем:
Во времена Яо воды потопа разлились до небес, они на неоглядных пространствах окружили горы и залили холмы, и народ, живший в низинах, пребывал из-за этого в печали. Тогда Яо стал искать человека, способного обуздать воды. ‹...›
Когда Яо умер, император Шунь, обратившись к помощникам, спросил: „Есть ли среди людей такой, кто мог бы завершить и прославить деяния Яо, чтобы поставить его на должность чиновника”. Приближённые ответили: „Если Бо-юя поставить начальником земляных работ, он сможет завершить их и прославить деяния Яо”. Шунь, сказав „О, правильно!”, отдал приказ Юю: „Ты будешь приводить в порядок воды и земли. В этом будь старателен!”.‹...›
Как человек Юй отличался острым умом и усердием, добродетели никогда не покидали его, его человеколюбие вызывало любовь к нему, его слова заслуживали доверия. Голос служил основой тонов, тело его служило основой мер длины. В мерах веса тоже исходили из него. Неутомимый в делах, сохранял величественный вид и служил образцом и примером.‹...›
Тринадцать лет жил вне дома и, даже проходя мимо ворот своего дома, не смел заходить в него.
Одевался скромно, ел просто, с крайней почтительностью служил духам людей и небесным духам. Живя в бедном жилище, ничего не жалел для устройства каналов и рвов. По суше ездил в повозке, по воде передвигался на лодке, по грязным местам ходил с помощью мокроступов, по горам ходил в обуви с шипами. Слева уровень и веревка, справа — циркуль и угольник. ‹...›
Так, в девяти областях установился единый порядок. Во всех четырёх сторонах стали жить, на девяти горах были прорублены дороги, русла девяти рек прочищены, девять озер ограждены, и всё в пределах четырёх морей слилось воедино ‹...›
Император Шунь представил Юя Небу как своего преемника. Через семнадцать лет император Шунь скончался. По окончании трёхгодичного траура Юй отказался от власти в пользу сына Шуня Шан-цзюня и удалился ‹...› все владетельные князья в Поднебесной покинули Шан-цзюня и стали являться на приём к Юю. Тогда Юй вступил на престол Сына Неба и, обратившись лицом к югу, стал управлять Поднебесной. Государство назвал Сяхоу.
Сыма Цянь Ши цзи. Ся бэнь цзи (основные записи о Ся). Перевод Р.В. Вяткина.
Считаю установленным, что самодержавный правитель государства Времени, ссылаясь в своих выкладках на 2205, подразумевает свою равновеликость Сыну Неба, тяжкими трудами снискавшего престол Поднебесной.
И что сие нам даёт? Ровным счётом ничего. Ни-че-го! Помните моё бахвальство подбором альта к двум скрипкам и виолончели?
Хлебников научных трудов не оставил (вздорные формулы не в счёт).
Юрий Колкер. Будетлянин: взгляд из будущего
Именно вздорные, именно! И великий числяр это признал. Признал зимой 1921 года, похожей на Нерчинские рудники, спустя 1921 – 1905 = 16 лет со времени клятвы дать оправдание смертям. Совсем как Юй Великий (13 лет на осушение Поднебесной), даже в подробностях: Юй пожинает плоды рук своих (с циркулем) и ног (в мокроступах) — и воин времени пожинает в мокроступах, известных на Урале как бродни, см.: В. Хлебников. О бродниках. ‹1912–1913›.
В.Д. Ермилову
‹Баку, 3 января 1921 г. — в Харьков›
Милый Вася Ермуша!
Да простится мне это введение, но так вышло.
Я в Баку (Морской политпросвет, Баиловская ул., общежитие).
Открыл основной закон времени и думаю, что теперь так же легко предвидеть события, как считать до 3.
Если люди не захотят научиться моему искусству предвидеть будущее (а это уже случилось в Баку, среди местных людей мысли), я буду обучать ему лошадей. Может быть, государство лошадей окажется более способными учениками, чем государство людей.
Лошади будут мне благодарны: у них, кроме езды, будет ещё один подсобный заработок: предсказывать людям их судьбу и помогать правительствам, у которых ещё есть уши.
Повторяю, Владислав Ходасевич угадал (запальчивость свойственна библейским пророкам), что для понимания основного закона времени левое полушарие головного мозга ни к чему, достаточно правого (образное мышление).
Велимир чувствует себя лучше, сегодня бродит по комнате. Мне даёт читать рукопись из «Досок судьбы». Я туго воспринимаю формулы, пытаюсь их решать. Говорю ему, что тут я неуверенно себя чувствую. Он проверяет мои познания по математике. „Два в первой степени — сколько будет?” Отвечаю: „Два”. „Правильно. А в нулевой?” Отвечаю: „Ноль”. „Нет, единица”. „Что означают числа времени в степенях?” Я молчу. Он за меня отвечает. Берёт спичечную коробку, показывает её рубашкой вверх и говорит: „Это плюс, а дно — это минус”. Кладёт на стол “плюсом” наверх и затем переворачивает один раз, сверху “минус”, и другой — опять сверху “плюс”. „Это число два. Теперь число три”. Поворачивает коробку, лежавшую “плюсом” сверху один раз — получился “минус” сверху, два раза — “плюс”, и третий раз — сверху “минус”. „Был “плюс”, но под действием тройки пришёл “минус”. Таково развитие формы во времени”. „Очень просто, — говорю, — и понятно, но я подозреваю тут непростые вещи”. „Да, тайна первых трёх не проста, но она будет раскрыта”.
Пётр Васильевич Митурич. Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым
Таки раскрывают. Стремительное развитие науки циклистики повергает даже бывалого читателя Досок судьбы в столбняк, довольно-таки приятный: образчиков закономерности поступательно-возвратного хода мировых событий ныне великое множество. Известны ритмы Филлипса, Даллуа, Стенсена, Д’Орбиньи, Миланковича, Латугина, Гильберта, Воссоевича, Эйхвальда, Шостаковича, Брюкнера, Чижевского, Вольфа, Тимея, Де-Геера, Вильямса, Имхетепа, Руфа, Apxипoвa, Гиппарха, Владимирского, Сеченова, Сидякина, Темурьянца, Макеева, Самохвалова, Мартьянова.
Поименованные ритмы чаще развивают дальнозоркость человечества, нежели пособляют в обыденной жизни. Ритм Петтерсона-Шнитникова — едва ли не единственное исключение: однородные события “возвращаются” спустя 1850 лет. Этот ритм открыл “на кончике пера” именно полоумный визионер (он же гениальный кретин), и-мен-но:
„Поразительно сложными и долгими путями приходит знание к человечеству. Так, ещё в начале ХХ века палеоклиматолог О. Петтерсон опубликовал свою гипотезу о космической обусловленности колебаний климата в послеледниковый период. Суть её заключается в следующем. Плоскость лунной орбиты медленно меняет своё положение и приблизительно через каждые 1800 лет в так называемые периоды констелляций оказывается совмещённой с плоскостью земной орбиты. В результате этого происходит суммирование приливообразующей силы Луны и Солнца с возрастанием её на 12% по сравнению с наименьшими значениями. Это приводит к возникновению в океанах внутренних волн, поднимающих к поверхности огромные массы холодной воды, которая охлаждает и насыщает влагой атмосферные потоки, охлаждая и увлажняя, в конечном счёте, климат Земли. В 1957 году советский географ А.В. Шнитников, обобщив в своей книге «Изменчивость общей увлажнённости материков Северного полушария» громадный фактический материал, выделил и описал 1850-летние климатические периоды послеледниковой эпохи, соответствующие космическим циклам О. Петтерсона. Ритмы Петтерсона-Шнитникова, таким образом, оформились в стройную систему знания более 40 лет назад, однако никак нельзя сказать, что они стали общеизвестными, не говоря уже о том, чтобы войти в хозяйственную стратегию человечества. А время не ждёт...”
В. Молотилов. Лира Ка
Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887) успешно совмещал занятия химией и музыкой, то есть сочетаниями слышимых звуков. Ниже я предоставлю слово химику И.В. Ченикову (род. 9 сентября 1940), но прежде вот что:
Однажды он дал прочесть какое-то литографированное издание, вернее, оттиск, содержащий несколько страниц. Мне очень понравилось стихотворение, начинавшееся строчкой
Ты же, чей разум стекал, как седой водопад ...
Услышав мой восторженный отзыв, Велимир тут же переписал это стихотворение в сокращённой редакции:
Ты же, чей разум стекал,
Как седой водопад,
На пастушеский быт первой древности,
Кого числам внимал
И послушно скакал
Очарованный гад в кольцах ревности,
И змея пленённого пляска и корчи,
И кольца, и свист, и шипение
Кого заставляли всё зорче и зорче
Шиповники солнц понимать точно пение, —
Я, носящий весь земной шар
На мизинце правой руки,
Тебе говорю: Ты!В левом углу листа бумаги Хлебников написал: „Посвящаю А.Н. Андриевскому”. Этот дорогой мне автограф погиб вместе со всем моим архивом в 1942 году.
Затем, после короткой паузы, Хлебников направил разговор в новое русло:
— Кеплер писал, что он слушает музыку небесных сфер. Я тоже слушаю эту музыку, и это началось ещё в 1905 году. Я ощущаю пенье вселенной не только ушами, но и глазами, разумом и всем телом.
Стихотворению, которое только что мне посвятил, Велимир дал такое пояснение:
— Самая важная в нём строчка —
шиповники солнц понимать точно пение. Здесь в сжатом виде заявлена уверенность в пульсации всех отдельностей мироздания и их сообществ. Пульсируют солнца, пульсируют сообщества звёзд, пульсируют атомы, их ядра, электронная оболочка и каждый входящий в неё электрон. Такт пульсации нашей галактики настолько велик, что установить его начало и стать свидетелем конца невозможно. А такт пульсации электрона так мал, что не измерить никаким ныне существующим прибором. Когда в результате остроумного эксперимента этот такт будет обнаружен, кто-нибудь
по ошибке припишет электрону волновую природу. Так возникнет теория лучей вещества.
Разговор этот состоялся ранней весной 1920 года. Если я запомнил его содержание и даже некоторые формулировки Велимира, то исключительно потому, что его высказывания показались мне плодом неуёмной фантазии. Уже не помню, в ту же ночь или на следующий день, но я их всё-таки записал.
Нетрудно представить, до какой степени я был потрясён, когда в 1925 году, спустя три года после смерти Хлебникова, появилась диссертация Луи де Бройля.
Александр Николаевич Андриевский. Мои ночные беседы с Хлебниковым
Продолжаю о химиках, не чуждых звуков чудных и молитв. С одним из таких мне посчастливилось свести знакомство. Золотое было времечко! Как рублём подарил:
Основная мысль Хлебникова, относящаяся к “законам времени”, выражена следующей фразой:
Я понял, что время построено на степенях двух и трёх, наименьших чётных и нечётных чисел. Я понял, что повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная природа времени. ‹...›
Столь же одержимые, как и Хлебников, временем и повторяющимися циклами майя пользовались древним календарём, в котором единицами летоисчисления были 13 и 20 дней, а одним из важнейших периодов — бактун (около 400 лет). Майя представляли время как серию бесконечных циклов, вложенных друг в друга. Поэтому любой промежуток времени, как они считали, можно представить несколькими циклами, что полностью отвечает современным представлениям о системности и фрактальности всего сущего.
Можно вспомнить уже практически неизвестного, а некогда довольно популярного П. Лукашевича, чьи труды называют иногда болезненными фантазиями. На протяжении десятков лет он пытался установить связь между алфавитами языков земного шара и различными астрономическими феноменами, между первобытными русскими корнесловами и планетами. Манипулируя числами 365 и 29–30 (длительностями года и месяца в днях) в 1882 году Лукашевич пришёл к выводу, что основной закон в „мирострое“ вселенной это „безмолвная борьба нечётности с чётностью“ ‹...›
Нелишне также вспомнить, что намного раньше, например, в Древнем Китае, представления о том, что „гармонический эфир пронизывает космос, социум и тело каждого индивида были положены в основу официального мировоззрения империи и закреплялись соответствующими нормативными актами ‹...› Концепция единства микрокосма и макрокосма, разработанная в Древнем Китае, определяла и последовательность формирования понятий при обучении, которое начиналось с законов единства мира: через концепцию единой мировой энергии к взаимодействию двух противоположных начал и далее — к взаимодействию основных элементов (стихий), после чего переходили к специализации“ (указание на источник заимствования опускаю. —
В.М.).
В европейской культуре в наиболее чёткой форме представления о ритмическом единстве были сформулированы в концепции гармонии сфер ещё Пифагором, в соответствии с которой ритмы космоса, Солнечной системы и человека едины и представимы в числах, которые кодируют состояния коренных качественных изменений свойств систем. ‹...›
В основе представлений о мире в пифагорейской школе лежало число. Считалось, что все вещи имеют число, и между всеми числами имеется отношение (“логос”). Наиболее известный вывод древних учёных заключался в том, что, если в космосе возникает музыка, то она должна быть основана на тех же принципах, что и земная музыка. ‹...›
Со временем базисная совокупность отношений послужила у пифагорейцев детальному оформлению модели мира, известной под названием гармонии небесных сфер. В древности это была самостоятельная исследовательская программа, отдельная парадигма, которую разрабатывала целая плеяда мыслителей, среди которых Анаксимандр, Анаксагор, Эмпедокл, Аристарх, Архимед, Евдокс.
Вместе с тем, ещё Аристотель особо подчёркивал: важны не сами числа, а их соотношения, „ибо соотношение есть сущность“, а „всякий порядок есть отношение“. ‹...›
По мнению Платона, некий миростроитель (мастер, творец, демиург), олицетворяя высшую созидательную силу и действуя по определенному идеальному плану, или образцу, при разделении „мировой души“ на части для последующих манипуляций с ними, формирует свой строительный материал в следующих количествах: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27... Это вперемежку идущие члены геометрических прогрессий с основаниями 2 и 3 (“женское” и “мужское” начала вещей согласно пифагорейским воззрениям). Сейчас мы можем сказать, что ряд 1, 2
2, 2
3 ... представляет собой единицы разрядов двоичного счисления, на котором базируется работа ЭВМ. Ряд 1, 3, 3
2, 3
3 ... тоже представляет собой единицы разрядов троичного счисления, с использованием которого некогда была создана становящаяся всё более знаменитой ЭВМ «Сетунь», а также выражает минимальные базисные наборы мер (“частей”), аддитивным комбинированием которых может быть получено наибольшее количество вариантов “целого” ‹...› Значимость отношения 1 : 3 в структурной организации бытия подтверждается и современной наукой. В генетике оно выражает открытый Менделем закон расщепления в свободном комбинировании двух пар признаков при скрещивании биологических форм. И.Д. Исаев приводит множество нетривиальных, не зависящих от „субъективных установок“ и „искусства опыта“ примеров, констатирующих факт широкой распространенности пропорции 1 : 3 в естественных процессах структурогенеза.
Построенный у Платона ряд непосредственно связан с музыкальной гаммой пифагорейцев 2:1, 3:2, 4:3, является её продолжением, её дальнейшим дроблением.
Показательно, что найденные пифагорейцами пропорции звукоряда, длины консонирующих интервалов до сих пор входят в пособия по музыкальной гармонии, выдержав почти 2500-летнее испытание временем. Выход за пределы этих законов музыкотворчества и создание гармонии принципиально нового типа — гармонии диссонанса, синкопа — стали по силе только Моцарту и гениям джаза. ‹...›
Несомненно, что числовая форма концепции ритмического единства природы стала мощным интеллектуальным прорывом человечества, базой современной естественнонаучной картины мира.
Хорошо известно, что единственным системным образованием, полученным В. Хлебниковым, был гимназический курс, в котором в его времена большое внимание уделялось древнегреческим и религиозным произведениям. Не исключено, что именно они впоследствии стали базисом для личных открытий поэта. С другой стороны, представляется уместным вспомнить, что, если циклическую схему эволюции и функционирования природных и социальных систем обосновывали в своих трудах многие учёные, то внимания на “периодизм” самих научных теорий практически не обращалось. Термин “периодизм” использовался известным психоневрологом Я.А. Анфимовым, открывшим в конце XIX в маниакально-депрессивный психоз.
Во все времена учёные уверены, что познают окончательную и несомненную истину, которая призвана сменить заблуждения предшественников, тогда как на деле сплошь и рядом их мысль из века в век ходит по одним и тем же кругам. Так, перебрав вековые споры биологов о механизмах эволюции, С.В. Мейен заключил: „Будь это шахматная партия, любой арбитр давно бы признал ничью ввиду повторения ходов”. И, безусловно, прав замечательный биолог-теоретик А.А. Любищев, который предостерегал: „Если не хочешь, чтобы над тобой смеялись потомки, никогда не смейся над предками”.
Чеников, Игорь Всеволодович. Хлебников и современная циклистика
На этой высокой ноте с чужого голоса умолкаю.




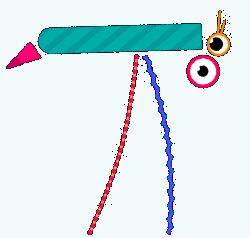
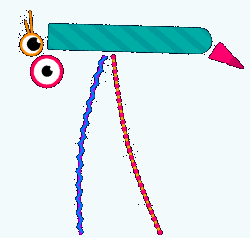 редставьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольтэ, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля жёлтые зубы.
редставьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольтэ, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля жёлтые зубы.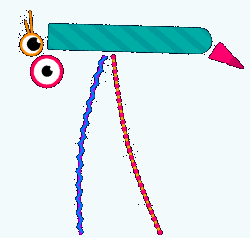 ражданственная тенденция, владевшая русской критикой с середины прошлого столетия вплоть до символистов, резко отделяла “форму” от “содержания”. „Симпатичное направление” было её кумиром. Художник оценивался смотря по тому, как относился он к “гуманным идеям” и твёрдо ли верует в то, что “погибнет Ваал”. Формальное мастерство в лучшем случае прощалось как невинное, но ненужное украшение. Чаще всего оно презиралось.
ражданственная тенденция, владевшая русской критикой с середины прошлого столетия вплоть до символистов, резко отделяла “форму” от “содержания”. „Симпатичное направление” было её кумиром. Художник оценивался смотря по тому, как относился он к “гуманным идеям” и твёрдо ли верует в то, что “погибнет Ваал”. Формальное мастерство в лучшем случае прощалось как невинное, но ненужное украшение. Чаще всего оно презиралось.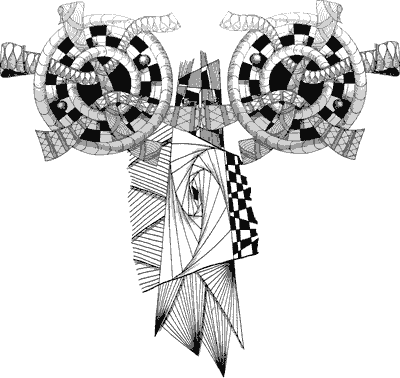 утуристы, если это не соловьи без претензий
утуристы, если это не соловьи без претензий Осознав губо-челюстную смычку Пастернака и Ходасевича, уточним их лошадячество. Конинность, прошу прощения. Кони в разрезе плодовитости делятся на жеребцов и меринов. Борис Леонидович оставил потомство, Владислав Ходасевич — ни гу-гу. И жеребец арабской породы Пастернак (сыновья) выдаёт тяжеловозу Маяковскому (дочь писательница) охранную от обвинений в творческой несостоятельности грамоту в то самое время, когда сивый мерин Ходасевич клеймит его кобылой в декольтэ.
Осознав губо-челюстную смычку Пастернака и Ходасевича, уточним их лошадячество. Конинность, прошу прощения. Кони в разрезе плодовитости делятся на жеребцов и меринов. Борис Леонидович оставил потомство, Владислав Ходасевич — ни гу-гу. И жеребец арабской породы Пастернак (сыновья) выдаёт тяжеловозу Маяковскому (дочь писательница) охранную от обвинений в творческой несостоятельности грамоту в то самое время, когда сивый мерин Ходасевич клеймит его кобылой в декольтэ. сылка на Достоевского существенна для интересующей нас проблемы в целом ряде отношений. Прежде всего, ввиду той роли, которую в его романах играет пародирование ‹...›.
сылка на Достоевского существенна для интересующей нас проблемы в целом ряде отношений. Прежде всего, ввиду той роли, которую в его романах играет пародирование ‹...›.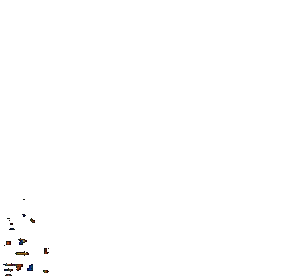 евизию хлебниковской математики естественно будет начать c определения объёма этого понятия. Алгеброй оно не исчерпывается, ибо алгебра — лишь один из рычагов сложного механизма. Второй такой рычаг — геометрия, хлебниковедением практически не замеченная. Сам же механизм — назовём его нумерологическим проектом — восстанавливается в два этапа. Сначала алгебра и геометрия интегрируются в историософию (редко обсуждаемую) и язык (тщательно и многосторонне описанный), а затем к полученной концептуальной конструкции подключаются жизнетворческие стратегии.
евизию хлебниковской математики естественно будет начать c определения объёма этого понятия. Алгеброй оно не исчерпывается, ибо алгебра — лишь один из рычагов сложного механизма. Второй такой рычаг — геометрия, хлебниковедением практически не замеченная. Сам же механизм — назовём его нумерологическим проектом — восстанавливается в два этапа. Сначала алгебра и геометрия интегрируются в историософию (редко обсуждаемую) и язык (тщательно и многосторонне описанный), а затем к полученной концептуальной конструкции подключаются жизнетворческие стратегии.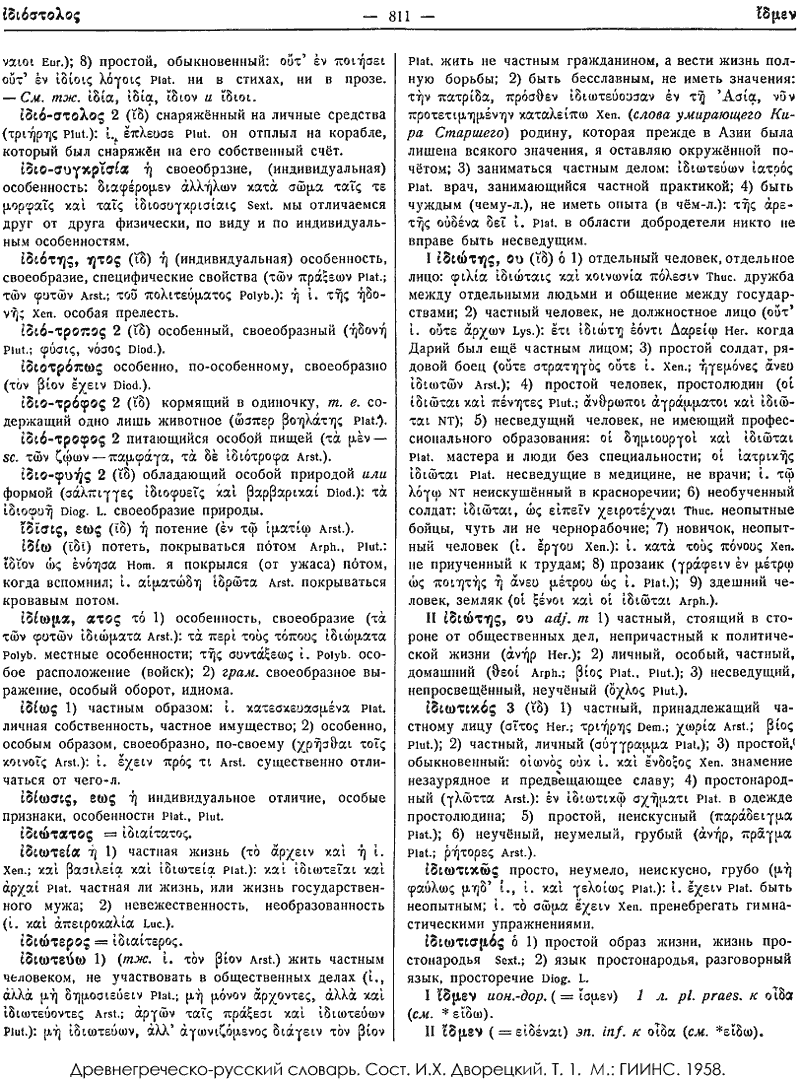 Историософия, редуцированная до чисел, занимает особое место в культуре Серебряного века. Познаниями Соловьёва (профессионального философа), Брюсова (историка), Иванова (филолога-классика), Бальмонта (знатока многих цивилизаций и путешественника по экзотическим странам), Кузмина (с тремя годами консерватории и систематическим самообразованием) или Белого (сына профессора математики, с солидным университетским и самообразованием) Хлебников, безусловно, не обладал. Дебютировав в литературу в символистской среде и заразившись её интересами и вкусами, он позднее сориентировал свой нумерологический проект на авангардные ценности ‹...›, а вместе с ними — на более низкий культурный уровень и массовую аудиторию. ‹...›
Историософия, редуцированная до чисел, занимает особое место в культуре Серебряного века. Познаниями Соловьёва (профессионального философа), Брюсова (историка), Иванова (филолога-классика), Бальмонта (знатока многих цивилизаций и путешественника по экзотическим странам), Кузмина (с тремя годами консерватории и систематическим самообразованием) или Белого (сына профессора математики, с солидным университетским и самообразованием) Хлебников, безусловно, не обладал. Дебютировав в литературу в символистской среде и заразившись её интересами и вкусами, он позднее сориентировал свой нумерологический проект на авангардные ценности ‹...›, а вместе с ними — на более низкий культурный уровень и массовую аудиторию. ‹...› лебников (1885–1922) умер на тридцать седьмом году жизни и оставил по себе упоительную легенду, скалькированную с истории Христа: легенду об отвергнутом спасителе. Человек пришёл дать нам волю, осчастливить нас; явился в мир, чтобы мы прозрели, с новой благой вестью, а мы, презренные фарисеи, — не признали его, не увидели своего счастья, высмеяли мессию. Неблагодарные! Глупые, слепые и неблагодарные!
лебников (1885–1922) умер на тридцать седьмом году жизни и оставил по себе упоительную легенду, скалькированную с истории Христа: легенду об отвергнутом спасителе. Человек пришёл дать нам волю, осчастливить нас; явился в мир, чтобы мы прозрели, с новой благой вестью, а мы, презренные фарисеи, — не признали его, не увидели своего счастья, высмеяли мессию. Неблагодарные! Глупые, слепые и неблагодарные!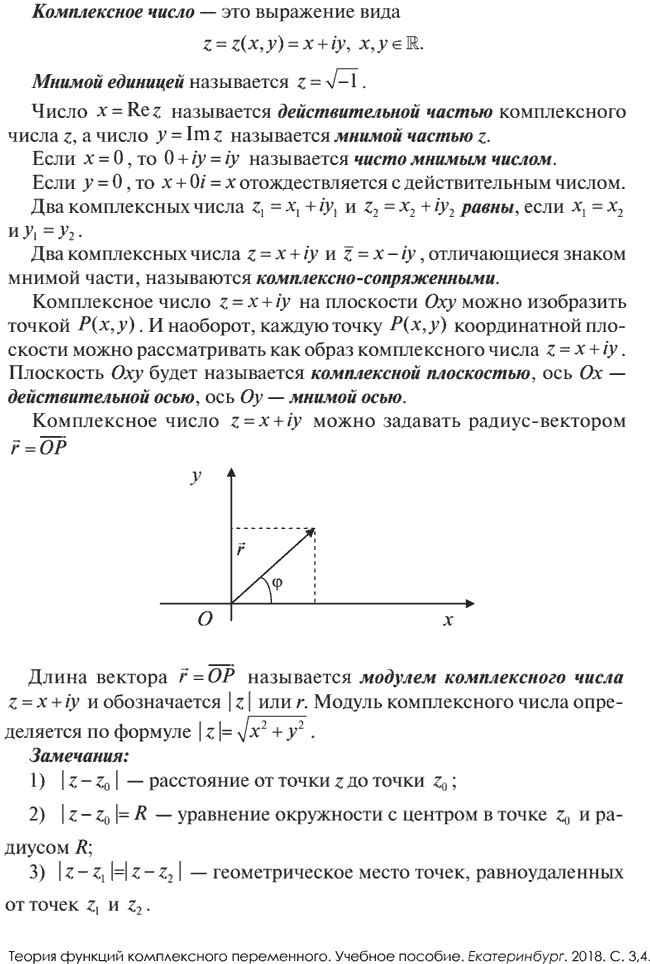 Футуристы догадались: кривизна в искусстве, вслед за революцией в политике и в физике, вот-вот станет товаром, стоит только навалиться всем миром, ухнуть, а там — сама пойдёт. Поскольку Пушкин сброшен с парохода современности, а свято место не бывает пусто, нужен был другой оракул. Маринетти не годился, оказался мелок и чужд. Хлебников пришёлся впору. ‹...›
Футуристы догадались: кривизна в искусстве, вслед за революцией в политике и в физике, вот-вот станет товаром, стоит только навалиться всем миром, ухнуть, а там — сама пойдёт. Поскольку Пушкин сброшен с парохода современности, а свято место не бывает пусто, нужен был другой оракул. Маринетти не годился, оказался мелок и чужд. Хлебников пришёлся впору. ‹...›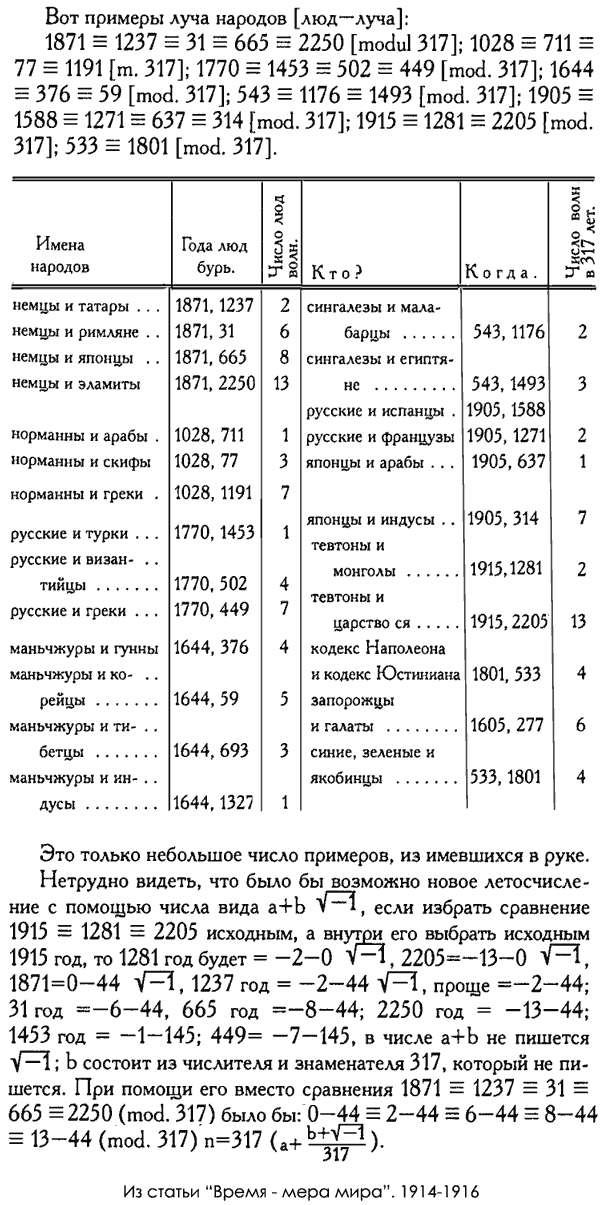 Выше (см. врезку на Юрий Колкер. Будетлянин: взгляд из будущего) надёжа-молодёжь освежила (или порадовалась основательности познаний своих) в памяти азы теории функций комплексного переменного. Затем попыталась вникнуть (или расщёлкала, как семечки) в суть предложений Велимира Хлебникова избрать 1915 год годом Новой Эры; обозначить года посредством чисел плоскости а + в√–1 , в виде 317d + е√–1, где е < 317.
Выше (см. врезку на Юрий Колкер. Будетлянин: взгляд из будущего) надёжа-молодёжь освежила (или порадовалась основательности познаний своих) в памяти азы теории функций комплексного переменного. Затем попыталась вникнуть (или расщёлкала, как семечки) в суть предложений Велимира Хлебникова избрать 1915 год годом Новой Эры; обозначить года посредством чисел плоскости а + в√–1 , в виде 317d + е√–1, где е < 317.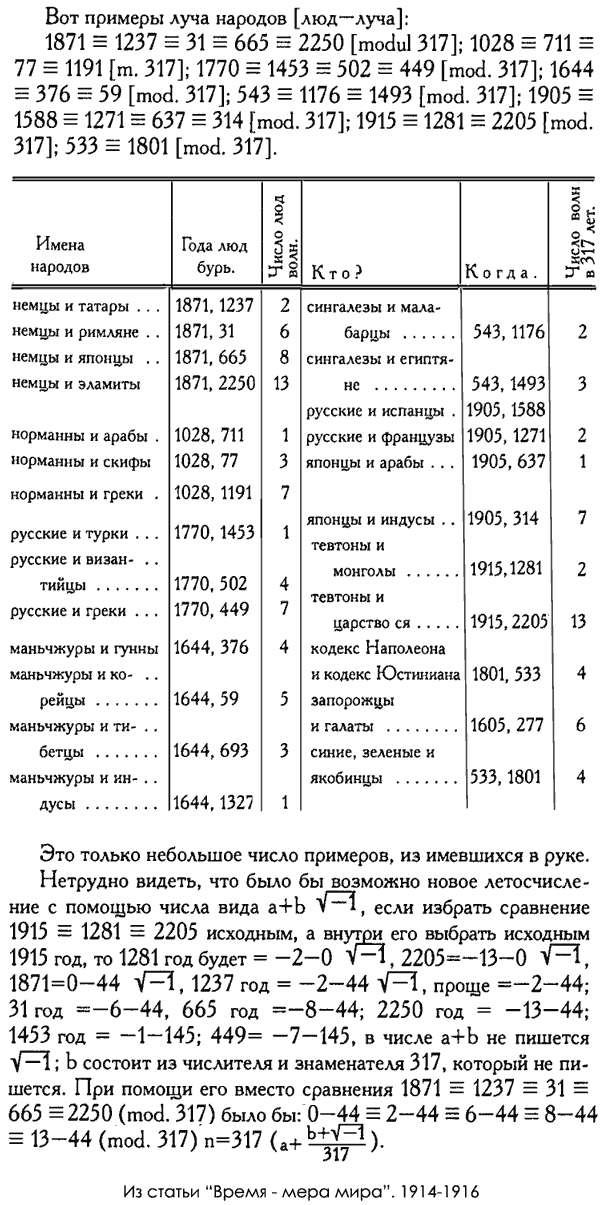 Бывать в штабе у Бриков стало делом культуры и удовольствия.
Бывать в штабе у Бриков стало делом культуры и удовольствия.