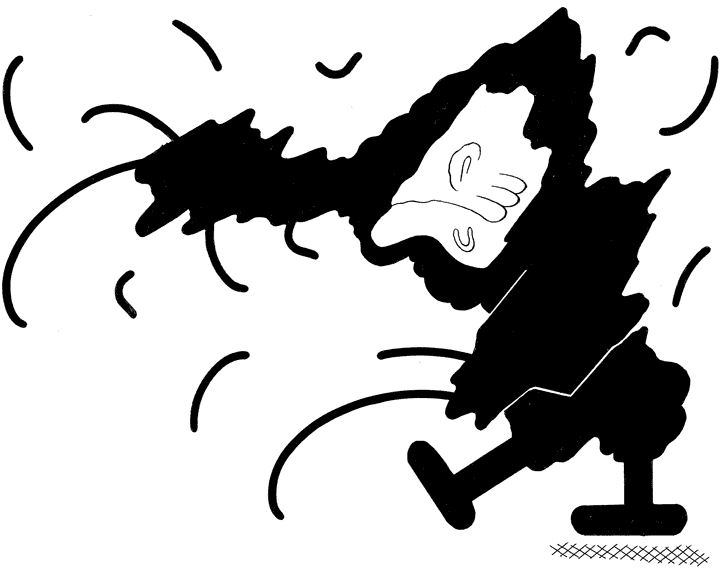
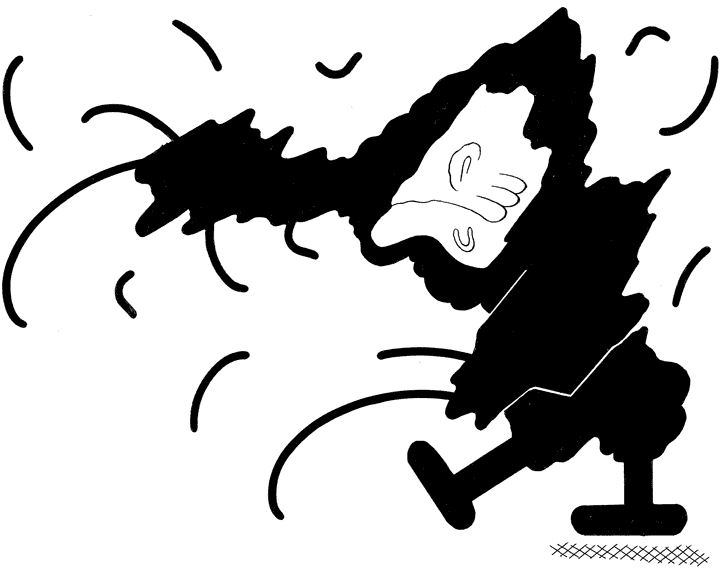
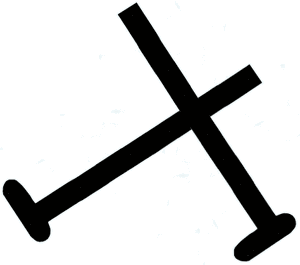 рестоматийной считается классификация ведущих литературно-художественных течений первой четверти XX века в России по критерию темпоральности. При такой трактовке Велимира Хлебникова принято определять как одного из родоначальников русского футуризма. Это справедливо, однако слишком схематичный подход упускает из виду своеобразие темпоральной интенциональности его творчества, необычность его отношения к категориям физического, социального, семиотического пространства. На наш взгляд, следует с доверием отнестись к декларациям, которые многократно встречаются в текстах Будетлянина: Председателем Земного Шара становится каждый, кто стремится не только мыслить, но и жить в неклассической системе координат Лобачевского и Эйнштейна.
рестоматийной считается классификация ведущих литературно-художественных течений первой четверти XX века в России по критерию темпоральности. При такой трактовке Велимира Хлебникова принято определять как одного из родоначальников русского футуризма. Это справедливо, однако слишком схематичный подход упускает из виду своеобразие темпоральной интенциональности его творчества, необычность его отношения к категориям физического, социального, семиотического пространства. На наш взгляд, следует с доверием отнестись к декларациям, которые многократно встречаются в текстах Будетлянина: Председателем Земного Шара становится каждый, кто стремится не только мыслить, но и жить в неклассической системе координат Лобачевского и Эйнштейна.Хлебников доказывал, что человек — не заложник своей эпохи, социального положения, географии проживания, культурного горизонта. Пространство и время даны ему не как внешние ограничительные рамки. Пространство и время — это он сам. Чтобы совершить такое открытие, достаточно находиться в движении. Перемещаясь, мы приводим в движение не только себя, но и окружающий мир. В этой принципиально антропоцентричной динамике бытия у поэзии особая роль: она помогает перемещаться туда, где ещё никто и никогда не был (Старкина 2005: 285); она возвращает человеку слух к его подлинной сущности, к истине бытия, согласно которой транзитное и неустойчивое состояние — не одномоментно переносимое качество, не точка испытания, после прохождения которой вышедшая из равновесия явь вновь стремится к гомеостазу, норме, предсказуемому порядку, а единственная данность, достоверность которой не вызывает сомнений.
Идея движения, жажда странствия, добровольность отказа от какой бы то ни было укорененности, вера в бесконечность пути и выбор непроторенной дороги были ядром идентичности Хлебникова. Он видел себя кочевником, славил кочевой образ жизни и предъявлял его как манифест: в частной жизни, поэзии, публицистике, лингвистических размышлениях, философских набросках. Бытовая неустроенность и тяга к перемене мест — не внешняя, а стержневая черта его биографии. Поэтому было бы логично “перепрочесть” архив, публикации, судьбу Хлебникова как связный гипертекст, организующим принципом которого выступают темы и метафоры кочевья. Развёртывая хронотоп своих произведений, разрабатывая азбуку ума и семантическую фонетику звёздного языка, исчисляя закономерности исторических циклов, поэт верил, что тем самым расчищает для себя и других территорию окаменевших культурных смыслов, а также приводит в движение целый мир (Вдохновение есть пробежавший ток от всего ко мне, а творчество есть обратный ток от меня ко всему (Дуганов 1990: 324)).
Об особости, эксцентричности Хлебникова написано много. Стоит обратить внимание как определяется эта особость: Хлебникову ищется место (в истории литературы, истории лингвистических учений и др.). В то время как правильнее было бы искать путь. И как человек, и как художник, Хлебников принципиально отказывается от прописки где бы то ни было и делает принцип номадизма основой своей онтологии, этики и поэтики.
Начнём с того, что такое утверждение следует понимать буквально. Биография Председателя Земного Шара крайне насыщена „голодом пространства” (Я испытывал настоящий голод пространства, Tв.: 5441![]()
![]()
Вл. Марков подмечал, что Хлебников „почти половину своей жизни он провел в скитаниях. Скитания дают ему ритм” (Марков 2001: 9). Этот ритм влияет как на композиционную структуру произведений, так и на интенсивность творчества. Другой хлебниковед — Рипеллино — проводил следующую параллель:
Действительно, если мы прочтём розановский фрагмент, посвященный монашеству, то без труда различим фигуру Хлебникова за описанием: монах
Особость, обособленность, пребывание “не от мира сего” — наиболее часто встречающееся впечатление от Хлебникова, упоминаемое современниками. И так — с детства. Сошлёмся лишь на один из характерных примеров: А.В. Васильев, профессор математики Казанского университета, в разговоре с С.Я. Маршаком рассказывал следующее:
Хлебникова пресловутая отчуждённость совершенно не тяготила. Он принимал её, признаваясь, что одинокие странствия были для него следствием добровольного выбора и осознанной практикой стимуляции творческих сил, а не скитанием в поисках тёплого места. Он с готовностью называл себя дервишем, йогом, марсианином (СП. V: 310),3![]()
В упрямом самоотстранении не просматривалось и тени “авторской маски”, одеваемой исключительно на поэтической сцене. Творчество для Хлебникова — это культивация свободы, техника раскрепощения, умение преодолевать те “гравитационные поля”, которые предопределяют жизнь человека вне искусства. Пресловутый голод пространства был связан с непереносимостью для поэта-кочевника искусственно установленных и охраняемых границ и препятствий.
В отличии от русской аристократии или знаменитых современников-поэтов, таких, как Маяковский или Есенин, Хлебников путешествует не по Европе или Америке. Он живо интересовался картами, этнографическими и историко-культурными путеводителями и травелогами из этих регионов, но прежде всего его привлекал Восток — Кавказ, монголы, фольклор тюркских народов, Япония и Китай, Индия, где люди и божества вместе (СП.: V, 298), Персия, где все люди — адамы (Тв.: 503).
Там, на Востоке, находятся не только огромные неосвоенные территории, но и культурные пространства, в которых не утрачена связь с бытием, где люди не отчуждены от своей естественной природы, где не прервались традиции сокровенного духовного знания. Помимо этого, Азия — тот культурно-цивилизационный ареал, который слабо освоен русской словесностью, который таит в себе память об исчезнувших царствах на Волге, в Иране и Сибири, об языческих культах древней Руси, о мифах, обрядах и миросозерцании скифов и других исчезнувших племен (Тв.: 593). Восполнить этот пробел значит преодолеть великорусскую ограниченность, которая не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголо-финны предшествовали русским в обладании землёй, которая не помнит саму себя в промежутках между Рюриком и Владимиром или Иоанном Грозным и Петром Великим (Тв.: 593), которая потеряла предания о царствах волжских Булгар, о новгородской и псковской республиках, о казаках как низшей степени дворянства, созданной духом земли (Тв.: 593).
С гордостью называя себя сыном Азии (1940: 472) и наделяя факт своего рождения в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии (ныне — Калмыкия, село Малые Дербеты) провиденциальным смыслом, Хлебников видит персональное предназначение в том, привнести в русскую и мировую культуру голоса степных кочевников, их умение жить, не принадлежа какому-либо месту (см. Силард 2012). Примечательно, что краткий рассказ из автобиографии — родился 28 октября 1885 года в стане монгольских исповедующих Будду кочевников — имя Ханская ставка, в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря (море 40 имён) (Тв.: 641) — сопровождается не скрываемой гордостью за лихих предков (особо подчёркивается сродство с казаками, разбойниками и искателями земель) и демонстрацией “столичного самосознания”: Принадлежу к месту Встречи Волги и Каспия-моря (Сигай). Оно не раз на протяжении веков держало в руке весы дел русских и колебало чаши (Тв.: 641).
Хлебников не уставал подчёркивать, что место его рождения уже в силу своего геополитического положения играло узловую магистральную роль (место транзита, перегрузки, торговли, культурного обмена, этнического смешения). Отсюда прорастали корни его будущих приглашений-приказов к войне новых поколений против старых, государства времени против государства пространства, здесь предполагалось проводить Собор Отроков будущего (Тв.: 606), соединение Станов Азии или Мировых союзов юношей (Тв.: 604), здесь Астраханский Народный Университет, открывшийся в 1918 году, должен был со временем превратиться в высший вечерний храм знания (Тв.: 616) и будущий Xрам Воинов Разума, в интеллектуальный водоём, где снова будут встречаться великие волны России, Китая и Индии (Тв.: 617).
Особым статусом в хлебниковской картине мира наделена не только Астрахань, как политико-административный центр края, а всё Поволжье. Оно — своего рода зона равноденствия, где гармонически воссоединяются три мира — арийский, индийский и каспийский, треугольник Христа, Магомета и Будды, оно и окно в Индию и угол, где смотрит Африкой Россия (Тв.: 246).
В статье «О расширении пределов русской словесности» Хлебников объявлял, что намеревается заполнить собой лакуну русской Азии и восстановить те духовные связи, которые некогда были утрачены наряду с политическими и торгово-экономическими. Достаточно вспомнить, что поселения в устье Волги (сначала Итиль, потом Астрахань) в древности находились на перекрёстке межцивилизационных караванных путей: водного — из варяг к арабам, караванного — из Ирана в Биармию (Великую Пермь), из Китая в Прованс. Прежде чем стать частью Российской империи и ранее Руси, Поволжье входило в состав Волжской Булгарии, Половецкой Степи, Хазарского Каганата, Золотой Орды. И память об этом, вопреки вектору внутренней колонизации российской империи, хранится в объектах материальной культуры, в фольклоре, в ритуальных практиках и обычаях людей, проживающих на этой территории. Уже в поэме «Хаджи-Тархан» (1913), посвящённой Астрахани, Хлебников анонсирует замысел своего геопоэтического поворота:
Далее величественный проект конкретизируется и в стихах, и в публицистике. Во время экспедиции 1918 года (с целью подобрать место для заповедника) Хлебников надиктовывает поэту Рюрику Ивневу декларации «Индо-русский союз» и «Азосоюз», где говорит о потребности обратить Азию в единый духовный остров. Подобный ориентализм мотивирован не только биографически (желанием наделить смыслом место рождения в контексте персонального мифа) и уж тем более не модой на восточную экзотику, свойственной некоторым предреволюционным петербургским салонам.
Восток, Азия (в декларации 1918 года — «Азосоюз», Хлебников 2005, Т. 6: 299), Ассу (К угнетаемым государствам относятся великие народы материка Ассу [Китай, Индия, Персия, Россия, Сиам, Афганистан], Хлебников 2005 Т. 6: 271) влекут его прежде всего тем, что в отличие от Европы, они не наделены общим материковым самосознанием. Им ещё только предстоит сложиться, оформиться, осознать свое духовное родство и общность исторического предназначения. В «Письме двум японцам» такая задача обозначена как приглашение:
Грандиозная геополитическая задача метафорически приравнивается Хлебниковым к поэтическому письму. Создать Азию — значит вообразить её. Изложение проекта на бумаге — демиургический акт, с которого начинается актуализация возможности, заложенной в самой структуре пространства, но не воплощенной из-за отсутствия поэта, способного видеть потенции бытия столь же явно, как обыватели видят бытие фактическое, ставшее, окультуренное трудом.
Приведённые цитаты и наблюдения уточняют, что же представлял собой хлебниковский голод пространства. Говоря о нём, мы обязаны иметь в виду отнюдь не только влечение к целине (неосвоенному пространству) и малоисследованным землям, интерес к восточной спиритуальности и культурно-историческим горизонтам, затенённым российским западничеством.
Хлебников не “заселял” Азию своим творчеством. Не занимался он и археологически дотошной реконструкцией жизни, которая некогда текла на этой территории. Его завораживала картина противоречивого, становящегося, поливалентного бытия. В открытости он видел залог будущего. И именно поэтому, а не из нелюбви и подозрительности к Западу, он утверждал, что русским угрожает не новое татарское иго, а вероятность рабской зависимости от Европы. Он открыто полемизировал с философом Владимиром Соловьевым, предрекавшим в стихотворении «Панмонголизм» (Соловьев 1970: 96) гибель Российской империи от нашествия кочевых орд с Востока:
Хлебников, напротив, отвергал панмонголистскую угрозу. Кочевники несут не смерть, а обновление, витальность, подвижность. Их степи только с точки зрения оседлого земледельца — это пустое пространство. На деле же оно является местом, вбирающим в себя следы каждого, кто в нём оказывается. В то время как Европа экспортирует готовые формы и образцы, парализуя тем самым волю к историческому творчеству и навязывая псевдоморфозы (термин из «Заката Европы» Шпенглера) качественно иным, ещё не развёрнутым пространствам, Азия, напротив, ценит самовитость, органику различных форм существования.
Такое утверждение, безусловно, было необычным и вызывающим даже в постреволюционной России. Поэт слишком очевидно шёл против традиционных европоцентристских течений в русской культуре, оборачивая чаадаевский упрёк в аисторичности, бесформенности, внемирности Руси в её стратегическое преимущество.
Однако поход против течения, противопоставление себя пушкинской традиции (в том числе — через рефлексию относительно образа и значения Пугачёва) не имели для Хлебникова смысла сами по себе. Он шёл не к эпатажу или бунту, а к истокам. Опять же — и в прямом, и в переносном смысле. В «Досках судьбы» он писал: Судьба Волги даёт уроки судьбознания. Родившись в устье реки, поэт умер у её истоков, в затерянной деревушке Санталово.
Для конкретизации номадологического проекта Хлебникова исключительное значение имела философия Фридриха Ницше.4![]()
Афористичная речь, ненависть к государству, пафос борьбы против окостеневшей, ставшей зависимой от самой себя, буржуазной цивилизации, вера в личную миссию обновителя, идущего поперёк толпы, отказ от бытовой обустроенности и отношение к лишениям как к стигматам избранности — всё это производные от образа Сверхчеловека, не дозволяющего окрестному пространству кроить себя по чужой мерке. Вместо богоборчества — провозглашение человека творцом вселенной (Панова 2008: 393–455; Панова 2006: 535–551).
Хлебников делит человечество на ленивых, старых приобретателей, которые задерживают бег человечества, мешая клокочущему паровозу юности взять лежащую на её пути гору (Тв.: 604) и молодых, подвижных изобретателей. Только будучи распятым между реальными и идеальными мирами, между частным и универсальным, человек получает психофизическую энергию, необходимую для преображения бытия, для воплощения идеалов свободы, гармонии и братства (в мире, который Хлебников именовал Лебедией будущего).
Сказанное в равной мере относится и к человеку, как индивиду, и его коллективному, родовому телу (нации-государству, человечеству в целом). Подобно Ницше, Хлебников до бесконечности расширяет границы своего Я, стремясь почувствовать и пережить состояние дионисийского слияния с бесконечно мудрой Вселенной. В описании пережитого опыта универсальной телесности он преднамеренно смешивает всё то, что люди привыкли различать, и рушит перегородки сознания, отвергая дистанцию между органической и неорганической природой, уравнивая явления макрокосма с событиями микрокосмоса, придавая эпическому лирическое измерение, стирая грань отчуждения между народами, отрицая непроходимую пропасть между фактичностью и утопическими видениями.
Когда Хлебников восклицает, что в подражание России, которая тысячам тысяч свободу дала, он просто снял рубашку, дал солнце народам Меня! ‹...› дарил жителям своего тела свободу, речь идёт не об эгоцентрической манифестации (см. стихотворение «Я и Россия», 1921 год), а о разновидности мифопоэтического пантеизма, отказывающегося умалять человеческое Я и редуцировать его до абстрактного “внутреннего мира”. Ни внешнее, ни внутреннее не существуют. Они едины.
В отличие от Сверхчеловека Ницше, будетлянин Хлебникова не рассматривает мир как поле для самоутверждения. Согласно “завещанию” 1904 года (Тв.: 577), ему важна роль пророка и толмача князь-ткани в раскрытии истины бытия, а не в насильственном привнесении Идеи и имплантации оной в смерд-ткань (косную материю, инертную социальность, рутинизированную культуру). Поэтому суть его доступа к бытию — вслушивание в жизнь, которая не является проекцией авторских ожиданий и представлений о должном.
Выпытыванию, а не навязыванию истины он придает и моральный смысл:
Лишь вбирая в себя бытие, элиминируя волю к власти, отказываясь от фиктивного (навязанного социальностью) Я, человеку даётся слух к множественности миров и их голосам:
Сверх-Я Хлебникова получило множество художественных воплощений. Развивая мифопоэтику странствующего, номадического образа жизни, автор наделял их чертами своей биографии. Таких персонажей легко опознать по устойчивым характеристикам: маргинальность и лиминальность (люди порога, границы), трансверсальность по отношению ко времени и пространству, в которых разворачивается действие (пересечение хронотопа по касательной, случайность пребывания), явленность бунтарского, нонконформистского начала и демиургичность как способность своим присутствием искривлять силовые линии привычного, детерминированного бытия. Самому же Хлебникову по праву были даны прозвища „очарованного странника русской поэзии” (Зелинский 1962: 212) и „Колумба новых поэтических материков” (Маяковский 1968: 415). Он de facto был тем, на кого стремился быть похожим, в ком видел людей будущего.
Хлебников настаивал на материальности мысли, на ее перформативности (способности производить изменения в бытии) и неразрывной связи с окружающим онтологическим горизонтом. Физическое скитание стимулировало странствия интеллектуально-поэтические и наоборот (в подготовительных материалах к «Доскам Судьбы»: Вы, запутавшиеся в языках, учитесь мыслить движением — цит по. Григорьев 1999: 415).
В ранних стихах бунтарское лирическое “я” отождествляется с кочевниками астраханских степей, с вольными казаками (Тв.: 51, 72), с первопроходцами (как русскими, так и иностранными — см. Тв.: 458). В автобиографиях Хлебников не упускал случая упомянуть о знакомстве с бытом и образом жизни калмыков, а также о родстве с поволжскими казаками по материнской линии. Позже, после революции, он ощущал близость с легендарными лидерами казачье-крестьянских восстаний и даже предлагал поставить в Астрахани памятник Волынскому,5![]()
Другая группа персонажей, выражавшая альтер-эго, может истолковываться как развитие ницшеанского образа Заратустры.
Зангези, как и Заратустра, сходит с горы, слушатели называют его смелым ходуном (Тв.: 476) и приглашают: Шагай по нашим душам (Тв.: 476). Но Зангези не просто путешественник в пространстве. На призыв толпы он откликается: Но ведь я умею шагать / Взад и вперёд по столетьям (Тв.: 498). Эта реплика подчёркивает архетипичность образа пророка (жреца, апостола, мистагога, шамана). Ведя за собой, он вырывает слушателей из цепей пространства и времени, к которым они прикованы (Вы вырвались из цепей ваших предков. Молот моего голоса расковал их — бесноватыми бились вы в цепях, Тв.: 481). Подобно шаманам кочевых народов, населяющих Поволжье, Урал и Сибирь, Зангези и герои других стихотворений переживают мистический экстаз, в котором прошлое, настоящее и будущее неразличимы (ясновидение). Они исполняют жреческие роли в коллективных ритуалах сотворения мира, языческой молитвы, заклинания и проклятия (см. Жарбог), магически воздействуют на окружающий мир, путешествуют в мирах, невидимых для простых смертных, но соседствующих с их реальностью.
Если обращать внимание на пространственное положение в мизансценах персонажей, символизирующих альтер-эго Хлебникова, то практически всегда диспозиция такова: одинокий ясновидец появляется и уходит, в то время как внимающая ему толпа остается статичной; герой, как правило, либо находится на возвышении, либо возносится на глазах, как при шаманском камлании. В одном из отрывков «Досок судьбы» Хлебников подробно объясняет взаимосвязь между способностью двигаться по вертикали (подниматься ввысь, летать) и даром предвидения:
Подчёркивая это свойство, в драме «Аспарух» поэт выводит на сцену историческое лицо — Аспаруха, основателя Болгарского государства на Дунае. Однако, делая вызывающее асинхроническое нарушение, Хлебников вносит в историю Аспаруха геродотовское предание о гибели скифского царя Скила. Смещение, взаимоналожение различных исторических пластов и сюжетов в этом случае поддерживает ницшеанскую теорию “вечного возвращения” и хлебниковскую концепцию аисторизма: при смене обстоятельств пытливый ум в состоянии обнаружить вневременнýю повторяемость событий, сюжетов и героев. Изменяя хронологическому принципу, Хлебников добивается приближения к современности и драматически заострённо передаёт конфликт между номадизмом и оседлостью, что, согласно Геродоту, было причиной конфликта скифов со Скилом и его гибели. Драматизм этого конфликта подчёркнут самим распределением сцен (1-я и 2-я происходят в степи, 3-я — в стане, а 4-я и 5-я — в городе, где Аспарух погибает).
У вызывающего асинхронизма произведений Хлебникова есть объяснение. Его интересует не историческая правда, а мифопоэтическая достоверность. Он работает не с хроникой, а с реальностью коллективного бессознательного, чья темпоральность циклична, а не линейна. Согласно его теории исторических циклов, восходящей к идее Вечного Возвращения Фридриха Ницше, имена людей и событий не имеют значения. Вечна драматургия происходящего, а не актёры или их внешний облик. В статье «Колесо рождений» он писал:
В мире науки наиболее устойчивой самоидентификацией Хлебникова был прежде всего образ Николая Лобачевского (эпиграф к поэме «Разин»: Я Разин со знаменем Лобачевского логов). В 1901 году он прослушал курс «Воображаемой геометрии» в Казанском университете и с тех пор объявлял своей миссией замену поэтики Пушкина, которую называл долометрием Евклида, на долометрие Лобачевского, то есть — неклассическую, многомерную метапоэтику, задействующую веру 4-х измерений.
У персональной самоидентификации Хлебникова есть и социальное измерение. Ему есть о ком сказать “мы” и кому это “мы” противопоставить (Сословия мы признаем только два — сословие “мы” и наши проклятые враги ‹...› Мы новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы. СП: V, 291).
Это “мы” — не какая-то определённая, сложившаяся, осознавшая свою общность, группа людей, а воображаемое сообщество, для обозначения которого Хлебников предлагает имена, акцентуализирующие различные “агрегатные состояния” и свойства новой революционной социальности. То есть — в образе “мы” Хлебников de facto производит расширение своего альтер-эго до неограниченных размеров при сохранении конститутивных характеристик.
Среди наиболее известных неологизмов, обозначающих “мы” — будетляне, глашатаи будущего. Считается, что это славянизированная калька “футуризма”, но стоит иметь ввиду, что Хлебников, Кручёных, Бурлюк, Маяковский противопоставляли свою группу европейскому футуризму и будетлянами называли не только себя, но и всех людей, являющихся носителями будущего. То есть — они специально подчёркивали, что будетлянство — это не чисто эстетический, а жизнетворческий коллективный проект. Другим нашумевшим словом для обозначения искомой Хлебниковым общности было ‘творяне’. В «Ладомире» они описываются так:
У сообщества творян нет границ ни во времени, ни в пространстве. Они — будущие создатели Людостана — мира, в котором преодолены распри и противоречия, в котором жизнетворческая энергия единого человечества распространена далеко за пределы Земли и в потенции включает в себя даже космические просторы:
Дворянство как класс величается заслугами предков. Его историческая функция — защита традиционного жизненного уклада и государственного порядка. Творянами же не назначают, а становятся (в том числе и через антагонизм с “силами стояния”, авторитетами, классикой). Замена первой согласной (постулат заумного языка гласит: первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным) в онтологии Хлебникова производит социальную революцию: правящими оказываются не хранители традиции, а разрушители, преобразователи, реформаторы, учредители нового мира.
Хлебников полагал, что революции в России — это родовые муки, предвещающие приход новой породы людей.6![]()
Поэт писал У великороссов / Нет больше отечества (Тв.: 290). Но эта утрата — не то, о чем следует сожалеть, чему стоит сопротивляться. Выпадение из вековечных национальных ансамблей открывает перед человеком сверхчеловеческое пространство — целый мир:
В образе Есира Хлебников воспроизводит метаморфозу, некогда пережитую им самим и впоследствии осмысленную как нечто вроде обряда инициации людей будущего. Есир (=asir) — это невольник, раб. Он начинает свой путь поневоле, но в итоге становится “странником добровольным”. Это подчеркивается финалом текста: после странствий по Азии Есир-Истома возвращается на свой безлюдный астраханский остров и грустно постояв над знакомыми волнами ‹...› двинулся дальше. Куда? — он сам не знал. (Тв.: 556).
Хлебников полагал, что к переходу в стан творян наиболее подготовлены люди социальной периферии (охотники, рыбаки, кочевники, все, кто ведёт образ жизни на границе между дикой природой и социумом) или по разным причинам исключенным из общества (разбойники, революционеры, цыгане и др.). Его крайне интересовали формы милленаристской communitas, складывающиеся между этими бунтарями-одиночками.
В «Ладомире» люди-изобретатели называются бродягами дум | бродягами голубыми | шайкой свободы. К ним обычно применяются динамические глаголы, (как правило, в повелительном наклонении), в то время как глаголы, выражающие статичность, связаны с разрушаемым миром. В этом смысле справедливо замечание Григорьева по поводу стихов «Море» и «Ладомир»: это „настоящее пиршество движения” (Григорьев 1999: 419).
Выпадая из тенёт подневольной социальности, получая (как дар или проклятие) социальную невесомость (и, следовательно, свободу) человек становится путником, неприкаянным и “незаякоренным” (бытом, обязательствами, необходимостью соответствовать ожиданиям других и др.) существом. Это ещё не делает его творянином, но создает экзистенциальную предпосылку для вхождения в Людостан.
Проводников в общество будущего Хлебников называет путейцами (и самого себя — путейцем художественного языка, см.: Тв.: 624) и стрелочниками (мы ‹...› стрелочники у встречных путей Прошлого и Будущего ‹...› как рабочие-зодчие, идём дорогой, к общей цели. Тв.: 613). Самому себе он выбирает знаковый псевдоним — Веха. Ведь Веха — это и указатель направления, и точка поворотного отсчёта, заступив за которую странник осознаёт начало нового этапа (Григорьев 1999: 419). Поэт никогда ни на секунду не усомнится ни в уникальности своего положения, ни в том, что, делая разметку пути, он торит дорогу не только для себя, а для целого поколения, для жителей новой эпохи. Он верит, что грядущие изменения неотвратимы и следует лишь проделать необходимую интеллектуальную работу, чтобы проложить путь в мыслезёме. Следы первопроходцев сами по себе будят желание отправляться на неосвоенные территории.
Так в статье «Наша основа» он говорит: заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаём путь из одной долины языка в другую и как путейцы пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания (Тв.: 624). Процитированный отрывок (равно как и множество других, сходных по интенциональности) демонстрирует устойчивое представление о миссии поэта-мифотворца: с него начинаются миры даже не в том смысле, что он выступает их “творцом из ничего”; он соединяет уже существующие миры, выступает медиатором реалий, которые, существуя, не вступали друг с другом в соотношение (Мы ведь пшеницы грядущего сеятели и весь мир есть молния человеческого рода — и молния земного шара, Ершов 1991: 132).
После того как проложен путь, долины языка уже не в состоянии оставаться прежними. “Путевые заметки” (будь-то стихи или публицистика) играют роль своего рода “посольств” или пунктов обмена. Творчество лишено смысла, если оно не ведёт к очередному этапу объединения человечества. И Хлебников настаивал, что своими текстами приближает этот момент.
Наряду с воспеванием кочевой жизни, Хлебников не жалеет красок для критики традиционного, крепостного, оседлого образа сосуществования людей. Города и здания для него — символы закрытости, болезни и умирания. Чтобы вместить гипермобильных людей будущего (крылатых жителей — в отрывке «Мы и дома. (Мы и улицетворцы. Кричаль)», Тв.: 595), их предстоить радикальным образом изменить.
В «Журавле» (1909 г.) Хлебников рисует апокалиптическую картину мести природы за забвение её голосов: при восстании вещей железное чудовище город-государство пожирает людей и губит человечество (Свершился переворот. Жизнь уступила власть / Союзу трупа и вещи). Там же он указывает путь спасения — немедленная эвакуация на простор, возвращение в лоно первоматерии.
В городах будущего, которые мысленно конструирует Хлебников, вещи и дома организованы таким образом, чтобы преодолеть земное тяготение, задать ранее немым, пустым, мертвящим, заземленным пространствам живой человеческий смысл, насытить их движением. Вместо нынешних городов-кладбищ с современными домами-крысятниками, он предлагает утопию домов-тополей, цветов, мостов, полей… Искусственное должно стремиться максимально близко подойти к естественным, органическим формам. Всё, что растёт, стремиться вверх, к солнцу, к небу. Так и люди: окружающая их среда должна тянуться ввысь, а не стелиться по земле, прижимаясь: В самом деле, рука времени повернёт вверх ось зрения ‹...› Крыша станет главное, осью стоячей ‹...› На город смотрят сбоку ‹...› будут сверху. (Тв.: 595).
В будущем люди захотят — и поэт уже сейчас приглашает молодых — заселять крыши (прихорашивайте ваши крыши; уснащайте эти прически узкими булавками, Тв.: 595). Не на порочных улицах с их грязным желанием иметь человека как вещь, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться народ. Вместо вросших в сырую землю жилищ по улицам будут сновать подвижные стеклянные каюты, модульные дома на колёсиках. Эта перемена образа жизни революционизирует как быт, так и отношения на социально-историческом макроуровне. Только свободно перемещающийся, вольный, автономный человек вправе называть себя гражданином мира. Мечта быть таковым — не волюнтаризм революционера, а желание, издревле заложенное в недра народной души. Иначе не объяснить образы из сказок: сивок-каурок, ковров-самолетов и др. (И народ-младенец, народ-ребёнок любит грезить о себе, — в пору мужества властной рукой повертывающем колесо звёзд. Так в Сивке-Бурке-вещей-каурке он предсказал железные дороги, а ковром-самолётом — реющего в небе Фармана. Тв.: 594).
Трансформация архитектурного облика, ведущими принципами которой должны стать транспортная проницаемость (удобство для быстрого и беспрепятственного передвижения), прозрачность и вертикализация, свобода проникновения свежего воздуха и естественного освещения (гелиотропность), приведут к тому, что города перестанут быть адом для человечности. Поэт считает, что в недалекие времена люди смогут полностью переселиться в новые, экосообразные города, предоставив землю миру животных и растений. Вместо бездушности и удручающей симметричности “декартовской” планировки — буйство органических форм природы, перенесённых в искусственно организованные городские пространства. Мечта Зангези — Будет земля занята / Сетью крылатых дорог! (Тв.: 496) — была прежде всего мечтой самого Хлебникова, в полной мере настрадавшегося от обездвижения городов во время революции и гражданской войны (транспортный паралич железных дорог, исчезновение с улиц извозчиков, остановка трамваев и др.).
Создавая галерею путешествующих персонажей, Хлебников весьма чуток к оттенкам слов. Путник у него — самая нейтральная характеристика; путник — тот, кто находится в пути. Иное дело путеец, то есть тот, кто прокладывает пути для других, кто указывает путь и ведёт по нему как знаток, проводник, учитель. Странник — этимологически и семантически — тот, кто пересекает размеченное, маркированное пространство (страны), кто странен и отстранён (от других). Бродяга — ищущий брода, пребывающий в состоянии брожения, не способный усидеть на месте. Скиталец — беглец от реальности, нуждающийся в укрытии (в ските), в уединении.
Ещё в детстве, живя в астраханских степях, Хлебников получил сильное впечатление от посещения ламаистского храма, стоящего посреди голой, пустой степи. В своей автобиографии он рассказывает об этом эпизоде через образ маленького монгольского мальчика, стоящего перед монастырём-хурулом и задумавшегося о судьбах своего народа.
Приступая в 1911 году к поэме о старой Астрахани «Хаджи-Тархан», Хлебников выбирает древнее, золотоордынское название города. Оно состоит из двух частей: первая отсылает к человеку, совершившего ‘хадж’ в Мекку, вторая — ‘тархан’ — в Хазарском каганате и в Волжской Булгарии означала освобождение от налогов, дарование “свободы своему рабу”. Для поэта крайне значимо, что город — не символ оседлости и закрепощения, а, напротив, органическая часть номадического, пребывающего в бесконечном движении мира, перекрёсток караванных путей. Эту мысль автор стремился донести как на вербальном уровне, так и через ритмику и композицию поэмы. Что город, что текст о нём — оба должны быть началом дорог во все концы света.
В течение шести лет навещая родителей, вернувшихся в Астрахань в 1912 году, Велимир Хлебников учится видеть подлинную историю города. Это даётся ему непросто. В какие-то моменты он пишет: Я здесь в мешке четырёх стен (СП: V, 303), Астрахань скучна, так как я в ней чужой (СП: V, 299). Лишь умение видеть пространство с высоты истории и в планетарных масштабах примиряет его с городом и позволяет увидеть его уникальную роль, соединяющую три мира — арийский, индийский и каспийский, треугольник Христа, Магомета и Будды.
Зачин поэмы «Хаджи-Тархан» ориентирует читателя на выбор жанрового регистра слова песни кочевого — эпоса кочевых народов (в данном случае — калмыков). Хлебников синхронизирует ритмику текста с типом передвижения героев (верхом на лошади, осле, верблюде), поддерживает раскачивающуюся метрику стиха.
Нарраторским голосом поэмы является кочевник-мальчуган. Его песне (коллективная память народа) вторит вой псов голодающих (память природы, неотделимая от истории людей). Повествование, с одной стороны, развертывается как слои при археологических раскопках, а с другой — преподносится по методу “окрошки”: к истории Астрахани и её окрестностей стягивается буквально всемирная история. Отсылки к калмыцким преданиям и реалиям (гора Богдо, степь вокруг, распитие молочной калмыцкой водки бозо, обряд “цацал” и др.) соседствуют с упоминанием образов и имён из арабского мира (мечети, муэдзины, гяуры и др.), из истории древнерусских княжеств и государств Восточной Европы, из римской, греческой, шумерской, ассирийской, египетской мифологии, из народного фольклора, удерживающего альтернативную память о вожаках казачье-крестьянских восстаний. Для читателя подобные скачки от одной эпохи к другой, переходы из одного цивилизационного пространства в другое представляются хаотическими, лишёнными повествовательной непрерывности. Хлебников же, совершая их, стремится передать специфику номадического хронотопа, где пространство и время лишены устойчивых очертаний и связей. Кочевник движется от одного пункта маршрута к другому, но их последовательность на пути следования может быть изменена произвольно. Их пространство — не территории, размеченные метками административной власти, а дорога, тореная самим путешественником.
Хронотоп «Хаджи-Тархана» наиболее ярко выражает черты кочевой геопоэтики Хлебникова: физико-географическое, фольклорно-мифологическое и культурно-историческое пространства наслаиваются друг на друга до полного неразличения, топонимы оказываются шифрами ритуальных практик, имена играют роль дорожных примет или указателей на исторических развилках. Поэтическая археология Астрахани в итоге дает ключ к семиозису мира.
„Динамике вечно противостоит статика, (или, без иностранных слов) силе дви(жения) — сила сто(яния)” (цит. по Григорьев 1999: 414). Стремясь передать сердцевину своего мировоззрения — идею движения — Хлебников столкнулся с ригидностью выразительных средств и прежде всего — с неприспособленностью обыденного языка для отражения творческого, спонтанного, свободного воображения. Живящая поэтическая речь должна быть противопоставлена как повседневному словесному обиходу, так и мертвящему книжно-письменному языку, полному риторических штампов и семиотических пустот. Он писал:
Ломая структуру нормативного синтаксиса, находясь в поиске небывалых метафор и метонимий, Хлебников стремиться придать поэзии динамизм прежде всего за счёт экспериментов с лексемами из поля ‘движение’. В.П. Григорьев совершенно точно подмечает, что „пристрастие Будетлянина к глаголам движения и формам императива со временем, кажется, только растёт” (1999: 414). Создавая их внушительную концентрацию в текстах, он как будто бы выталкивает читателя из статичного, размеренного состояния, открывает захватывающую панораму борьбы природных и социально-исторических стихий вокруг и внутри него, оглушает сознание погружением в симфонию реального семантического объёма языка. Слова, обычно выражающие природные процессы и сдвиги, употребляются им как синонимы перехода человечества в качественно иное состояние: взрывы, молнии, землетрясения, извержения вулканов, побеги растений ассоциируются со сменой вех, государственными преобразованиями, великим переселением народов, научными открытиями и мн.др.
Неологизмы, звуковая семантика, скрещения и контрасты неожиданных образов и понятий из различных регистров в сочетании с глаголами движения дают искомый поэтом эффект: появление текста, в котором читатель избавлен от ленивого соблазна опереться на выработанные образованием автоматизмы понимания и восприятия и только благодаря этой когнитивной растерянности включается в игру порождения смысла (угадывание, подключение языковой интуиции, задействование поля спящих культурных ассоциаций и др.). Он словно движется по бездорожью, преодолевая препятствия и заново обретая способность к вольному, самостоятельному, зигзагообразному перемещению: Слова — нет, есть движения в пространстве и его части — точек, площадей (Тв. 481).
Правомерно, как это делает Д. Замятин, говорить о „геополитике языка хлебниковских произведений”, суть которой „состоит в “желании” каждого использованного слова, образа соотнести себя с условной картой всех возможных языков — на фоне языкового небытия и безмолвия” (Замятин, 2006). Мифопоэтика Хлебникова космогонична и роль элементов, из которых он складывает свою Вселенную, выполняют слова, взятые в их предельном — не только контекстуально-актуальном, но и потенциально-релевантном семантическом — объеме. Следствием скорнения слов становится открытие особой пространственности, скрытой в обыденной речи, но развёртываемой в поэзии, чья магическая функция как раз таки и заключается прежде всего в том, чтобы делать видимой перекличку слова со всем универсумом языков и диалектов, существующих в мире. Хлебников ведёт себя как конкистадор, отправляя русский язык и русскую словесность на открытие и присвоение языков, фольклоров и литератур: „Как лексикограф-геополитик Хлебников прост: фронтальные разделы внутри слов, глобальные смысловые коммуникации сквозь всё словесное пространство, быстрый захват ещё не освоенных смысловых территорий” (Замятин 2006).
Чтобы одолеть силы стояния, Хлебников бросает им вызов на предельно глубинном, архаическом, элементарном уровне — на естественных связях означаемого и означающего, звука и смысла. Для этого, согласно его стратегии, необходимо обратиться не к этимологии, а к до-истории языка, к основаниям, известным ещё первобытным племенам, к временам, когда слова только-только начинали разрушать вражду и делать будущее прозрачным и спокойным, объединяя людей 1) пещеры, 2) деревни, 3) племени, родового союза, 4) государства — в один разумный мир, союз меняющих ценности рассудка на одни и те же меновые звуки (Тв.: 621). Обращение к истокам идёт поперёк лысого языка, в котором бытовое значение слова закрывает все прочие, как днём исчезают все светила звёздной ночи. Заумь, как звёздный язык, реальна лишь для небоведа, держащего в уме отсветы самовитого слова вне зависимости от данной бытовой обстановки (Тв.: 624).
Целью зауми является создание идеального, общепонятного, универсально употребимого общечеловеческого языка. Заумь сама по себе — лишь путь, умозрительный эксперимент. В статье «Художники мира!» Хлебников объявляет, что немые — начертательные знаки — помирят многоголосицу языков (Тв.: 621), а предлагаемая им Азбука ума — пролог к развёртыванию неклассического языкового пространства, в котором возможны самые небывалые перемещения:
Переводя на язык Канта: пространства не существует вне априорных форм восприятия пространства. Наши движения предзаданы формами ориентации движения. Изменяя последние (а для этого — взрывая грамматику языка и мир конвенциональных лексических значений), мы получаем другое пространство. Как в геометрии Лобачевского можно себе представить пересечение параллельных прямых, так и в воображаемой филологии Хлебникова глухонемые пласты языка, взорванные словотворчеством, несут в себе бесконечные сцепления смыслов.
Эту интуицию поэт проговаривал раз за разом, отчаиваясь, как трудно донести нечто, ставшее для него очевидным. Чтобы привести язык и бытие в движение, достаточно расторгнуть некогда заключенный договор относительно слов, их значений, порядка их соединения, преобразования и т.д. В статье «Наша основа» он прибегает к детскому образу: язык — это игра в куклы, где из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира; люди, говорящие на одном языке — участники игры (Тв.: 627). Однако ещё до того как куклы родились на свет и стали обслуживать человеческое общение, существовали вещи и стихии, которые отсылали друг к другу, состояли в отношениях. То, что мы условились называть Задонщиной и раньше, до существования топонима, находилось за Доном. Для путешествующего это было известно даже тогда, когда в его арсенале ещё не было слов.
Следовательно, язык онтологичен, укоренён в бытии. Он — отражение кем-то пройденного маршрута. И этот маршрут, безусловно, не единственно возможный. Силясь донести эту мысль, Хлебников в полной мере задействовал лексему пути, её образы и производные (дорога, путешествие, странствие, скитание, брожение и др.). Он настойчиво проводил метафорические параллели между передвижениями в физическом, социальном, ментальном пространстве. В определениях того, что представляет собой заумный язык, образ пути имеет ключевую роль: путь к мировому языку (Тв.: 37), пути красоты слова (Тв.: 580), другой путь словотворчества (Тв.: 627), есть путь сделать заумный язык разумным (Тв.: 628).
Последовательно реализуя свой замысел, Хлебников от экспериментов с синтаксисом, фонетикой и семантикой переходит к задаче создания Азбуки ума, которая со временем должна стать столь же доступной, что и живопись (Тв.: 621). Для этого он составляет своего рода графическую этимологию, отталкиваясь от предположения, что буквы алфавита — это стёршиеся, абстрагировавшиеся пиктограммы. Он убежден, что между буквой и её референтом некогда существовала иконическая связь (см.: Соливетти 2004). Её следы сохранены в культуре народов, которые до сих пор используют иероглифику (известно, что Хлебников начинал учить японский язык и интересовался китайским). Восстановить пути, в результате которых были получены буквы — значит оказаться способным создать теорию семантического толкования графем, пройти дистанцию от пиктограмм к идеограммам. Говоря языком современной когнитивистики, Хлебников показывает, что в идеографическом письме происходит хранение, преобразование и порождение знаний о мире. Это возможно, поскольку идеограмма не описывает вещь или понятие, а фиксирует сам процесс означивания, организации семантических связей между предметами, состояниями и субъектом, вступившим с ними в отношения. Поэт верил, что только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы (Тв.: 585).
Произведения Хлебникова — это торжество сырого и неоконченного.7![]()
Сочинения Хлебникова возникают из намерения связать разрозненные, удалённые элементы. Автор верит в метабиоз (надсущностную и вневременную взаимосвязь всего сущего) и в свою демиургическую силу, позволяющую устраивать перекличку между секторами бытия, которые до него никогда не вступали в коммуникацию. Из этих новых и неожиданных скрещений должна зарождаться иная, планетарно всеобщая жизнь.
На неподготовленного читателя подобная вереница персонажей и символов, обильные отсылки к экзотическим культурным, религиозным, фольклорно-мифологическим контекстам, упоминания сотен малоизвестных топонимов, сочетания литературных образов с математическими выкладками, употребление терминов из физики, биологии, геологии наряду с понятиями паранауки — астрологии и др. производит ошеломляющее впечатление. Он оказывается лишённым способности ориентироваться, различать. Его привычная, освоенная, утилитарно пригодная картина мира невольно оказывается под вопросом.
Приём монтажа, произвольная состыковка разнородного материала идеально отвечает намерениям изменить статичный мир оседлой цивилизации. Монтаж оказывается чем-то вроде управляемого семиотического взрыва, детерриториализующего окультуренное пространство и вырывающего плененные им сущности из-под действия аппаратов власти и закона, отношений собственности и др.
Хлебникова мало интересует правдоподобность, достоверность, верифицируемость. Перемешивая исторических персонажей со сказочными героями, применяя законы Дарвина и Менделеева к языку и стихосложению, описывая отношения между славянским и германским миром в категориях метабиоза, он не просто творит новую поэтическую форму. Его ведёт та же страсть, которую можно было встретить в произведениях сюрреалистов, кубистов, супрематистов, родоположников примитивного искусства. Хаотическое наложение, сближение-столкновение, бриколаж служат когнитивными приёмами, подобными динамическому механизму метафоры, постоянно присутствующему в его словотворчестве.
Сказанное справедливо не только для композиции конкретных произведений, но и к тому, как относился Хлебников к результатам своего интеллектуального труда: при нём всегда было несчётное множество черновиков, отрывков, выписок. Он постоянно терял рукописи. В его Гроссбухе беспорядочным образом теснились заметки, наброски, фрагменты стихов и поэм, перечни, столбцы цифр, слов, имён собственных и алгебраических формул. Рукописи переходили из рук в руки, от друзей и родственников до просто любопытствующих. Такая же беспечность проявлялась и при подготовке публикаций. Так, по словам Якобсона, одной из причин несостоявшегося издания первой антологии Хлебникова (в 1919 г.) было очередное исчезновение автора.
Кочевники с фатализмом относятся не только к себе, но и к окружающей их реальности: вещи, люди, пейзажи постоянно меняются и единственное, что каждому дано — это дорога. И, как в дороге, исполненной случайных встреч, разрозненных впечатлений, смен ландшафтов, разных скоростей передвижения, так и в текстах Хлебникова трудно предугадать, кто или что появится за поворотом следующей строки, в каком порядке сложатся страницы, искру какого нового смысла даст очередное скорнение слов.
Попытки исследователей создать канонический корпус хлебниковских произведений (по каким-либо произвольным критериям отделяя “законченные работы” от черновиков) и систематизировать хлебниковские теории языка, метабиоза, чередования исторических циклов и др. неизменно упираются в “сопротивление материала” и учёный, вместо того, чтобы привести в идеальный порядок архив Будетлянина, обнаруживает, что хаоса (вопросов, сомнений) стало значительно больше, нежели на подступах к этому предприятию. Это, по всей вероятности, и есть знак того, что номадологический проект Хлебникова состоялся: он пребывает в движении сам и приводит в движение каждого, кто с ним мысленно соприкасается.
| Григорьев В.П. 1999 | В. Хлебников: Веха, двигава и путь // Логический анализ языка. Языки динамического мира. Международный университет природы, общества и человека. Дубна. 1999. С. 413–422 |
| Данилевский П.Ю. 1991 | Русский образ Ф. Ницше. Тот же, На рубеже ХХ–ХХ веков. Ленинград. С. 5–44. |
| Дуганов Р.В. 1990 2008 | Велимир Хлебников. Природа творчества. Москва. Велимир Хлебников и русская литература. Москва. |
| Ершов Г.Ю. 1991 | Взрыв сознания и мотив бомбы у русских футуристов. // Хлебниковские чтения. Санкт-Петербург. С. 123–134. |
| Марков Вл. 2001 | О Хлебникове // В. Хлебников. Собрание сочинений: в 3 т. Санкт-Петербург. Т. 1. С. 6–40. |
| Маяковский В.В. 1968 | Собрание сочинений в восьми томах. Москва. |
| Орлицкий Ю. 2006 | Гетероморфный стих Хлебникова // Художественный текст как динамическая система. Москва. С. 563–571. |
| Панова Л.Г. 2006 2008 | «Ка» Хлебникова: Сюжет как жизнетворчество // Художественный текст как динамическая система. Москва. С. 535–551. Нумерологический проект Хлебникова как феномен Серебрянного века // «Доски судьбы» Велимира Хлебникова: Текст и контексты. Москва. С. 393–455. |
| Розанов В. 1913 | Люди лунного света: Метафизика Христианства. Санкт-Петербург. |
| Синеокая Ю.В. 1999 | Фридрих Ницше и философия в Pоссии. СПб. |
| Силард Е.A. 2012 | Прелиминарии к теме «Азийство Хлебникова». Филология и культура. №2 (28). |
| Силард Л. 1973 | О влиянии ритмики прозы Ницше на ритмику прозы А. Белого. Studia Slavica Hung., 19. P. 289–313. |
| Соливетти К. 2004 | Лингвистические прозрения Велимира Хлебникова. Russian Literature, LV. P. 405–429. |
| Соловьев В. 1970 | Сочинения, Т. XII. Брюссель. |
| Старкина С. 2005 2007 | Велимир Хлебников. Король Времени. Санкт-Петербург. Велимир Хлебников. Москва. |
| Хлебников В. 1968–1972 1987 2005 | Собрание сочинений, Т. I–V, 1928–1933 репринт. München. В тексте статьи сокращено как: СП, номер тома и страницы. Неизданные произведения сокращено как: 1940 и страницы. Творения. Москва. Собрание сочинений. Т. 6. Москва. |
| Baran H. 1994 | Khlebnikov and Nietzsche: pieces of an incomplete mosaic. // Nietzsche and Soviet Culture: Ally and Adversary. Ed. by Bernice G. Rosenthal. Cambridge / New York. P. 58–83. |
| Moeller-Sally B.F. 1996 | Masks of the Prophet in the Work of Velimir Khlebnikov: Pushkin and Nietzsche. Russian Review, vol. 55, April. P. 201–215. |
| Ripellino A.M. 1968 | Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov // V. Chlebnikov, Poesie. Torino, VII–XCII. |
| Rosenthal B.G. 1991 | A New World for a New Myth: Nietzsche and Russian Futurism. The European Foundation of Russian Modernism (ed. P.I. Barta). New York. P. 219–248. |
| Персональная страница на сайте Хлебникова поле | ||
| карта сайта | 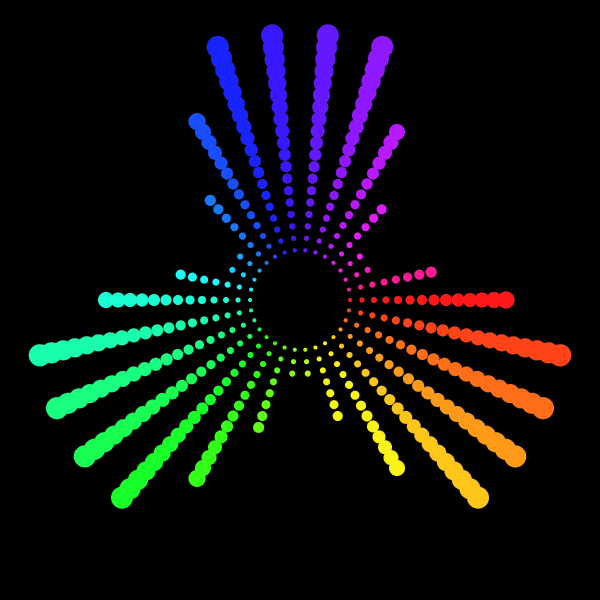 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||