Александр Жолковский
Графоманство как приём
(Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие)
Хлебников и проблема авторского ‘я’

лебников, и после смерти долгие десятилетия остававшийся “спорным” новатором, к своему столетнему юбилею, широко отмеченному в 1985 году на родине и за рубежом, пришел в ореоле бесспорного академического и читательского признания. Одним из свидетельств его канонизации является обилие работ, исследующих Хлебникова как вполне “нормального” поэта, обыкновенного гения, ещё одного классика-мифотворца. Между тем в восприятии современников, да и более поздних неискушенных читателей, гениальность Хлебникова находилась в странном, но характерном симбиозе с его неканоничностью. Попробуем осмыслить подобное наивное прочтение Хлебникова в свете современных представлений о литературном процессе вообще и о месте в нем Хлебникова в частности.
Интригующий вопрос, который возникает при таком подходе, — как быть со странным образом автора, встающим из-за текстов Хлебникова?1 По-видимому, особенно актуальным его делает нынешний интерес, с одной стороны, к критической демифологизации культурных героев России (Пушкина, Маяковского, Мандельштама2
По-видимому, особенно актуальным его делает нынешний интерес, с одной стороны, к критической демифологизации культурных героев России (Пушкина, Маяковского, Мандельштама2 ), а с другой — к разработке таких теоретических категорий, как “рассказчик”, “лирический герой”, “подразумеваемый автор”, “подразумеваемый читатель” и т.п. По наблюдениям исследователей, у Хлебникова то ли вообще нет единого лирического ‘я’ (Вестстейн 1986), то ли оно есть, но столь “монструозное”, что для чести русской поэзии лучше считать, что его нет (Григорьев 1983, с. 176 след.; Дуганов 1976). В характеристиках, в разное время данных фигуре Хлебникова, гениальность поэтических прозрений постоянно соседствует с безумием, темнотой, идиотизмом, косноязычием, „мучительным мусором“ (Г.О. Винокур). По тем или иным причинам “мусора” в стихах Хлебникова действительно много — настолько, что напрашивается его объяснение сознательной установкой на соответствующий “изм”. Согласно В.Ф. Маркову,3
), а с другой — к разработке таких теоретических категорий, как “рассказчик”, “лирический герой”, “подразумеваемый автор”, “подразумеваемый читатель” и т.п. По наблюдениям исследователей, у Хлебникова то ли вообще нет единого лирического ‘я’ (Вестстейн 1986), то ли оно есть, но столь “монструозное”, что для чести русской поэзии лучше считать, что его нет (Григорьев 1983, с. 176 след.; Дуганов 1976). В характеристиках, в разное время данных фигуре Хлебникова, гениальность поэтических прозрений постоянно соседствует с безумием, темнотой, идиотизмом, косноязычием, „мучительным мусором“ (Г.О. Винокур). По тем или иным причинам “мусора” в стихах Хлебникова действительно много — настолько, что напрашивается его объяснение сознательной установкой на соответствующий “изм”. Согласно В.Ф. Маркову,3 это примитивизм, использующий разнообразные типы “плохого письма”. Стихи Хлебникова местами напоминают черновик, подстрочник, жестокий романс, оперное либретто, рифмоплётство, частушку, лубочную идиллию, мелодраму. Они полны безвкусицы, бессмыслицы, нескладных шуток, скомканных концовок (как будто ребенок потерял интерес к сочинению); грамматических и лексических неправильностей, неуклюжих оборотов, оговорок, ляпсусов и других небрежностей; косноязычия, беспомощной указательности (“то”, “та”) и описательности; бедных рифм, смежных (то есть композиционно наиболее легких) рифм, слов, подобранных “для рифмы”, и вообще сведения концов с концами лишь ценой потерь (Григорьев 1983, с. 97), прозаических строчек, сбивающих ход стиха; смехотворных попыток популяризировать заумь и даже грубой советской пропаганды.
это примитивизм, использующий разнообразные типы “плохого письма”. Стихи Хлебникова местами напоминают черновик, подстрочник, жестокий романс, оперное либретто, рифмоплётство, частушку, лубочную идиллию, мелодраму. Они полны безвкусицы, бессмыслицы, нескладных шуток, скомканных концовок (как будто ребенок потерял интерес к сочинению); грамматических и лексических неправильностей, неуклюжих оборотов, оговорок, ляпсусов и других небрежностей; косноязычия, беспомощной указательности (“то”, “та”) и описательности; бедных рифм, смежных (то есть композиционно наиболее легких) рифм, слов, подобранных “для рифмы”, и вообще сведения концов с концами лишь ценой потерь (Григорьев 1983, с. 97), прозаических строчек, сбивающих ход стиха; смехотворных попыток популяризировать заумь и даже грубой советской пропаганды.
При этом для Хлебникова характерны не столько отдельные дефекты письма (каталог которых можно было бы продолжить), сколько странные комбинации “плохого” письма с “хорошим”, разных видов “плохого” письма друг с другом, а то и разного и плохо совместимого “хорошего”. В литературоведческих характеристиках хлебниковского стиля эти комбинации известны под названием сдвигов, кусковой композиции, нанизывания, мозаики и т.п. Строчки Хлебникова воспринимаются как части ненаписанного эпоса (Гумилев), каждая строка — как начало поэмы (Мандельштам).
Сдвиги осуществляются буквально на всех уровнях языковой и поэтической структуры текста. В фонологии это внимание к отдельному звуку, букве, слогу; в морфологии — обилие неологизмов; в синтаксисе — частое смешение грамматических времен, однородное соединение несочетаемых категорий, обрыв связей; в лексике — смешение и перебои стилей (высокого, низкого, архаичного, пушкинизмов, диалектизмов); в семантике — темнота, двусмысленность, „двойная речь“ (Лённквист 1986), приемы “неправильного называния” (wrong word) и “насильного противопоставления” (forced contrast), выявленные В. Марковым. В метрике это разностопность и полиметрия соседних строк, а часто и сбои размера внутри стиха; в рифмовке — небрежность, прозаические сбои и структурно неоднородные рифмы в пределах одной серии; в сюжете и композиции — анахронизмы, смены точек зрения, децентрализация, введение постороннего материала, палиндромы, акростихи. В сфере жанра это переходы от лирики к эпосу и драме, от поэзии к прозе; в тематике — метаморфозы (Ханзен-Лёве 1986), двойничество (Врун 1986), смены настроения и идеологии в пределах одного текста, а также от текста к тексту; и, наконец, в масштабе творчества в целом — отмечаемое Вестстейном отсутствие единства лирического ‘я’.
В качестве беглой иллюстрации к сказанному рассмотрим следующий пример:
Русь, ты вся поцелуй на морозе!
Синеют ночные дорози ‹...›
«Русь, ты вся поцелуй на морозе...»
Несмотря на краткость, этот отрывок весьма представителен. Налицо: метрический сдвиг от анапеста с внеметрическим ударением на первой стопе — к амфибрахию; изменение точки зрения — смена восклицательного поэтического обращения на “ты” к лирическому объекту описанием пейзажа в третьем лице (синеют...); перескок от пушкинского образа („Как жарко поцелуй пылает на морозе!“ — из стихотворения «Зима. Что делать нам в деревне?..») к синеющим блоковским далям, а затем к квазидиалектному дорози; смежная, с трудом выдержанная рифмовка;4 и, наконец, общий глуповато-приподнятый лубочный стиль.
и, наконец, общий глуповато-приподнятый лубочный стиль.
Итак, существенная черта хлебниковского письма — это сдвиги, смены, переходы. Согласно В. Маркову, Хлебников как бы всё время переходит с одного языка на другой; В. Григорьев даже предпринял каталогизацию различных “языков” Хлебникова и насчитал их 46. Причем сдвиги эти, с одной стороны, происходят быстро, на очень малых отрезках текста,5 а с другой, захватывают очень широкий диапазон — все эпохи, стили, жанры, географические регионы, грамматические и стиховые категории и т.д. Указанные параметры хлебниковских сдвигов — частота, универсальность, интенсивность — имеют прямое отношение к образу авторского ‘я’, которое призвано скрепить воедино и удержать распадающуюся связность текста, а значит, и собственной личности. Однако, прежде чем обратиться к этой проблеме, уместным будет небольшое историческое отступление.
а с другой, захватывают очень широкий диапазон — все эпохи, стили, жанры, географические регионы, грамматические и стиховые категории и т.д. Указанные параметры хлебниковских сдвигов — частота, универсальность, интенсивность — имеют прямое отношение к образу авторского ‘я’, которое призвано скрепить воедино и удержать распадающуюся связность текста, а значит, и собственной личности. Однако, прежде чем обратиться к этой проблеме, уместным будет небольшое историческое отступление.
Большой канон и поэзия персонажей
Одним из почитателей и современных последователей Хлебникова является Эдуард Лимонов.
6
Одно из его характерных стихотворений — «Кто лежит там на диване» (написанное в 1969 году и впервые опубликованное через десять лет за границей в его книге «Русское», 1979):
— Кто лежит там на диване? — Чего он желает?
Ничего он не желает а только моргает
— Что моргает он — что надо — чего он желает?
Ничего он не желает — только он дремает
— Что всё это он дремает — может заболевший?
Он совсем не заболевший а только уставший
— А чего же он уставший — сложная работа?
Да уж сложная работа быть от всех отличным
— Ну дак взял бы и сравнялся и не отличался
Дорожит он этим знаком — быть как всё не хочет
— А! Так пусть такая личность на себя пеняет
Он и так себе пеняет — оттого моргает
Потому-то на диване он себе дремает
А внутри большие речи речи выступает
С точки зрения “высокого” канона русской поэзии стихи Лимонова, конечно, неприемлемы. Знаменательна реакция Наума Коржавина (в устном разговоре со мной): „Да что там говорить — персонажи пишут“. Другой носитель нормативного восприятия Лимонова сказал в ответ на замечание, что стихотворение «Кто лежит там на диване...» — это, в сущности, современная вариация на тему пушкинского «Поэта»: „Ах, это «Пока не требует поэта...»? Тогда пусть так и говорит: „Пока — не требует — поэта ‹...›““ Реакции эти — такие же, как предполагаемая Н.С. Трубецким реакция Пушкина на Хлебникова: „если бы Пушкин прочел Хлебникова, он просто не счел бы его поэтом ‹...› не нашел бы у ‹...› Хлебникова даже состава поэзии“ (Трубецкой 1975, с. 17–18). Все подобные высказывания свидетельствуют об актуальности напряжения, существующего между “нормой” и “ненормативным” хлебниковообразным письмом. Обязательно ли говорить “как Пушкин”, или можно “как персонажи”?
Противники “поэзии персонажей” охотно разъясняют, что имеются в виду соответствующие персонажи Достоевского — Смердяков, Лебядкин, Максимов, Ракитин. Ссылка на Достоевского существенна для интересующей нас проблемы в целом ряде отношений. Прежде всего, ввиду той роли, которую в его романах играет пародирование — недаром именно ему посвящена пионерская работа Тынянова о теории пародии (Тынянов 1977 [1921]).
Графоманы Достоевского цитируют, имитируют, перевирают, пародируют Шиллера, Пушкина, Фета, Огарева, Некрасова, народный и городской фольклор и даже откровенно слабую, а то и шуточно-пародийную поэзию (Печерина, Мятлева). Но это в значительной мере — тот же самый набор, что и поэтические стили и клише, “неумело”, со сбоями используемые Хлебниковым. Характеризуя стилистическую палитру Хлебникова, В. Марков упоминает одичность XVIII века, романтическую выспренность, Пушкина, Фета, А.К. Толстого, символистскую поэзию, пропагандные революционные стихи, примитивизм фольклора, жестокий городской романс. Всё это подается у Хлебникова как бы под знаком высокопарного актерства, гаерства — того, что по-английски называется hamming.
В параллель к Хлебникову процитирую здесь лишь один пример “поэзии персонажей” — стихи капитана Лебядкина («Бесы», I, 3, IX):
И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок;
Улыбается с лошади мне
Ари-сто-кратический ребенок.
Они интересны для нас, главным образом, ритмическим сбоем в последней строке, который диктует скандирующее разбиение слова ‘аристократический’ на слоги и, соответственно, его гаерское смысловое выпячивание.
К любимому формалистами пародированию суть поэтики Достоевского, однако, не сводится. В рамках бахтинской модели оно, как известно, оказывается лишь одним из проявлений общей установки на полифонию, отменяющую монологическое господство авторитетного авторского слова над словом персонажа. То есть в каком-то смысле именно Достоевский был родоначальником той новой литературной эпохи, когда, перефразируя Карамзина, „и персонажи писать умеют“. Кстати, с точки зрения современников, да как будто и своей собственной, Достоевский „писал плохо“, „небрежно“, поскольку (в отличие от хорошо обеспеченного гр. Л.Н. Толстого) вынужден был торопиться. В действительности, как мы теперь знаем, Достоевский писал о надвигавшейся социальной революции и начинал художественную, ломая современный ему канон.
Конфликт с каноном, только ещё более острый и открытый, определяет и весь творческий путь Хлебникова, начиная с раннего непризнания его Академией Вяч. Иванова. Общефутуристический вызов, бросаемый традиции “из будущего”, в его случае усилен примитивистско-инфантилистско-языческим отрицанием цивилизации с позиций “прошлого”. Любимый лозунг Хлебникова — свобода: “свобода от запретов” литературной конвенциональности (Тынянов), свобода от рамок языка, свобода от размера и рифмы (свободный стих, к которому он приходит в конце), опечатка — свобода от данного мира (Хлебников), свобода от нормативного профессионализма и даже от самого представления об окончательном и едином, “каноническом” тексте, допускающая оставление в стихах “лесов” и существование стихов во множестве равноправных вариантов (Григорьев 1983, с. 66).
Разрушение нормы, принявшее массовый характер к концу Серебряного века, началось во второй половине XIX века. Параллельно Достоевскому подрывом литературного канона занимаются создатели Козьмы Пруткова, а философского — Ницше, теоретик относительности человеческих ценностей. У Достоевского, Ницше и далее Фрейда, с его трехъярусностью человеческой личности, полифония ранее неприемлемых голосов выходит наружу; затем у декадентов аморализм, демонизм и т.п. овладевают уже и авторским голосом. Таким образом, Хлебников предстает как часть, если не вершина, целого культурного переворота — выламывания из канона и выхода наружу “нехорошего”, неблагополучного, неблагонамеренного, неорганизованного, дестабилизирующего голоса персонажа. В поэзии Хлебникову сродни и продолжают его Маяковский и отчасти Есенин (хулиганы), Заболоцкий и обэриуты (абсурдисты), Лимонов (недоучка-нарцисс). В прозе это Зощенко (симпатичный варвар), Платонов (пролетарский философ-самоучка), Ремизов, Пильняк и др. Сказ — как прозаический, так и поэтический, — собственно, и есть не что иное, как канонизированное (в смысле формалистов) графоманство персонажей.
Интересно, что достаточно идентифицировать “графоманскую линию” в литературе, как сразу же обнаруживается, что более или менее явно — по крайней мере, так сказать, пунктиром — она проходит и через периоды, казалось бы, бесспорного господства канона.7 Сказ и орнаментальная проза 20-х годов, как известно, восходят к Лескову, Гоголю и Пушкину. А элементы нарочитого примитивизма и грамматической неправильности играют существенную роль в стилистике Льва Толстого (в частности, “простой” стиль с неуклюжими повторениями союзов ‘что’ и ‘который’;8
Сказ и орнаментальная проза 20-х годов, как известно, восходят к Лескову, Гоголю и Пушкину. А элементы нарочитого примитивизма и грамматической неправильности играют существенную роль в стилистике Льва Толстого (в частности, “простой” стиль с неуклюжими повторениями союзов ‘что’ и ‘который’;8 синтаксически смазанный поток сознания; учеба у персонажей — крестьянских детей). Законченным воплощением “большого канона” оказывается тогда лишь Тургенев.9
синтаксически смазанный поток сознания; учеба у персонажей — крестьянских детей). Законченным воплощением “большого канона” оказывается тогда лишь Тургенев.9
То же в поэзии. Тютчев и Фет, символизирующие, как для героев Достоевского, так и для поэтов и читающей публики XX века, “высокую поэзию”, известны своими отклонениями от “нормы”: первый — так называемыми ритмическими курсивами, то есть несоблюдениями метрической правильности, и вообще непрофессиональным, “любительским”, отношением к собственному творчеству, а второй — „лирической дерзостью“ (Л. Толстой) в нарушении принятых поэтических условностей (безглагольностью, тавтологическими рифмами, сдвигами в словоупотреблении и синтаксисе10 ).
).
Новая русская поэзия вообще началась с неуклюжих опытов Тредиаковского и как бы дурного и полуграмотного перевода с гениального татарского подлинника у Державина (определение Пушкина). Затем, в конце XVIII – начале XIX века, последовала эпоха борьбы архаистов и новаторов, отмеченная с обеих сторон сознательным или бессознательным упором на бессмыслицу и галиматью и отсутствием господствующего стиля. Целым рядом черт эта литературная эпоха перекликается с поэтикой Хлебникова и его времени. Как указывает Ю.М. Лотман (Лотман 1971), распространение “плохой поэзии” свидетельствует (в этот период, как и веком позже) о крупных сдвигах в эстетической культуре.
Грань между литературной и внелитературной галиматьей стирается. Графоманы и полуграфоманы типа гр. Д.И. Хвостова и В.Л. Пушкина часто пишут “для рифмы”; С.С. Бобров создает “научную” поэзию, построенную на совмещении несовместимого; “архаист” А.С. Шишков выступает как своего рода “новатор-утопист” (подобный в этом смысле Хлебникову); а в «Доме сумасшедших» А.Ф. Воейкова образ автора смешивается со сниженными персонажами этой сатиры. Если учесть, что в стихах Жуковского, крупнейшего из непосредственных предшественников Пушкина, „пленительная сладость“ перемежается с „прозой, да и дурной“ (обе формулировки — пушкинские), а ближайший последователь Пушкина — Лермонтов — оказался, волей его посмертных издателей, автором массы незрелых стихов, то и в поэзии высокий канон предстанет скорее кратким эпизодом, сводящимся чуть ли не к одному Пушкину. Впрочем, даже он воспринимается некоторыми читателями и критиками как своего рода удачная литературная ипостась Хлестакова.11
Интересно далее, что и в недрах канона могут быть обнаружены те же неправильности и сдвиги, что и в “плохих” текстах, но просто менее заметные и вопиющие. Сравним следующие примеры (курсив мой):
Моих друзей летели сонмы.
Их семеро, их семеро, их сто!
И после испустили стон мы,
Нас отразило властное ничто.
...................................................
А вы, проходя по дорожке из мауни,
Ужели нас спросите тоже, куда они?
(Хлебников, «Моих друзей летели сонмы...»)
„О, пощади меня, панич!“
Но тот: „Не может“, говорю.
(Хлебников, «Война — смерть»)
Зато я никому не должен
никто поутру не кричит
и в два часа и в полдругого
зайдет ли кто а я — лежит
(Лимонов, «Я был веселая фигура...»)
Смертный миг наш будет светел;
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.
(Пушкин, «Кривцову»)
По гребле неровной и тряской,
Вдоль мокрых рыбачьих сетей,
Дорожная едет коляска,
Сижу я задумчиво в ней...
(А.К.Толстой, «По гребле неровной и тряской...»)
Сдвиги точек зрения отражаются в употреблении местоимений. В первом хлебниковском примере сдвиги происходят между независимыми предложениями, во втором — между главным и придаточным,12 а в третьем хлебниковском и следующем лимоновском отрывках — уже в пределах одной фразы, то есть с особенно вызывающим нарушением грамматической правильности. Но аналогичный, по сути дела, сдвиг — от ‘наш’ к ‘их’ — налицо и в пушкинском примере, только там он не обнажен, а скрыт гладким синтаксическим переходом и к тому же хорошо мотивирован надмирным взглядом с того света. В примере из А.К. Толстого (кстати, любимого автора Хлебникова и одного из создателей Козьмы Пруткова) эффект уже скорее намеренно абсурдный: эта строфа, открывающая стихотворение, начинается панорамой, данной как бы в третьем лице, с удаленной позиции некого подразумеваемого наблюдателя, а когда кадр сужается, то в фокусе оказывается собственное ‘я’ этого наблюдателя. Грамматика соблюдена, но если “прояснить” ее по-хлебниковски/лимоновски, получим что-то вроде:
а в третьем хлебниковском и следующем лимоновском отрывках — уже в пределах одной фразы, то есть с особенно вызывающим нарушением грамматической правильности. Но аналогичный, по сути дела, сдвиг — от ‘наш’ к ‘их’ — налицо и в пушкинском примере, только там он не обнажен, а скрыт гладким синтаксическим переходом и к тому же хорошо мотивирован надмирным взглядом с того света. В примере из А.К. Толстого (кстати, любимого автора Хлебникова и одного из создателей Козьмы Пруткова) эффект уже скорее намеренно абсурдный: эта строфа, открывающая стихотворение, начинается панорамой, данной как бы в третьем лице, с удаленной позиции некого подразумеваемого наблюдателя, а когда кадр сужается, то в фокусе оказывается собственное ‘я’ этого наблюдателя. Грамматика соблюдена, но если “прояснить” ее по-хлебниковски/лимоновски, получим что-то вроде:
дорожная едет коляска
сидит в ней задумчиво я.
Впрочем, эта парадоксальная перспектива мотивирована описанием того, что “было когда-то” и теперь предстает перед мысленным взором лирического ‘я’.12а
Хлебников — Поэт и Председатель
Подспудное присутствие “ненормальности” в самой цитадели канона, как и ее выход на поверхность в более поздних — полифонических или по-новому монологических — структурах, соответствуют известному тезису формалистов о канонизации “младшей ветви” и мысли Якобсона о постоянном сосуществовании в рамках единой семиотической системы множества субкодов. Принцип этот не случайно был сформулирован в XX веке, и притом ближайшими соратниками Хлебникова, поэтика которого являет предельный случай свободного выхода наружу и сосуществования едва ли не всех мыслимых и взаимно конфликтных субкодов русской поэтической культуры. Совмещение в едином авторском голосе разноголосого множества стилевых элементов, к тому же быстро сменяющих друг друга на малых отрезках текста, — вызывающе трудная конструктивная задача, успешное решение которой и является ценнейшим художественным открытием Хлебникова, Итак, чем же мотивирована, или, выражаясь языком современной литературной теории, как “натурализована” (naturalized) в стихах Хлебникова эта хаотическая смесь, на какой человеческий и литературный стержень она нанизана, какого рода “персонажу” приписаны эти стихи?
Прежде всего, этот персонаж оказывается носителем очень “громкого” голоса, в одно и то же время предельно естественного и в высшей степени ненатурального. Если установка Хлебникова на “неправильность”, примитив и свободу всячески нарушает условность, то быстрая смена разнородных кусков, напротив, повышает литературность текста, диктуя усиленное интонирование, форсирование голоса, принятие многозначительных поз (ср. соображения В. Маркова об „оперных жестах“ и „насильных противопоставлениях“ и мои о гаерстве), без чего текст распался бы на отдельные фрагменты. Чтобы “держать” эту ненатурально высокую ноту, и привлекается монструозный персонаж — графоман, шут, маньяк, верифицирующий идиот,13 подражающий взрослым ребенок. Он же — поэт-ученый, что не противоречит примитивизму (как полагает Марков), а прекрасно с ним уживается, ибо это псевдоученый, философ-самоучка, каких много среди героев Достоевского, а в дальнейшем Платонова и Зощенко. Естественно, что передача такому доморощенному гению “из персонажей” авторского слова звучит пародией на роль ученого-мудреца, всерьез принятую на себя символистами — Мережковским, Вяч. Ивановым, Брюсовым, Белым.14
подражающий взрослым ребенок. Он же — поэт-ученый, что не противоречит примитивизму (как полагает Марков), а прекрасно с ним уживается, ибо это псевдоученый, философ-самоучка, каких много среди героев Достоевского, а в дальнейшем Платонова и Зощенко. Естественно, что передача такому доморощенному гению “из персонажей” авторского слова звучит пародией на роль ученого-мудреца, всерьез принятую на себя символистами — Мережковским, Вяч. Ивановым, Брюсовым, Белым.14
Таким образом, “пишущий персонаж”, который возникает из-за стихов Хлебникова, то есть их подразумеваемый автор, оказывается очень похожим на их реального автора — исторического Хлебникова, каким он известен из его остальных, “практических”, текстов и биографических данных. Говоря очень кратко, только Председателю Земного Шара и великому открывателю законов языка, искусства и истории под силу убедительно произнести строки вроде Русь, ты вся поцелуй на морозе! // Синеют ночные дорози.
Фигура эта, хотя и выполняющая характерный общеевропейский культурный заказ начала XX века, — типично русская, плоть от плоти русской художественной традиции с ее вековым противостоянием Поэта и Царя, или, по выражению Набокова, литературы и полиции. История этого противостояния отлилась в своеобразный миф, варьирующий, в длинной цепи эпизодов, подлинное или мнимое, трагическое или смешное столкновение / переплетение / слияние ролей Поэта и Царя (и промежуточных между ними Святого, Учителя и Ученого).
Тем или иным образом в этот миф вовлечены биографии, портреты и автопортреты (self-images, “самообразы”) Ломоносова, Державина, Радищева, Екатерины II, Жуковского (и Александра II), Рылеева, Пушкина, Николая I, Бенкендорфа, Гоголя, Белинского, Чернышевского, Л. Толстого, уже упомянутых магов-символистов, Горького, Маяковского, Троцкого, Замятина, М. Булгакова, Сталина, Мандельштама, Ахматовой, Зощенко, Жданова, Пастернака, Хрущева, Солженицына... Одним из фарсовых (иногда до гротескности) вариантов этой мифологемы является литературный образ мегаломана с писательскими и государственными претензиями — Хлестакова, Поприщина, Козьмы Пруткова, а в наше время — лимоновского Эдички и Соколовского Палисандра (о которых речь впереди).15
На таком фоне вполне закономерным оказывается облачение поэта-новатора в хлебниковские одежды Великого (и смешного) Кормчего народов, наук и искусств.16 Иными словами, революционные, то есть разрушительные и освободительные, задачи решались Хлебниковым с опорой, отчасти пародийной, на авторитарную поэтическую традицию („Ты — царь…“) — сочетание, поразительное напрашивающейся аналогией с историей русского коммунизма.17
Иными словами, революционные, то есть разрушительные и освободительные, задачи решались Хлебниковым с опорой, отчасти пародийной, на авторитарную поэтическую традицию („Ты — царь…“) — сочетание, поразительное напрашивающейся аналогией с историей русского коммунизма.17
Таковы стилистические средства, характерологические параллели, психологические мотивировки и общие историко-литературные связи, определившие тот конкретный поэтический облик, который приняла попытка Хлебникова освободить — технически и идейно — русскую поэзию от канона. Несмотря на гениальность Хлебникова, а может быть, как раз ввиду ее масштабов и экстремизма, эта попытка, утопическая, “графоманская” уже в своем замысле, пока что не привела к успеху. Восторжествовали более умеренные формы поэтической революции, представленные Маяковским, Цветаевой, Пастернаком и Ахматовой, поэтика которых во многом впитала уроки Хлебникова, но в целом осталась в рамках “большого стандарта” — морально-политического благородства, силлабо-тонической упорядоченности, языковой и стилистической нормы. Снова проявился давний консерватизм русской поэзии, которая, по замечанию Д.П. Святополка-Мирского, и в эпоху Золотого века сочетала современный ей европейский романтизм с чертами классицизма XVIII века (Мирский 1958, с. 74). Разумеется, в XX веке огромную роль в этом сыграла политическая и культурная реакция сталинской эпохи, но так или иначе магистральная линия связана сегодня с именами Окуджавы, Ахмадулиной, Кушнера, Бродского, а “хлебниковское” направление, представленное, скажем, Н. Глазковым, Лимоновым, Мнацакановой, Приговым и др., до недавнего времени существовало на птичьих правах полупрофессиональной младшей ветви.
Впрочем, несомненное возрождение интереса к Хлебникову и его наследникам налицо, и имеет смысл бросить беглый взгляд на некоторые из современных аватар образа “Великого Графомана”.
От авангарда к постмодерну
Лимонов, как мы видели, следует в своей поэзии многим урокам Хлебникова; не отбрасывает он и традиционной — по существу, романтической — роли поэта, поглощенного исключительностью собственного ‘я’. Однако эту сверхценную личность он решительно отделяет как от государства, так и от диссидентского противостояния ему:
Мои друзья с обидою и жаром
Ругают несвятую эту власть
А я с индийским некоим оттенком
Всё думаю: А мне она чего?
Мешает что ли мне детей плодить
иль уток в речке разводить
иль быть философом своим
Мешает власть друзьям моим...
(«Мои друзья с обидою и жаром...»,
4-й рукописный сборник «Стихотворений»)
Ужасно государство
Но всё же лишь оно
Мне от тебя поможет
Да-да оно нужно
(«И этот мне противен...»,
из книги «Русское»)
Графоманская неправильность воплощает здесь „индийское“ выпадение из высокого гражданского канона, а не провозглашение нового, пусть неграмотного, новаторского, но общеобязательного Слова творян, заменивших ‘д’ на ‘т’ (Хлебников).
Однако, несмотря на иронию по отношению к внешнему канону, а отчасти и к собственной личности, в целом авторская позиция Лимонова остается серьезной, вовлеченной, горячо принимающей борьбу за дело своего ‘я’.
Следующая — постмодернистская — степень отделения поэта не только от государства, но и от всех мыслимых ролей и масок путем осознания жестовой природы любых литературных, культурных и политических позиций представлена в стихах Пригова. Ср. следующее стихотворение:
Внимательно коль приглядеться сегодня,
Увидишь, что Пушкин, который певец,
Пожалуй, скорее что бог плодородья
И стад охранитель и народа отец.
Во всех деревнях, уголках бы ничтожных
Я бюсты везде бы поставил его
А вот бы стихи я его уничтожил —
Ведь облик они принижают его.
(«Внимательно коль приглядеться сегодня...»)
Вместо того чтобы с революционно-футуристической горячностью сбрасывать Пушкина с парохода современности, постмодернист обнажает как тотальность претензий Поэта-Царя на все мыслимые культурные роли, так и реальную смерть его поэзии. Эта смерть наступает в результате не столько эстетической автоматизации его текстов (в смысле Шкловского), сколько именно вследствие возведения поэта в ранг культурного героя наряду с вождями партии и правительства, от бюстов и портретов которых он никак не будет отличаться после уничтожения его стихов. При этом Пригов вовсе не занят изобличением поэтической глухоты замороченного школьной программой и официальной пропагандой “широкого читателя”. Скорее наоборот, он рад пожать плоды сложившейся ситуации, которая обнажила стратегический, силовой, политизированный, позерски-игровой характер искусства; она позволяет ему выступить в роли универсального Метахудожника, который может гордиться не отдельными текстами — стихи Его, да и Свои, он бы уничтожил, — а не менее чем полным набором всех возможных разных поэзии, проз, живописей, теорий искусства и т.д. Мания величия воспроизводится снова, но теперь уже на новом, сознательно отрефлектированном уровне.
Законченный постмодернистский образ Кремлевского Графомана создает Саша Соколов — в лице заглавного героя-повествователя «Палисандрии». Рассмотрим один абзац из этого романа, представляющий собой, как и почти весь его текст, своего рода стихотворение в прозе.
„Спросил пластилину и гипсу и где-то вблизи казармы предавался лепке, пленяя болезненное воображенье матросских масс не столько многофигурностью композиции, сколько здоровой эротикой фабул и форм. По окончаньи — всё роздал. Нет высшей награды художнику, нежели зреть, как трепетно вожделеют к его искусству заскорузлые руки ратного простолюдина“.
Эпизод (происходящий на территории элитарной тюрьмы-поместья, где Палисандр содержится после покушения на Брежнева) строится на коллаже самых разных дискурсов, который является стилистическим воплощением тотального полиморфизма героя, совмещающего в себе культурные роли кремлевского властителя (квази-Сталина), поэта Серебряного века (квази-Блока), великого любовника (Казановы, Эдички) и многие другие.
Даже в заключении Палисандр занят творчеством — скоростным производством порнографических скульптур для вохры. Мотив исключительной свободы за решеткой опирается на топос привилегированного содержания коронованных преступников (Наполеона и др.), а мотив деятельности в тюрьме — на образы революционеров (Чернышевского, Морозова, Ленина), использующих вынужденный досуг для продолжения своего дела. Совмещение элементов того и другого с художественным творчеством и даже скульптурой есть в «Кавказском пленнике» Л. Толстого.
Казарма и матросские массы поставляют характерный “военно-патриотический” элемент, переводимый также и в классицистический план в виде образа „ратного простолюдина“. Архаический слой текста включает также слова ‘зреть’ и ‘нежели’ и эмфатически сокращенные окончания на ‘-нье’ (‘воображенье’, ‘окончанье’), помогающие сплавить воедино военно-имперский классицизм с романтическим выпячиванием переживаний Художника („предавался“, „пленяя воображенье“, „высшая награда“, „трепетно“).
Эти эпические и лирические элементы вкраплены в отчет о ходе творческого процесса, написанный языком профессионального искусствоведения („не столько... сколько“, „многофигурность композиции“, „фабул и форм“, „(не)здоровая эротика“). “Научность” точки зрения способствует дальнейшему ироническому утверждению маниакального нарциссизма героя, как бы придавая объективность его похвалам в собственный адрес. Преодолению разрыва между “субъективным” и “объективным” началами служит мемуарный (то есть одновременно личный и документальный) тон, задаваемый первыми же словами отрывка. Характерное „спросил“ плюс партитивный родительный на ‘-у’ призваны вызвать в памяти образ старинного путешественника, останавливающегося в придорожном трактире и “спрашивающего” чернил, бумаги, хлеба, козьего сыру... а также сентименталистскую атмосферу действия, совершаемого по мгновенному капризу вдохновения, поддержанную немедленной раздачей его плодов и нарочитой неточностью указания места („где-то вблизи...“).
Этот наворот стилей совершенно абсурден — достаточно указать на оксюморонное утоление „болезненного воображенья“ „здоровой эротикой“. Но все сбои искусно прикрыты — стилистическая соль отрывка именно в полной пригнанности несовместимых элементов. Один из секретов состоит в сцеплении двух клише, общим членом которых является ‘воображение’: романтический штамп “пленять воображение” и психодиагностическое “болезненное воображение”. Ещё одним ироническим скрепом является двусмысленность глагола ‘вожделеть’, прикрывающего мантией классицистической духовной жажды плотскую страсть к порнографии. Наглядному овеществлению этой страсти служит крупный план „заскорузлых рук“, представляющих собой заезженный штамп соцреализма, освеженный проекцией на архаический образ „ратного простолюдина“.18 Сюжетно всё это парадоксальное совмещение держится на том, что и гениальность творца, и низменность вкусов его поклонников являются гибридами “военно-патриотического” и “декадентского” начал — двух основных тематических и стилистических полюсов романа. А жанровое единство достигается тем, что весь пассаж выдержан в стиле прутковского философствования, мешающего литературные претензии с канцеляризмами. Наконец, на текстовом уровне фрагмент густо спаян многочисленными аллитерациями и ритмизованными кусками (амфибрахиями и дактилями).
Сюжетно всё это парадоксальное совмещение держится на том, что и гениальность творца, и низменность вкусов его поклонников являются гибридами “военно-патриотического” и “декадентского” начал — двух основных тематических и стилистических полюсов романа. А жанровое единство достигается тем, что весь пассаж выдержан в стиле прутковского философствования, мешающего литературные претензии с канцеляризмами. Наконец, на текстовом уровне фрагмент густо спаян многочисленными аллитерациями и ритмизованными кусками (амфибрахиями и дактилями).
Так “графоманская” поэтика проходит полный круг от “горячих” программных нарушений канона (у Хлебникова и Лимонова) до его иронического и металитературного, но эстетически безупречного восстановления у Соколова. Однако неизменной остается сильнейшая ориентация — будь то в форме притяжения или отталкивания — на магистральный монархо-поэтический миф русской литературы.
————————
Примечания 1
1 В последнее время этот вопрос привлек внимание ряда исследователей; см. например,
Дуганов 1976; Григорьев 1983; Баран 1985; Вестстейн 1986. 2
2 См.
Синявский-Терц 1975б; Карабчиевский 1985; Фрейдин 1987. 3
3 Его классическую монографию (
Марков 1962) я использую (без постраничных ссылок) и как свод разнообразных оценок Хлебникова.
 4
4 Впрочем, В. Григорьев, рассматривая этот фрагмент, утверждает, что
дорози привлечены не для рифмы, а в гораздо более глубокомысленных целях (
Григорьев 1983, с. 100–103).
 5
5 В. Григорьев отмечает установку Хлебникова на слово и фонему, а не на “длинную речь” (Григорьев 1983, с. 71).
 6
6 В авангардистском альманахе «Мулета» Лимонов писал: „Когда-то в поэтической юности, восхищенный открытым мной Хлебниковым, я переписал три тома степановского издания от руки. Потом задумался, помню, над тем, что я переписал Хлебникова, а он до меня “списал” всё с невидимого мне, но видимого ему подстрочника“ (
Лимонов 1985, с. 156).
 7
7 Богатые наблюдения над “графоманской традицией” в русской поэзии, в частности соображения о “хлебниковских чертах” поэтической техники «Ганца Кюхельгартена», о стихах Достоевского “в образе” капитана Лебядкина и о самом Хлебникове как „гиганте-самоучке“, есть в работах
Марков 1954, 1960.
 8
8 Об этом см. подробнее в главе 7.
 9
9 По-видимому, недаром именно он был злым гимназическим гением будущего мастера сказа — Зощенко (см. главы 7, 10).
 10
10 Не случайно Фет был одним из признанных источников новаторского — “высокого”, но тоже косноязычного — поэтического стиля Пастернака. Например, характерные пастернаковские строчки „Сиренью моет подоконник // Продрогший абрис ледника“ («Из поэмы», 2) или „Бывало, раздвинется запад... // И примется хлопьями цапать, // Чтоб под буфера не попал“ («Вокзал») построены путем конденсации в единый сгусток отдельных ситуаций контакта (см.
Лотман 1969, а также: А.К. Жолковский. «Инварианты и структура поэтического текста. Пастернак» —
Жолковский и Щеглов 1980, с. 227–228). В первом случае к физическому контакту между сиренью и окном добавляетсязрительная перспектива ‘наблюдатель — окно — сирень — ледник’; во втором на соприкосновение между человеком и хлопьями снега накладывается опять-таки вид на горизонт, откуда как бы летит снег.
В менее явном виде подобная конструкция есть уже у Фета. Так, хрестоматийные строчки о солнце, которое „горячим светом по листам затрепетало“ («Я пришел к тебе с приветом...») построены по тому же принципу нагнетания участников. Реальная ситуация состоит из нескольких основных предикатов: ‘солнце освещает листья’, ‘солнце согревает листья и воздух’, отчего ‘поднимается ветер’ и ‘на ветру трепещут листья’. Фет совершенно по-пастернаковски сплавляет всё это в единое, грамматически неправильное предложение, где ‘солнце горячим светом трепещет на листьях’ (подробнее см. Жолковский 1985б).
 11
11 См. знаменитую демифологизацию Пушкина Синявским-Терцем (
Синявский-Терц 1975б).
 12
12 Эти примеры разбираются в статье
Успенский 1973.
 12а Добавление-2009.
12а Добавление-2009. Лишь недавно я сообразил, что у строк А.К. Толстого, приведенных в этой статье четверьтвековой давности в качестве прото-лимоновских, есть более прямая аналогия такого рода — стихотворение Лимонова «Мелькают там волосы густо...» из его ранней рукописной книги «Третий сборник» (1969; см.
Эдуард Лимонов. Русское. Ann Arbor: Ardis, 1979: 47 (http://russkoelimonov.narod.ru/russkoe.txt);
Эдуард Лимонов. Стихотворения, М.: «Ультра. Культура», 2003: 77.
Мелькают там волосы густо
Настольная лампа горит
“Во имя святого искусства”
Там юноша бледный сидит
Бледны его щеки и руки
И вялые плечи худы
Зато на великое дело
Решился. Не было б беды!
И я этот юноша чудный
И волны о голову бьют
И всякие дивные мысли
Они в эту голову льют
Ах я трепещу... Невозможно
Чтоб я это был. Это я?!
Как дивно! Как неосторожно!
Как необъяснимо — друзья!
Появление “я” лишь в начале III строфы в точности соответствует толстовской рецептуре, лишь слегка обостряя ее эффект, но не доводя до той максимальной остроты, которую я проиллюстрировал гипотетическим текстом собственного изготовления:
дорожная едет коляска
сидит в ней задумчиво я.
 13
13 Григорьев соотносит “идиотизм” Хлебникова с “идиотом” князем Мышкиным — персонажем (!) Достоевского (
Григорьев 1983, с. 178).
 14
14 О бутафорском характере грандиозных построений символистов писал Мандельштам, который, как показал О. Ронен, „ехидно намекнул, что “космическая поэзия” Вячеслава Иванова напоминает лирико-драматическую аллегорию Степана Трофимовича Верховенского: „даже минерал произносит несколько слов“ („даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет вовсе неодушевленный“ — «Бесы» I, 1, 1)“ (
Ронен 1983, с. 79). Кстати, это ещё один пример “поэзии персонажей” Достоевского.
 15
15 Обращает на себя внимание внешнее сходство Хлебникова,
в особенности на рисунке Митурича, с “официальным”, хотя и вымышленным, портретом Козьмы Пруткова; похожи на обоих и некоторые из фотопортретов Лимонова.
 16
16 Кстати, с манией величия и нарциссизмом можно связать отмеченную Успенским установку текстов Хлебникова на автокоммуникацию (
Успенский 1973). О мегаломании и нарциссизме, и частности у героев Лимонова и Соколова, см. главу 12; о нарциссизме Лимонова см. также
Смирнов 1983; Карден 1984; Матич 1986а; о Соколове см.
Матич 1986б и
Джонсон ред. 1987.
 17
17 О правомерности подобных параллелей см. главу 4, а также
Гройс 1987, 1988.
 18
18 О соцреализме как сталинском корреляте классицизма см. подробнее в главе 4.
Воспроизведено по:
http://cascenka.pisem.net/zholk.html
Изображение заимствовано:
Mansoor Ali (b. 1978 in Jasmatpur, Gujarat, India. Lives and works in Baroda, India).
Dance of Democracy. 2008.
Installation with discarded chairs.
Dimensions variable, approx: 427×244×244 cm.
The Empire Strikes Back: Indian Art Today, Saatchi Gallery.
————————
Замечания В. Молотилова
Все мы разборчивые люди, не пьём из лужи. Но некоторые пьют исключительно из своего стакана. А ведь у нас общепит. Как подружить общепит с личным стаканом?
Например, Георгий Ахиллович Левинтон перестанет со мной знаться, если окажется соседом Лимонову. Я предупреждён им, т.е. воодушевлён. Нужно исхитриться: так и подмывает приголубить самобытного мыслителя. Малороссия дала миру Григория Сковороду, теперь вот Лимонов.
Мысль обнажена до предела, почти мясо. Редчайшая самобытность, новый Альвэк. Альвэк называл Маяковского перекупщиком краденого, Лимонов — прямо говнюком. ‘Альвэк’ и ‘говнюк’ — косое созвучие, по Хлебникову. Косое малороссийское созвучие.
Вот бы залучить мыслителя на сайт. А не соорудить ли гробовину вроде Чернобыльской?
В одиночку — ни за что, с А.К. Жолковским на пару — запросто.
Потому что коробка-призма о три стены — ЛЕБЯДКИН, ХЛЕБНИКОВ и ДРУГИЕ — уже налицо. Весомый вклад американской стороны и бесплатно, не ленд-лиз.
Гробовина готова, остаётся уторкать туда ЛИМОНОВА и немедленно придавить крышкой.
Но крышка Лимонову американцами не предусмотрена. Предусмотрено поддувало и смотровой люк. Внутри гробовины непрерывно клокочет. Зачем? Вопрос не ко мне. Моё дело — крышка.
Крышка гробовины точь-в-точь половина звезды Давида. Очень кстати, что половина: погромщики не прикопаются, чёрная сотня. Пока я сколачиваю опалубку и ударничаю с замесами под Шостаковича из «Время, вперёд!» — загляните в нутро американо-российского сооружения. Нет желающих? Хотя бы принюхайтесь.
Эдуард Лимонов
Священные монстры
Из Предисловия
Всех культовых личностей, собранных мною по прихоти моей как приязни, так и неприязни, объединяет не только бешенное поклонение как толп, так и горсточек рафинированных поклонников. В них во всех есть бешенство души, позволившее им дойти до логического конца своих судеб ‹...›
Эта книга не предназначается для обывателя. Она предназначается для редких и странных детей, которые порою рождаются у обывателей. Для того, чтобы их поощрить: смотрите, какие были les monstres sacres, священные монстры, вот какими можно быть. Большинство населения планеты, увы, живет овощной жизнью.
Книга написана в тюрьме в первые дни пребывания в следственном изоляторе Лефортово ‹...› это бедные записки. От них пахнет парашей и тюремным ватником, который я подкладываю себе под задницу, приходя писать в камеру № 25. (Часть записок написана в камере № 24.) Бедные, потому что справочной литературы или хотя бы энциклопедического словаря, чтобы уточнить даты, у меня нет ‹...›
Велемир Хлебников: святой
В юности, где-то в возрасте двадцати одного года, я переписал от руки три тома Хлебникова. Купить себе это очень редкое издание я не мог, ксероксов ещё не существовало, поэтому пришлось переписать. Тетради эти куда-то делись. Потерялись на жизненном пути.
И вот я снял курчавое чело с могучих мяс и кости ‹...›
Где тот, кому молились раньше толпы?
‹...› Но с ужасом я понял
что я никем невидим
что нужно сеять очи
что должен сеятель очей идти
написал Хлебников в одном из последних стихотворений. Здесь совершенно ясно заявлена основная трагедия Велемира Хлебникова: его соревнование с Пушкиным. В соревновании он победил, снял курчавое чело того, кому молились раньше толпы, с могучих мяс и кости. Однако победить Пушкина талантом, средствами поэзии оказалось недостаточным. Победа Хлебникова оказалась невидна всем, видна лишь немногим. И до сих пор не видна.
Хлебников не только неоспоримый гений поэзии 20-го века. Он намного крупнее и больше Пушкина, заявленного гением поэзии 19-го века. В 20-м веке было достаточное количество высокоталантливых поэтов, но все они: Маяковский, Мандельштам, Пастернак, Крученых, но все они, плюс ещё многие, без остатка умаляются в Хлебникове. То есть в полифонном, политематическом поэтическом мире Хлебникова звучали и мотивы Маяковского и Мандельштама, и Пастернака, и Крученых.., но их всех вместе может заменить он один. Даже Блок с его якобы уникальной поэмой «Двенадцать» может быть найден в Хлебникове без труда. Это сразу несколько поэм, включая поэму «Ночь перед Советами». «Ладомир» и «Война в Мышеловке» могут быть рассматриваемы как прототипы поэм Маяковского и, по всей вероятности, так оно и было. Маяковский слушал учителя. Велемир Хлебников сделал столько, что хватает как раз на дюжину первых русских поэтов 20-го века. Причина того, что он до сих пор невидим, непризнаны его поэтические размеры даже спустя 79 лет после его смерти в деревне Санталово — причина этого непоэтическая. Это лень, глупость и тупость наших современников. Подумать только — возвеличивать довольно ничтожную Анну Ахматову (прав был Жданов в своей оценке ее достаточно жеманных и мелких стихов), бессвязную Цветаеву, небольшого Пастернака и игнорировать поэта, написавшего «Усадьба ночью чингизхань!», мрачные строки «Войны в мышеловке»:
‹...› волк воскликнул кровью
„Эй! Я юноши тело ем!“
‹...› Мы, старцы, рассудим, что делаем ‹...›
‹...› Иль позовите с острова Фиджи
Черных и мрачных учителей
И проходите годами науку
Как должно есть человечью руку ‹...›
Хлебникова называют в ряду других поэтов. Но ему место впереди, одному. Одному ему стоять, держа в руках снятое с могучих мяс и кости курчавое чело — голову Пушкина. Конечно он прекрасно понимал, что соперник у него один — Пушкин. Со всеми другими он и не соревновался.
Одна из особенностей поэзии Хлебникова — он связан с Азией: Индией, как ни один русский поэт. Рабыня с родинкой царей на смуглой груди — Азия — любовь Хлебникова. В его стихах во множестве встречаются имена полководцев и героев Азии. Возможно, азиатская ориентация Хлебникова одновременно и причина отсутствия восторга по отношению к нему у законодателей нашей культурной моды. Ведь и дворянство и, позднее, русская интеллигенция и советская интеллигенция традиционно искали примеров для подражания на Западе. Потому и обласкан Пушкин, что он на самом деле — Евгений Онегин, — западный щеголь в воротничках, лакавший “вдову Клико”, пунши, одетый в парижско-лондонские тряпки, подражавший англичанину Байрону и французу Просперу Мериме. Обезьяна в лампасах, на коротких ножках.
Хлебников легок, фантастически красив, яростен, оригинален. В тюремной библиотеке нет его стихов. Но даже то, что вспоминается — неотразимо.
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели
Пролетели, улетели
Стая легких времирей ‹...›
Или:
‹...› В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаще глаз приказанья проснутся ‹...›
Или:
‹...› Шамана встреча и Венеры
Была прекрасна и ясна
Она вошла во глубь пещеры
Порывом радости весна ‹...›
‹...› Напрасно Вы сели на обрубок
Он колок и исцарапает Вас
Берет со стола красивый кубок
И пьет задумчив русский квас ‹...›
Или:
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
Мелкий поэт Самуил Маршак как-то сказал, что не может прочесть зараз более двух страничек Хлебникова. Дескать, поэт великий, но тяжелый. Маршак — недоразвитый идиот, потому что стихи Хлебникова доступны детям. В них как раз детский взгляд на мир. Они лепечут по-детски, говорят строго по-воински. Они просты и трогательно наивны и мудры одновременно. Это с Маршаком что-то не так, с его головой.
Страннический, отрешенный от мира образ жизни Велемира Хлебникова в дополнение к его стихам уж вовсе сделал из него поэта-пророка. Пророки, как известно, бродят по пустыням. В воспоминаниях Петровского рассказывается эпизод, когда Хлебников и Петровский ночевали в прикаспийской степи, и Петровский заболел. Хлебников покинул Петровского, и на все увещевания последнего не бросать его, ведь он может умереть, Хлебников спокойно ответил: „Степь отпоет“, и, взяв наволочку со стихами, удалился. В этом эпизоде всё по-христиански и по-апостольски просто и скупо. Этот эпизод как бы из Евангелия и скупая реплика: „Степь отпоет!“ достойна окрестностей Тивериадского озера или каменной Галилеи. И не жестокость увела Хлебникова от Петровского, но апостолическое служение делу его — созидания хлебниковского поэтического мира. Мир этот уникальный достался нам.
Хлебников сродни только Ван Гогу. Как и у великого (да-да, великого, несмотря на пошлое преклонение и сегодняшней толпы. Это Пушкину не выстоять преклонения — он слишком мал, а Ван-Гогу преклонение пошляков нипочем) голландца у Велемира присутствовала в его характере изначальная наивность, религиозная простота — черты святости. Не имея угла своего, Хлебников бродил по полям и весям России, пошел с красноармейцами Фрунзе в персидский поход, лежал в харьковской психбольнице (на знаменитой Сабуровой даче, где лежали в свое время Гаршин и Врубель, и я, грешный, почти ребенком), спал на полу в комнатах друзей и закончил свой век в деревушке Санталово, Новгородской губернии, в возрасте 37 лет. Позднее, стараниями его исследователя Харджиева, прах был перенесен на Новодевичье кладбище. 30 лет назад я, живя на Погодинской улице, чуть ли не ежедневно наведывался на могилу Хлебникова, помню отнес ему на могилу и положил большое красное яблоко. В полном соответствии со святостью Велемира нет убедительных доказательств того, что это его кости лежат на Новодевичьем. Могила была общая и спустя много лет на Санталовском погосте уж никто и не помнил, тот ли это мужик, поэт ли…
По свидетельству современников у него были светлые водянистые глаза, как будто глядевшие внутрь его самого. Он был рассеян, малословен, отношения с женщинами как у Ван-Гога. Он был влюблен, рассказывают, в одну из сестер Синяковых. (Другая сестра была замужем за поэтом Асеевым.) Художник Василий Ермилов рассказывал мне, что как-то компания сестер Синяковых и их друзей отправилась на озеро под Харьковом. Сестра, в которую Хлебников был влюблен, села в лодку с мужчиной, с кем-то из гостей, и, заплыв далеко, лодка остановилась. Через некоторое время из воды с шумом вынырнул Хлебников. Он беспокоился за девушку, в которую он был влюблен, и потому стал безмолвно плавать вокруг лодки. Объясниться в любви он не умел. Вспомним, что Ван-Гог тоже не умел объясниться в любви проститутке, в которую влюбился, и потому однажды принес ей в подарок замотанное в тряпицу свое окровавленное ухо. В мире святых так принято.
Святой Хлебников был замечен во время персидского похода на берегу Каспия. Он вылезал из воды, рубаха и порты облепили тело, водоросли в волосах (Дикие волосы Харькова — как он писал). Рыбаки дали ему рыбу и там же на берегу, разодрав брюхо рыбине, он стал поедать из нее икру.
Это не Пушкин, с подзорной трубой и в коляске путешествующий в свите генералов. Это спустя сто лет куда более мощный талант сидит на каспийском песке на земле Ирана. Дервиш, святой юродивый, библейский персонаж, уместный в Евангелии.
Светский Маяковский, тусовщик Крученых, эго- и просто футуристы — умевшие вертеться, столичные, успешно обитавшие в окололитературной столице и в Питере, обошли его в суете. Их больше печатали. (Говнюк Маяковский даже дошел в своей подлости до того, что завопил: „Бумагу живым!“ — когда зашла речь об издании собрания сочинений Хлебникова), их упоминали, они мелькали. Хлебников не умел делать “промоушэн” самому себе. Он прорицал, бродил, написал мистическо-математическо-историческую скрижаль «Доски Судьбы», где вывел формулу периодичности Великих Исторических событий: битв, смен династий, миграций народов. Потом он умер от голода в деревне, неудачно с точки зрения “промошэн”, вдалеке от обеих столиц. Если Маяковского в последний путь провожали толпы, то Хлебникова вряд ли кто провожал. Скорее всего, за гробом не шел никто.
Свобода приходит нагая
Бросая на сердце цветы
И мы с нею в ногу шагая
Беседуем с небом на ты ‹...›
С небом он-таки был на ты. Вот только на нашлось у него своего Достоевского. Кто бы огласил через полсотни лет на юбилее в 1972 году, что Хлебников наш — святой гений русского народа.
Хлебников — это целая литература. В середине 60-х годов, бродя в Харькове по Бурсацкому спуску, там недалеко, в самом начале его, на площади Тевелева я жил, я повторял: Раклы, безумцы и галахи! Себя я безоговорочно причислял к этим раклам, безумцам и галахам. И я не ошибся. То, что сижу сейчас в тюрьме, несомненное доказательство. А тогда, молодым совсем, двадцатилетним поэтом, я искал его следы в Сабурке (Сабурова дача — первый в России крупнейший психоневрологический институт, целый комплекс) и на Бурсацком спуске, где, скромный, стоял дом Библиотечного института, бывшей бурсы. Харьковскую бурсу обессмертил один из ее учеников — Помяловский, оставив «Очерки Бурсы». Из Бурсы и вышло словечко ‘раклы’. Это бурсаки, спускавшиеся в набеге на нижерасположенный “Благовещенский рынок”. Вечно голодные, они хватали любую снедь и убегали. Торговки дико кричали: „Держи ракла!“ Так что я побродил по дорогам Хлебникова.
———————————————
Итак, перед вами сооружаемая русскими лентяями крышка гробовины:
равносторонний треугольник полу-щита Давида.
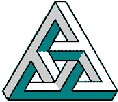
Три вершины его, три
Бе:
Бешенство (
бешенство души);
Безумие (“
Раклы, безумцы и галахи”);
Безмолвие (стал
безмолвно плавать вокруг лодки).
Бешенство
Бешену мужу и море за лужу
Русская пословица
Бешенство души это не бешенство слюны, не заболевание водобоязнь. Это крик души, утесняемой бесом. Меня сейчас утесняет один. Я взбешён. Уже невмоготу... опять эта “наволочка со стихами”!
Кто первый взвалил её на Велимира Хлебникова, кто?!
В.Ф. Марков указывает на В.В. Каменского и ошибается („Знаменитая наволочка появляется уже в 1910 году, когда он впервые встречается с В. Каменским, и с нею он шагает по жизни”). На самом деле встреча поэтов произошла в 1908 году. Каменский тотчас побывал у Хлебникова в гостях („Там стояли железная кровать без матраца, столик с лампой, с книгами, а на столе, на полу и под кроватью белели листочки со стихами и цифрами“), а потом перетащил его к себе на Фонтанку. Витя был застенчив, горазд на выдумку, любил красное вино — и всё. Никакой наволочки.
Быстро собрали “вещи” — что-то очень мало. Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати:
наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги или просто углами листов. „Рукописи...“ — пробормотал Витя.
Давид Бурлюк. Я о Хлебникове написал паром дыхания своего...
Это воспоминания Давида Бурлюка. Они обнародованы в 1985 году стараниями А.Е. Парниса. То есть очень долгое время не были широко известны. Частные разговоры, в узком кругу.
В.Ф. Марков ошибается: не Каменский, а Бурлюк взвалил на плечи Велимира Хлебникова знаменитую наволочку. Взвалив, убыл в США на постоянное жительство, от греха подальше. Железный занавес, но Лимонов же как-то узнал. От кого? От знакомцев Давида Бурлюка, конечно. От Лили Юрьевны Брик (1891–1978), в частности:

У Хлебникова никогда не было денег, рубашка одна, брюки рваные, с бахромой. Где он жил, не знаю. Пришел он к нам как-то зимой в летнем пальто, синий от холода. Мы сели с ним на извозчика и поехали в магазин Манделя (готовое платье), покупать шубу. Он всё перемерил и выбрал старомодную, фасонистую, на вате, со скунсовым воротником шалью. Я дала ему ещё три рубля на шапку и пошла по своим делам. Вместо шапки он на все деньги купил, конечно, разноцветных бумажных салфеток в японском магазине и принес их мне в подарок, — уж очень понравились в окне на витрине.
Писал Хлебников непрерывно и написанное,
говорят, запихивал в наволочку [разрядка моя. —
В.М.] или терял. Когда уезжал в другой город, наволочку оставлял, где попало. Бурлюк ходил за ним и подбирал, но много рукописей все-таки пропало. Корректуру за него всегда делал кто-нибудь, боялись дать ему в руки, — обязательно перепишет наново. Читать свои вещи вслух ему было скучно. Он начинал и в середине стихотворения часто говорил:
и так далее… Но очень бывал рад, когда его печатали, хотя никогда ничего для этого не делал. Говорил он мало, но всегда интересно. Любил, когда Маяковский читал свои стихи, и слушал внимательно, как никто. Часто глубоко задумывался, тогда рот его раскрывался и был виден язык, голубые глаза останавливались. Он хорошо смеялся, пофыркивал, глаза загорались и как будто ждали: а ну еще, ещё что-нибудь смешное. Я никогда не слыхала от него пустого слова, он не врал, не кривлялся, и я была убеждена и сейчас убеждена в его гениальности ‹...›
Дружба народов, 1989. № 3. С. 191–192.
Безбытной чету Брик не назовёшь. Вот уж не перекати-поле. Коврики, наперники, салфетки, абажур. Белоснежные простыни из прачечной. Хрусткие крахмальные наволочки.
Хозяйка с содроганием предвидит сальное пятно от головы гостя. Сальное пятно и тифозные вши — вот что такое этот ваш Хлебников.
Не наволочка, а сидор, граждане потомки. Сидор, вещевой мешок. Под голову на привале, мы завсегда так. Спутники Хлебникова в глаза не видали пресловутой наволочки. Спутники, товарищи по скитаниям.
В воспоминаниях Сергея Спасского вещевой мешок упоминается восемь раз:
• Имущество Хлебникова ограничено. Оно помещалось в вещевом мешке. Туда забивались накопившиеся рукописи, листки с мелкими значками и буквами. Буквы, роившиеся, как насекомые. Так вот, в мешок укладывались эти буквы. Куски хлеба, коробка папирос. Ночами мешок мог служить подушкой. Иногда добавлялся причудливый груз вроде кустарных коробочек или игрушек. С таким мешком он пришел и ко мне, кажется, в марте 16 года.
• В конце апреля или в начале мая он предпринял объезд Поволжья. Начинающая образовываться библиотека не поместилась в вещевой мешок.
• Мешок Хлебникова на этот раз был щедрым. В нем заключались баранки и яйца. Мы закусили, обсуждая положение.
• Работа изнурительная и гипнотизирующая, заманивающая обманчиво вспыхивающими удачами. Менее всего подходящая к страннической жизни, к отсутствию угла и сотрудников. И всё же именно ее волок Хлебников на своих плечах. А не свой невесомый мешок с почти несуществующим имуществом.
• Последних встреч не сохранилось в памяти. Хлебников словно удаляется постепенно, держа в руках вещевой мешок.
Сергей Спасский. Хлебников
Держа в руках вещевой мешок. Крепко держа в руках вещевой мешок. Держа в руках вещевой мешок мёртвой хваткой. Перечитаем свидетельские показания П.В. Митурича:
И я решил предложить ему ехать со мной на две недели в деревню Новгородской губернии, а потом ехать с ним в Астрахань, или ему одному, как придется.
Велимир соглашается. Делаем сборы. Я продаю кое-какие вещицы, чтобы побольше закупить еды в виде селедок, сахара. Но нужно брать как можно меньше вещей, так как от станции Боровенка до села Санталова 40 верст, которые нам нужно пройти не торопясь.
Велимир собирает свой мешок рукописей и переносит со мной на Даев пер. д. 9, к родным жены, откуда мы должны двинуться на вокзал. Мешок с бельем и мешок с рукописями оказались очень тяжелыми. С таким грузом идти нельзя. Белье нужно взять — там помоют и почистят женщины. Рукописи предлагаю оставить в Даевом пер., где они, конечно, будут в полной сохранности до его скорого возвращения. Велимир категорически не соглашается. Он их нес в Персии, на Кавказе, донес до Москвы и тут не желает с ними расставаться. Я понял его чисто физические труды, которые он совершил уже для того, чтобы донести свои мысли людям.
Я повиновался его воле, и всё его имущество, помещавшееся в двух мешках, было взято.
Незадолго до нашего отъезда я уничтожаю все свои пространственные композиции, которые были сделаны из бумаги и картона, т.к. они были недолговечны, закапчивались и деформировались бы в скором времени, и мне нежелательно было бы, чтобы они в таком виде продолжали существовать у кого бы то ни было. В то же время, они были громоздки для перемещения. Их удалось предварительно заснять, так что некоторое представление о том, что было, можно составить по фото. Когда я об этом сказал Велимиру, ему это очень не понравилось. „Почему вы со мной не посоветовались? Я бы нашел место, где бы их хранили, у того же Куфтина”.
П.В. Митурич. Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым
Малярийному больному Хлебникову очень не понравилась беспечность Митурича: в зыбкие времена нельзя ничего сжигать. Сегодня сжёг, а завтра слёг в тифозной горячке. Слёг и не встал. Основательный человек был этот скиталец.
Итак, наволочка — Л.У.Б.янская туфта, граждане.
Потому что Лилиного отца звали Урия Каган. Лииного отца.
Сейчас я устрою выволочку за наволочку. Отомщу за распространение туфты. То-то сёстры Маяковского, Люда с Олей, порадуются.
Наволочка эта — Л.У.Б.янская туфта, граждане: супруги Брик состояли на службе в ВЧК. Ниже приводится свидетельство А.В. Луначарского, наркома по просвещению. По просвещению нас о безупречном исполнении служебных обязанностей сотрудником тов. О.М. Бриком, например. Наивные Маяковский, Антокольский и Глазков писали с ошибкой — Л.Ю.Б. Перемена гласных, по Хлебникову, выворачивает слова. До полной узнаваемости.
Я спокоен, когда Владимира Владимировича называют говнюком. Это по-нашенски.
Краткий перевод с американского на малороссийский развёрнутой самооценки „ассенизатор и водовоз, Революцией мобилизованный и призванный“, вот что это такое.
Дословно по-нашенски, т.е. спиной к Западу, это будет „водовоз и говнюк (золотая рота) в обозе Переворота“.
Сам сказал.
А ещё он полушёпотом попросил напоследок: „Пожалуйста, не сплетничайте...“
Будь я проклят, если нарушу его последнюю волю.
Маяковского я люблю, ЛУБянку — не очень. Николай Николаевич Пунин тоже не очень. Совсем даже и нет.

В 2000 году издали его письма и дневники. Из письма к жене, Аренс-Пуниной Анне Евгеньевне (Гале) следует, что весь этот мрак и ужас он давал ей читать.
Какие там сплетни. Это кромешное поругание пола. Какого? сами разберётесь.
Два слова в порядке пояснения.
Любовный треугольник Ося + Лиля + Вова всем надоел, а вот Коля + Галя + Аня — ещё не всем.
Между прочим, эти два треугольника скрепко спаяны между собой. Нет, не звезда Давида. Подробности ниже.
Николай Николаевич однажды взял да и принёс домой ничью кошечку. Акумой назвал. Галя кошечку терпела до самой до смерти своей. Порой ворчала, что та мышей не ловит.
А ранешнюю кошечку Лилю Николай Николаевич не принёс. Она была домовита и вообще не кошечка, а светская советская львица.
Владимир Владимирович был робок и раним, без огнестрельного оружия на улицу не выходил.
Николай Николаевич — решителен и беспощаден. Это он наговаривал на себя, что трус в душе. Кого-кого, а женщин Пунин не боялся. Он мигом укрощал этих львиц. Что говорить о кошечках.
ДНЕВНИК. 1920 год
20 мая
Лиля Б.
Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает... [все отточия — авторские. — В.М.] Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский — забитость, но эта “самая обаятельная женщина” много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве — я не мог...
Наша короткая встреча оставила на мне сладкую, крепкую и спокойную грусть, как если бы я подарил любимую вещь за то, чтобы сохранить нелюбимую жизнь. Не сожалею, не плачу, но Лиля Б. осталась живым куском в моей жизни, и мне долго будет памятен ее взгляд и ценно ее мнение обо мне. Если бы мы встретились лет десять назад — это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену.
Что же такое эти короткие связи, эти измены жене? Разве я понимаю. Ещё двух недель не прошло, а кровь уже томится, горько, темно и безысходно. Под каждые ресницы смотришь и всё ищешь, ищешь ненасытно. Ищешь не находя, смотришь одиноко. Красота не канонична, приму всякую форму, живую и трепетную, но формы шляп живее форм лица, а платья — больше тела, чем само тело. Между рядами голодный, как одинокий, иду мимо; долго ли мимо, иду один — живой, иду насквозь один, несовершенный, весь знающий нового человека и весь старый человек.
3 июня
Виделись, была у меня, был у нее. Много говорила о своих днях после моего отъезда. Когда так любит девочка, ещё не забывшая географию, или когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни, — тяжело и страшно, но когда Лиля Б., которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная, так любит — хорошо. Но к соглашению мы не пришли... Вечером первого я вернулся от нее из «Астории», где нельзя было говорить, и позвонил; в комнате она была уже одна, и я сказал ей, что для меня она интересна только физически и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу; если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. „Не будем видеться“, — она попрощалась и повесила трубку.
Люди годами живут в Петербурге и не встречаются; сегодня, едва я успел выйти, встретил ее, — не увидел, прошел совсем мимо, она покраснела и поздоровалась на ходу сдавленным голосом; пронеслись мимо. Днем я шел на лекцию, она встретилась мне на Невском, поздоровались за руку и разошлись. Теория вероятности! «Фаталист». Что это значит?
Час ночи
В одиннадцать часов вышел вместе с Петниковым за папиросами, дошел до Екатерининской улицы и повернул домой. Петников пошел дальше, встретил Лилю Б. Значит, я был от нее на расстоянии нескольких шагов. Петников только что вернулся (он у меня живет) и рассказывает, что Л.Б. в тяжелом состоянии, мечется и вся в истерике; в таком виде он ещё никогда ее не видел (он ее знает давно), ему страшно смотреть на нее, что-то с ней происходит. Ещё раз, что это значит? Почему случилось так, что я это узнаю. Кто толкает меня и ее, что ж это — предопределение?
20 июня
Вчера вечером, случайно, у Школьника был небольшой кутеж. Не потому что развязавшиеся языки много болтали об интригах, отношениях и ценностях, но независимо — от вина зашаталось мое сознание и со всего мира спала чешуя повседневной жизни, оголенный, я почувствовал, как весь я выстроен из кусочков, живых и интересных, но плоских, как световая поверхность калейдоскопа; я вышел и встретил на Невском проститутку, показавшуюся мне почему-то очень красивой, тонкую и томную, мало похожую на всех. Недлинный разговор, ничем не кончившийся, сбил и возмутил меня, и я долго не мог заснуть в пьяной тоске по силе. Знал я все эти мелочи, кружившиеся и легкие, как стили всех эпох и искусств, и потому что я их хорошо знал, хотел с тоской, беспокойством и мукою выйти за них, до глубины, где бы начиналась та, всегда напряженная жизнь, единственная, как сущность, и подлинная, как тождество жизни; хотел, не мог, не понимал, не знал, мелочный, хотя и живой, сложный, правдивый и выломанный. Романтизм, что же это такое? Доколе будет продолжаться это желание того, чего нет, и чего не должно быть, и что путается в исканиях того, что истинно. Первое — здоровая классически-реальная простота. Второе — романтическая мечта по “невозможному женскому лицу” и всему, что в нем и из него исходит. Оба они — желания, и, как желания, они одно, противоречивое, смятенное, беззаконное и единственное одно. Одно неоправдываемое, потому что там, где “романтизм женского лица”, каким бы живым желанием оно ни было, нет искания, во всяком случае, движения; и я вот стою годы перед отъездом, приросший местом к этому проклятому и безбрежно милому лицу. Не говорите и пусть никто не говорит, что “любовница” то же самое, что болтовня. Так долго не болтают там, где нет ничего другого, кроме болтовни. Вырваться через нее и прорваться за поверхности, туда, где только и может начаться жизнь или работа!.. Эта романтическая любовница бьет меня, как стекло, и я дребезги, осколки, битые куски, через которые ломается мир, в который не выйти.
Истеричный день, дергающийся на живых нервах, больной — и, правда, мне же от него в конце концов больно, потому что я — живой человек и настоящий. Жаловаться! Нажаловался! Нет оснований думать, что эти жалобы в то же время — и оправдание. Оправданий нет.
Даже жизнь мне теперь не дорога, да так не дорога, что вместе с нею не дорога и она, эта пропавшая для меня, сладкая женщина. Стоишь и думаешь — пойдет жизнь или не пойдет, будет день, будет любовь или не будет. Как мальчик, жадно так, каждую каплю ловишь; напоить сердце и мысль, утолить усталое нервное, напряженное тело — так хочется. И не можешь. Грусть, мысль горит, тело тянет на кровать, от кровати к дивану, ходить, устать, вышататься; и не найти, умолять в одиночестве; хотеть ее и знать, что никогда больше, что кровать пуста, смята тобою же; ещё раз вынуть фотографию и убедиться ещё раз, что в ней не она и что если бы даже она, так бумажная; запереть, закрыть всё и встать среди комнаты, думая о том, в каком ещё углу искать, и так далее.
А там, в глубине, в душе сознавать, как напечатанное, что и поехать к ней нельзя, что всё равно ничего не выйдет, что это сделано, додумано, кончено, что от всего этого только и осталось гарь сердца и воспоминание тела, которое скоро уляжется, скоро станет обычным, как чайная чашка, забудет, привыкнет утром до отдела, а вечером по музейному парку до постели.
Утро 26 июня
Проснулся с тоской под сердцем, как перед смертью. И опять не знаю, будет жизнь или не будет. Воспоминание о Лиле Б. всё реже и всё бесцветнее; жадно ловишь обрывки перегоревшего чувства; чуть заколышется сердце и опять мертвая зыбь — идет и не идет день; пустовато, холодновато, пошловато.
Вечер того же дня
Все эти чувства — старые чувства. Любить до смерти — это одно только и осталось.
Но даже это „нет“ не имеет своей глубины, потому что “она” — участница дела.
Не объемистый ли мистицизм с “незнакомками” и “бурями жизни” — это все? И да и нет. Как я весь вообще и “да” и “нет”. Поистине, проклятый я... (из письма к Гале).
Сейчас обещанные подробности крепкой спайки любовных треугольников. Звезды Давида не получится: треугольники оба кособокие.
И.С. УНШЛИХТУ
Август 1921 года. Москва
Копия председателю П.Ч.К. Тов. Семенову.
3-го августа арестован в Петрограде Заведующий ИЗО тов. Н.Н. Пунин. Обстоятельства, приведшие к аресту, мне известны не только со слов его жены, но и со слов Вашего, весьма Вами и мною ценимого сотрудника, тов. О.М. Брика. Сам я Н.Н. знаю давно. На советскую службу он поступил сейчас же после революции и всё время чрезвычайно лояльно и плодотворно работал с нами, навлекая ненависть на себя буржуазных художественных кругов. Во время своей деятельности Николай Николаевич всё более сближался с коммунистами и сделался одним из главных проводников коммунизма в художественную петроградскую среду. Ни о каком предательстве с его стороны решительно не может быть речи. Здесь явное и весьма прискорбное недоразумение. Со своей стороны, я прошу В.Ч.К. как можно скорее разобраться в этом деле и лично предлагаю всякое поручительство, как от имени Наркомпроса, так и от моего имени по отношению к тов. Пунину.
Нарком по просвещению А. Луначарский
• Н.Н. Пунин 2 августа 1921 года был арестован, заключен в следственную тюрьму, где просидел до 6 сентября. В течение более чем месячного ареста Пунину не было предъявлено никаких обвинений. На единственном за это время допросе Пунина спрашивали об обстоятельствах прихода „невысокого человека”. Незнакомец просил у Пунина убежища на несколько дней, — Пунин отказал, заподозрив, что имеет дело с провокацией ЧК; позже он окончательно в этом убедился.
• А.Е. Аренс-Пунина сразу после ареста мужа уехала в Москву хлопотать об его освобождении. Она поставила в известность о случившемся А.В. Луначарского и О.М. Брика, с которыми была знакома. Письмо Луначарского И.С. Уншлихту написано, очевидно, по ее просьбе. Возможно, заступничество Луначарского сыграло решающую роль в последовавшем освобождении Пунина. [курсив — прим. ред. к письму Н.Н. Пунина. — В.М.]
• около шестидесяти арестованных по делу “Петроградской боевой организации” были расстреляны, среди них Н.С. Гумилев. Их доставили в Депозит одновременно. Из письма Н.Н. Пунина тестю: “‹...› встретясь здесь с Николаем Степановичем, мы стояли друг перед другом, как шалые, в руках у него была «Илиада», которую от бедняги тут же отобрали”.
• Из письма наркома просвещения председателю ВЧК следует, что за Пунина ручался сотрудник ВЧК тов. О.М. Брик. Возможно, без этого поручительства Николая Николаевича поставили бы к той же стенке, что и Гумилёва, и любовный треугольник №2 не сложился.
• Позже Осип Максимович утверждал, что у него с Анной Евгеньевной был роман. Пунин недоумевал, когда это они успели. Не в августе ли 1921-го.
• Обсуждали супруги Брик положение семьи Пуниных, или Осип Максимович действовал без ведома и согласия жены? В первом случае Лили Уриевна вырастает неимоверно, во втором — Осип Максимович падает ниже плинтуса. Я почему-то думаю, что обсуждали. Я полагаю, что спасали Пунина — его женщины.
Всё, приступ бешенства мой прошёл бесследно.
Я прекращаю бой с тенью Лили Брик.
И за наволочку, и за муки мученические Маяковского — за всё и вся, задним числом и впрок — отомстил ей беспощадный мачо Пунин.
“Ты неплохой станок, детка... Помолчи, дура”.
А она вытащила его год спустя из Депозита. Чтобы ещё через два года Пунин дал самую точную и тонкую оценку Хлебникова:
ДНЕВНИК. 1923 год
1 октября
Получил только что вышедшую книжку стихов Хлебникова.
По отношению к нашему времени классический пушкинский пафос (высокий душевный строй) звучит почти неделикатно (как “дурной вкус”). Жизнь так раскрыта, так обнажена — что пафос этот едва ли не бестактен. У Хлебникова высокий такт — и никакого пафоса.
Если классических поэтов спасал этот высокий строй — он был почти самой поэзией — Хлебникова спасала удивительная, незнакомая нам чистота [разрядка моя. — В.М.]
Только я изгнал одного мерзкого беса мести, как присоседился другой. Очистить душу помогла самая краткая молитва, которая достигает небес: русская пословица. Вот подробности.
„Мелкий [подчёркнуто мной. — В.М.] поэт Самуил Маршак как-то сказал, что не может прочесть зараз более двух страничек Хлебникова. Дескать, поэт великий, но тяжелый. Маршак — недоразвитый идиот, потому что стихи Хлебникова доступны детям. В них как раз детский взгляд на мир. Они лепечут по-детски, говорят строго по-воински. Они просты и трогательно наивны и мудры одновременно. Это с Маршаком что-то не так, с его головой”.
Читайте, деревья, стихи Гезиода. Читайте, дубины, пословицы Даля. Мелка река, да круты берега.
Совсем не мелочь было доброе слово о Хлебникове в годы гонений. Я просил В.А. Каверина (1902–1989) хотя бы покряхтеть да головой покивать для пользы дела. Его ответ хранится в астраханском Музее Велимира Хлебникова, копия письма по оплошности не оставлена, привожу по памяти: “Гораздо более меня волнует пренебрежение к памяти Юрия Николаевича Тынянова”.
А Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) как-то сказал вот что.
 Дорогие товарищи,
Дорогие товарищи,Я очень жалею, что по нездоровью не могу быть сегодня у вас на вечере, посвящённом памяти поэта Велимира Хлебникова.
О ём редко вспоминали критики и литературоведы за последние три десятка лет.
Почему же его так усердно замалчивали? Не был ли он нам политически чужд и враждебен?
Нет, мы знаем, что Хлебников предчувствовал и предсказывал революцию задолго до её наступления и был одним из первых поэтов, приветствовавших её приход. В годы революции были написаны его лучшие стихи и поэмы.
С глубоким уважением и благодарностью говорил о нём Владимир Маяковский.
Но, может быть, ему ставят в вину чрезмерную сложность, необычность и непонятность его стихов?
Но ведь очень многие обвиняли (да и до сих пор обвиняют) в тех же грехах, то есть в сложности, непонятности, необычности, и Владимира Маяковского.
Да, Хлебников сложен и часто непонятен. Есть у него стихи, для которых нужен ключ — знание того, когда и при каких обстоятельствах стихи были написаны.
Но бóльшая часть его стихов становится вполне понятна, если в них пристально вглядишься, вслушаешься, вдумаешься.
А есть у него и совсем простые и ясные стихи, как например:
Мне мало надо —
Краюшка хлеба
И капля молока,
Да это небо,
Да эти облака. Или, скажем, стихи о Кавказе или о букве ‘Л’.
А сложной его форма бывает часто оттого, что сложно содержание.
Вы знаете, конечно, что я люблю в стихах предельную ясность.
Но это ничуть не мешает мне ценить Хлебникова, поэта большой силы, глубоко чувствующего слово, владеющего необыкновенной меткостью и точностью изображения (вспомните его «Сад»).
Конечно, к Хлебникову, как и ко всем поэтам, надо подходить критически. На некоторых его стихах лежит печать временных и случайных влияний, характерных для тех лет, когда они были написаны.
Иной раз усложнённость формы была у него протестом против трафаретных, гладких, прилизанных и бедных мыслью стихов, про которые можно было сказать то же, что говорил художник Татлин по поводу многих столь же трафаретных и поверхностных рисунков:
— Одна только пленка, а существа никакого нет!
Надо уметь отличать Хлебникова, поэта глубокого и серьёзного, от тех его современников, которые превращали высоко организованную человеческую речь в набор нечленораздельных звуков или в язык дикаря. Хлебников не из их числа. У него — своя система мысли и слова, сложная и своеобразная.
Я много слышал о юных годах Хлебникова от его профессоров и товарищей по Казанскому университету. Они рассказывали, что ещё в студенческом возрасте Хлебников был полон достоинства и вызывал к себе всеобщее уважение. Профессора находили у него замечательные математические способности.
А по рассказам близко знавших его людей можно заключить, что это был человек редкой душевной чистоты, бескорыстия, серьезности.
Да всё это видно и по его стихам.
Москва, 19–IV–1961 г.
Безумие
Ешь солому, а форс не теряй
Русская пословица
I. Ван Гог
Могучая кисть Эдуарда Вениаминовича — говорю без подвоха, с величайшим уважением — оставила два наброска, плоть и кровь которым дадут его подмастерья. Так работали Рубенс и Ван Дейк. Дабы не навлечь на себя подозрения в праздной болтовне, первым одеваю фартук белый. Стану мальчиком (не путать с эфебом) Кисой у Остапа Бендера. «Сеятеля» заказывали?

В юности, пока не прилипла глазная хворь, я дышал живописью. «Дневник» Эжена Делакруа и «Письма» Винсента Ван Гога приобрести было невозможно, пришлось делать из них выписки. «Ноа-Ноа» (письма и литературные опыты Поля Гогена) у меня есть полностью.
Пока я не порезал всю свою мазню, «Ван Гог в Сен-Реми» пугал моих близких. Это была попытка изобразить видéние великого голландца, коим он стал подвержен в последний год жизни:
“Мне страшно, что у меня ‹...› бывают такие же приступы, как у суеверных людей, приступы, сопровождающиеся болезненными и религиозными видениями, никогда не возникавшими у меня на севере.”
Клубилась и воспаряла разнообразная нежить, а сам Ван Гог в больничном балахоне, понурив голову с рыжим ёжиком, стоял у снежно-белого холста. Нежить мешала ему сделать первый, спасительный мазок: “
А ведь мой прискорбный недуг вынуждает меня работать с глухим неистовством — очень медленно, но зато с утра до вечера — в этом, пожалуй, весь секрет успеха.”
Владимир Владимирович Маяковский всегда стоял за книжным шкафом, поэтому никого не пугал. Громадная, по меркам комнатёшки — Ивáновская — картина созидалась лет пять. Велимир Хлебников наблюдал за происходящим из правого нижнего угла. Раскладушка-Маяковский в широкополой шляпе сицилийской мафии, с подошвой левого башмака на уровне лица; безногий обрубок на тележке у тумбы с афишей «А вы могли бы?», сидящий с ним бок о бок слепец в чёрных очках; два верблюда, на них волхвы, ещё не въехавшие в кадр; люди в масках (свинья в клоунском колпачке, шимпанзе с моноклем, средневековый лекарь-шарлатан с противочумным клювом); рдяная от голодных взглядов нагая Непорочная Красота с волной золотых волос до земли; похоронная процессия с выпадаюшим из рук пьяных носильщиков гробом ребёнка; паяц-кларнетист и человек-в-облачении-Смерти с барабаном; много любопытного зритель мог бы подсмотреть в ближних окнах домов и т.п.
Вы уже догадались, что резать и жечь я начал именно с этого, главного труда своей жизни. Чтобы сбылось пророчество: Он резал и жёг, / А я — слова божок.
Выброшены великолепные щетинные кисти, спрятана от греха подальше пудовая коробка с драгоценными тюбиками — и я повторил, как оказалось, подвиг подростка Савенко: переписал от руки пятитомник Велимира Хлебникова. Не всё без разбора. Образцовые куски.
Эдуард Вениаминович поверил байке про ухо и девочку-дешёвку из «Жажды жизни» Ирвинга Стоуна. Ну и что. Зато навёл на копи царя Соломона искателей приучений. Диссер «Хлебников и Ван Гог» я бы с удовольствием на сайте вывесил, с био- и библиографией любого объёма.
Пока искатели собираются в путь-дорогу, я достану свои старинные выписки, да и запирую на просторе, то бишь на пароходе современности, в мальчиках-подручных у Эдуарда Вениаминовича.
женщина
• Я испытавал бы больше чувства и предпочёл бы иметь дело с женщиной уродливой, старой или нищей, словом, несчастной в любом отношении, но обретшей душу и разум в жизненных испытаниях и горестях.
• Живопись и распутство несовместимы, вот это-то и паскудно.
пророчество
• Мы живём в последней четверти века, который, как и предыдущий, завершится грандиозной революцией.
вычисления
• Произведением двух отрицательных величин является величина положительная.
• А ведь я столько внимания уделяю расчётам! Сегодня, например, я обнаружил, что точно расчитал, какое количество разных красок, за исключением основной — жёлтой, уйдёт у меня на 10 м2 холста, Все мои краски приходят к концу одновременно. Разве это не доказывает, что я чувствую соотношения цветов не хуже, чем лунатик пространство?
Запад
• Ах, этот мерзкий белый — когда уж он сгинет! — со своей бутылью спирта, кошельком и сифилисом, этот мерзкий белый со своим лицемерием, алчностью и бесплодием! А дикари были такие милые и влюблённые!
архаисты и новаторы
• Когда-то абстракция казалась мне соблазнительной дорогой. Но эта дорога — заколдованная, милый мой: она сразу же упирается в стену.
• Людям придётся признать, что многое из того нового, что поначалу казалось шагом вперёд, стоит на самом деле меньше, чем старое, и что, следовательно, возникает нужда в сильных людях, которые вновь могли бы привести всё в равновесие.
• Боюсь, Тео, что многие из тех, кто жертвует старым ради нового, особенно в области искусства, в конце концов горько пожалеют об этом.
• Почему мы, в отличие от врачей и механиков, не храним то, что имеем? Медицина и техника дрожат над каждым сделанным в них открытием или изобретением, а вот мы в нашем поганом искусстве ничего не бережём и всё забываем.
бедность
• Кто избрал своим уделом бедность и любит её, тот владеет безмерным сокровищем и никогда не станет глух к голосу совести; этот внутренний голос — лучший дар Господа: кто слышит его и повинуется ему, тот, в конце концов, обретает в нём друга и никогда не бывает одинок.
• Говорю прямо: постепенно меня охватывает страх, что я так никогда и не приду к цели. Здоровья у меня хватило бы, если бы мне не пришлось так долго голодать: всякий раз, когда вставал вопрос — голодать или меньше работать, я по возможности выбирал первое, пока окончательно не ослаб.
• В конце концов, человек живёт на свете не ради удовольствия, и вовсе не обязательно, чтобы тебе было лучше, чем другим. Что толку быть немного более состоятельным, чем наши ближние, если мы всё равно не можем удержать свою молодость?
• Подумать только, сколько людей живёт, не имея ни малейшего представления о том, что такое горести, и пребывают в убеждении, что всё оборачивается к лучшему, как будто вокруг них никто не подыхает с голоду и не идёт ко дну!
одиночество
• Чтобы продолжать работу, нужно хладнокровно держать одну руку на руле, а другой отталкивать окружающих, чтобы не причинить им вреда.
• Когда я слышу разговоры о всеобщем признании заслуг того-то и того-то, в моей памяти неизменно оживают простые, спокойные, слегка угрюмые образы тех, у кого почти не было друзей, и в своей простоте они кажутся ещё более великими и трагичными.
работа
• Тому, кто хочет надолго остаться в искусстве, надлежит работать так же много и без всяких претензий, как работает крестьянин.
• Птицы перестали бы петь, а художники писать, если бы они постоянно спрашивали себя, не слишком ли они усердствуют.
• Итак, работа — вот моя цель; а когда человек сосредотачивается на одной мысли, все его дела упрощаются, и хаос уступает место единому и неуклонному стремлению.
• Искусство ревниво, оно требует от нас всех сил; когда же ты посвящаешь их ему, на тебя смотрят, как на непрактичного простака и ещё чёрт знает как на что.
мастерство
• Постараемся овладеть тайнами мастерства до такой степени, чтобы люди были обмануты им и клялись всеми святыми, что у нас нет никакого мастерства. Пусть работа наша будет такой учёной, чтобы она казалась наивной и не отдавала нарочитой искусностью.
• По-моему, лучше соскоблить неудачное место ножом и начать всё с начала, чем делать слишком много поправок.
безумие
• Мы все — лишь звенья в одной цепи. Мы с нашим добрым Гогеном в глубине души сознаём это. Если же мы немного помешаны — пусть: мы ведь вместе с тем достаточно художники, для того чтобы суметь рассеять языком нашей кисти все тревоги насчёт состояния нашего рассудка. Кроме того, скоро у всех людей будет нервное расстройство, кошмары, пляска св. Витта или что-нибудь в этом же роде. Но разве не существует противоядие, не существуют Делакруа, Берлиоз и Вагнер? Не скажу, что мы, художники, душевно здоровы, в особенности не скажу этого о себе — я-то пропитан безумием до мозга костей; но и говорю и утверждаю, что мы располагаем такими противоядиями и лекарствами, которые, если мы проявим хоть немного доброй воли, окажутся гораздо сильнее недуга.
• Иногда меня просто распирает от восторга, или безумия, или пророческих предчувствий, как греческую пифию на её треножнике. В таких случаях я становлюсь необыкновенно разговорчив и болтлив, как арлезианки, но при этом испытываю большую слабость.
религия
• Работа моя над трудным материалом идёт мне на пользу. Тем не менее, временами я испытываю потребность — как бы это сказать — в религии. Тогда я выхожу ночью писать звёзды.
“Краденые семена лучше рóдятся,” — утверждают цыгане-земледельцы. Вот наш «Сеятель». На добрую память. Созвучния и перекличку с Велимиром Хлебниковым отыщет любой желающий. Это вам не годы замалчивания, решительно осужденные С.Я. Маршаком в его речи 1961 года. А вот письма Ван Гога до сих пор не у каждого (в Сети они есть полностью, все 874, in English)
И последнее. Об удивительной, незнакомой нам чистоте. Что-то я не припомню у Ван Гога обнажённой натуры. Об этом стоит поразмыслить.
II. Пушкин
Набросок Эдуарда Вениаминовича «Основная трагедия Велимира Хлебникова: его соревнование с Пушкиным» в умелых руках тянет на отдельный сайт. О лавине диссеров и говорить не стоит. Сайт www.ka2.ru каблуками соискателей превратится в пустыню. Или в плац. Лучше не проверять.


Эти два изображения — с Главной страницы сайта www.ka3.ru. Главное — Главная, встречать будут по одёжке. А провожать?
Как известно, присяжные толмачи изящной словесности в большинстве своём профессионально непригодны. У них напрочь отсутствует
чувство слова.
Хотите проверить себя прямо сейчас?
Да вы уже прошли тестирование, сами того не заметив. Когда? Слово ‘соревнование’ — тест.
Проф.непригодный ощутил напор ветра на беговой дорожке. Учуял кислый пот ринга или татами, а то и сероводород помоста для поднятия тяжестей. Проф.непригодный спорт на TV смотрит, и в этом его погибель. А Настоящий Филолог, разбуди его ночью, растолкай после наркоза — немедленно растолкует, чем Состязание-Соперничество отличается от Соревнования-Сотрудничества.
Это понятия-антиподы, скажет вам Настоящий Филолог.
И добавит: надо писать
соревнование Пушкину , а не
соревнование с Пушкиным.
А я не присяжный толмач, я спорщик. Буду настаивать, что Эдуард Вениаминович прав: именно с Пушкиным. Потому что совместное с Пушкиным рвение в отечественной словесности, а не совместное со товарищи рвение подле Пушкина, сбрасывание с парохода включительно.
Соревнование Пушкина и Хлебникова — совместное рвение единого ради — можно так? Нýжно так.
О священном безумии обоих уже сказано у В.Ф. Маркова. Не будем изобретать велосипед:

Есть тенденция заранее “дисквалифицировать” его как сумасшедшего («Воспоминания» Бунина, «Петербургские зимы» Г. Иванова). Сумасшедшим Хлебников не был, а был безумцем (большая разница) — как Блейк, Гельдерлин, Ницше, Ван Гог и др. Безумие давало великие образцы искусства и величайшие прозрения. Это всем известно, и было бы смешно это напоминать, если бы об этом не забывали каждый раз, когда речь шла о Хлебникове. Любители “нормального” любят забывать, что Пушкин (их заветный козырь) пел безумие. В стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума» поэт говорит не о боязни безумия („Не то, чтоб разумом моим я дорожил...“), напротив: он приветствует приход этого состояния, видит в нем наивысшее проявление силы и свободы. Боится же он только отношения людей к этому безумию.
Владимир Марков. О Хлебникове (попытка апологии и сопротивления)
Напрасно Пушкин боится, скажет вам любой христианский богослов. Ибо: Блажéнни естé, егдá понóсят вам, и ижденýт, и рекýт всяк зол глагол на вы лжýще Мене ради.
Хлебников — Пушкин — Ван Гог.
Одну, хотя бы одну точку пересечения (см. чертёж крышки гробовины)...
Все давным-давно знают, что Хлебников считал своей лучшей вещью т.н. «Поэта» («Карнавал», «Русалка», «Русалка и поэт»).
Лучшая моя вещь «Русалка» написана 16, 17, 19 окт. 1919 года. 365 строчек.
Второй раз имел мужество прочитать 3 марта 1921 года.
Имел мужество прочитать = полностью переделал. Лучшую вещь.


Хлебников написал «Русалку» в Сабурке для доктора Анфимова. Ван Гог в лечебнице писал доктора Гаше. Как товарища по несчастью, который ещё находит в себе силы притворяться.
Изображение справа гораздо реже воспроизводится, не так ли.
Слева — настоящее, справа — будущее доктора. Изменится цвет радужки.
Это МДП, кто понимает.
«Поэт» вроде бы доказательство, что
я могу не хуже Пушкина (так упёртый беспредметник Соломон Никритин однажды ко всеобщему изумлению выставил внятную живопись, а рядышком приколол пояснение:
видите, могу):
Как осень изменяет сад,
Даёт багрец, цвет синей меди,
И самоцветный водопад
Снегов предшествует победе,
И жаром самой яркой грёзы
Стволы окрашены берёзы,
И с летней зеленью проститься
Летит зимы глашатай — птица,
Где тонкой шалью золотой
Одет откос холмов крутой
И только призрачны и наги
Равнины белые овраги,
Да голубая тишина
Просила слова вещуна ‹...›
Режьте меня, жгите меня, — это никакой не Пушкин, а Винсент Ван Гог в чистом виде.
Его т.н. светлый период.
Брюлловской гладкописи у Хлебникова, даже без его любимых перебоев ритма, тут нет и в помине.
Уже со второй строки цвет синей меди застревает в башке, как дротик римского легионера.
Задним умом сообразишь: ярко-синий цвет — у медного купороса.
Наш современник, имя ему легион, счёл бы сие находкой: берёз / купорос.
Нос бы задрал. Запьянствовал от счастья. Бедные жёны современников.
Вернитесь, будьте так добры, к началу главки «Безумие». Узнаёте цвет синей меди?
Это не медь, а хром или кобальт.
Тоже запрещённые западные слова, хотя таблица — искони наша, Дмитрия Ивановича Менделеева.
Остаётся думать и писать цвет синей меди. Иного не дано: ‘медь’ — общеславянское, точных соответствий в других индо-европейских языках не имеющее. Едва ли оно родственно ирландскому mein — ‘металл, медь’.
Безмолвие
Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо.
И я понял, что от рождения нем.
Бенедикт Лившиц
Безмолвие по-гречески исихазм. Длительное, годами, молчание у монашествующих — великий подвиг. Только внутренняя молитва. Одна лишь внутренняя молитва.
Чтобы молиться, надо знать священные сочетания слов наизусть. Это вменяется в обязанность военнослужащим США. Вот для чего. Парашютирование. Приземление в незнакомой местности, где-нибудь в сибирской тайге. Параграф первый. Найди пенёк, сядь. Параграф второй. Произнести про себя все молитвы, какие знаешь. Параграф третий. А теперь вставай, иди учить аборигенов демократии.
У них психологи не лаптем щи хлебают. Так выходцы из СССР же поголовно.
Есть сайт Виталия Лозовского www.tyurem.net «Всё о жизни в тюрьме». Все способы выживания.
У Лимонова даже в тюряге свой устав:
Книга написана в тюрьме в первые дни пребывания в следственном изоляторе Лефортово, я, помню, ходил по камере часами и повторял себе, дабы укрепить свой дух, имена Великих узников: Достоевский, Сад, Жан Жене, Сервантес, Достоевский, Сад… Звучали эти мои заклинания молитвой, так я повторял ежедневно, а по прошествии нескольких дней стал писать эту книгу.
Дэ Сэ Жэ-Жэ, Сэ Дэ Сэ / Дэ Сэ Жэ-Жэ, Сэ Дэ Сэ?
Позволю себе усомниться. Полистайте web-book «Священные монстры». Там стихи по памяти: Эдгар По, Аполлинер, Бодлер, Хлебников, Гумилёв, Блок.
Гумилёв, Блок и Хлебников — обильно, примерно поровну.
Бодлер — четыре строчки, Эдгар По — две. Аполлинер — косяком, это собственные переводы, поэтому не показатель.
От сумы и тюрьмы (тяжёлая болезнь или, упаси Боже, слепота — та же тюрьма) нельзя зарекаться.
Чтобы выжить, надо знать наизусть стихи на родном языке.
Авангардистов запомнить невозможно (“заумный” Хлебников — исключение, подтверждающее правило: я знаю его «Ангелов» наизусть), потому что „Поэзия ставит преграды / Нашим выдумкам, ибо она / Не для тех, кто, играя в шарады, / Надевает колпак колдуна“. Николай Алексеевич Заболоцкий, 1903–1958. 2 сентября 1938 г. был приговорен к 5 годам ИТЛ; освобожден в 1946 г. Простим Вениамину Александровичу Каверину его отказ возвысить голос в защиту Велимира Хлебникова, затоптанного в года глухие. — Каверин приютил бездомного после лагеря Заболоцкого.
А Бенедикт Константинович Лившиц (1886–1938) из ГУЛАГа не вернулся. 20.09.38 г. он был расстрелян как враг народа.
———————————————
Замечания А. Очеретянского

• Александр Жолковский
Графоманство как приём (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие)
В грамотно и добротно построенной статье (сужу по приведенным источникам), нет ни слова об Иване Игнатьеве, Василиске Гнедове, Александре Туфанове, Алексее Николаевиче Чичерине, которых, применительно к данной теме, никак нельзя отнести в разряд: другие.
Можно даже так выразиться: в красочной, яркой, неординарно представленной картине отсутствие нескольких характерных мазков не дают проявиться ей во всей полноте и значимости, тем более в материале, поданом на научной основе.
Здесь же, по ходу дела, такая деталь: в цитируемом А. Жолковским высказывании Н.С. Трубецкого „если бы Пушкин прочел Хлебникова, он просто не счел его поэтом ‹...› не нашел бы у ‹...› Хлебникова даже состава поэзии“. В комментариях у Владимира Сергеевича Молотилова по другому поводу, но вполне даже к месту: „мелка река, да круты берега“ — применительно к А.С. Пушкину — и река не мелка и берега круты — вряд ли кто спорить станет с таким утверждением — почему бы не допустить, не представить, не быть уверенным, наконец, что „если бы Пушкин прочел Хлебникова“, он бы не только нашел у него „состав поэзии“, но и более того, увидел в нем провозвестника будущего, некую поистине громадную величину, себя никак не ниже. Откуда такая сытая уверенность? То, что Пушкин был человеком своего времени, как и каждый из нас, грешных, ни в коей мере не умаляет возможностей его провидческого дара. В той же степени, в какой смог оценить он «Слово о полку Игореве», смог бы оценить и Хлебникова. Так я думаю. Мог же, к примеру, Блок, неимоверно далекий от футуристических установок, записать: „Подозреваю, что значителен Хлебников“ (см. его «Записные книжки»).
Впрочем, на тему о т.н. противостоянии “Пушкин — Хлебников” продолжение следует — см. ниже.
• Эдуард Лимонов
Велемир Хлебников: святой
Эдуард Вениаминович Лимонов — человек безусловно талантливый. Непонятно только, почему талантливому человеку надо записываться в фашисты (см. его последнюю книгу стихов (М, 2005), где он прямо себя причисляет к оным). Или лавры Эзры Паунда покоя не дают? Высказывается сожаление, поскольку кроме всего прочего, писания сего человеконенавистника, хочется нам того или нет, накладывают отпечаток на его размышления о первом пред.зем.шара, который фашистом не был, не мог быть ни при каких условиях (не думаю, что имеет смысл распространяться на сей счет) и не только потому, что в те времена фашисты ещё не называли себя “фашистами”, хотя были они всегда — чем, скажем, инвизиторы отличаются от фашистов? — разве только одним названием.
Вступление, крайне необходимое, на мой взгляд, поскольку не густо отнюдь на планете нашей таких преданных почитателей и современных исследователей Хлебникова, к каковым можно причислить Эдуарда Лимонова.
И дальше, по теме: будучи согласен с Лимоновым в том, что единственным достойным соперником Хлебникова мог быть и был Пушкин, не в плане полемического заострения, что мне попросту неинтересно, считаю нонсенсом заявление Лимонова о том, что „он (Хлебников) намного крупнее и больше Пушкина, заявленного гением поэзии 19 века“ . Такое соперничество — не может быть ни противоборством, ни противостоянием в общекультурном смысле, оно возможно исключительно в творческом плане, поскольку вообще зашла речь о соперничестве. Ученик всегда перебарывает своего учителя, в том случае, когда они достойны друг друга. В противном случае — не о чем говорить, смысла нет кашу заваривать. Здесь же к слову о соперничестве, как я это себе представляю: не состязание — соперничество, так как это прочитывается у Лимонова, не соревнование — сотрудничество, как сие трактуется Молотиловым (см. комментарии), а продолжение-углубление-развитие — являются для меня ключевыми словами применительно к настоящему положению вещей. Хлебников — не наше все. Пушкин — не наше все.
В Хлебникове — много от Пушкина, не только от Пушкина. Не было бы Пушкина — не было бы Хлебникова. Аксиома. Разговор на пальцах. Странно, что приходится напоминать азбучные истины.
Более того, я считаю, что Хлебников — реинкарнация Пушкина со всеми вытекающими отсюда выводами и положениями. Гений ХХI века (гений рождается раз в столетие — мнение расхожее, по-видимому, имеющее под собой достаточно веское основание) возьмет и впитает как Хлебникова и высокоталантливых поэтов хлебниковского времени (так у Лимонова), так и Пушкина и высокоталантливых поэтов пушкинского времени. Не все мотивы Маяковского иже можно найти у Хлебникова, не все мотивы Боратынского иже можно найти у Пушкина («Что за прелесть, эта Леда») (см. письма Пушкина). Культура (литература — в данном случае) — не Хлебников и Пушкин — высокочтимые и ценимые мной, но Пушкин и Хлебников — в первую очередь.
И дальше: к вопросу „азиатской ориентации Хлебникова“ — в противовес прозападной ориентации Пушкина. Байрона Хлебников знал не хуже Пушкина. Можно было бы показать сие на примерах, но нет, категорически нет ни времени, ни источников под руками, а потому прошу поверить мне на слово.
Не к противостоянию-противоборству-уничтожению друг друга — никуда в итоге не денутся Запад и Восток, так ли иначе придется прийти им к конструктивному диалогу. В противном случае — человечество ждет катастрофа в глобальном масштабе, пред которой таянье льдов — мелочь несущественная. Уверен, Хлебников понимал что к чему не хуже пищушего эти строки. Вопрос: отдает ли себе отчет в этом Лимонов, остается открытым.
Можно было бы ещё долго продолжать говорить на эту живо-и-трепещущую тему, но достаточно.
В заключение, „Хлебников — целая литература“.
Точно так же можно сказать о Пушкине.
При том, что Литература — все-таки одна.
Была. Есть. Будет.
———————————————
Замечания Э.В. Лимонова
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПО ПОВОДУ ХЛЕБНИКОВА
1
История жизни Хлебникова и судьба его творчества могут служить грустными наглядными пособиями в изучении механизма признания. Оказывается, слишком яркий и многообразный талант мешает признанию. При жизни Хлебникова поэтический гений его, солнечно-яркий, был заслонен куда более тусклыми, но предприимчивыми поэтическими светилами. Но почему и сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет после смерти, Хлебникову не предоставлено единственно подходящее ему место на поэтическом Олимпе, а именно — рядом с Пушкиным? Так же, как Пушкин был единственным нашим поэтическим гением 19-го века, Хлебников — наш единственный поэтический гений века 20-го. Казалось бы, это так очевидно, стоит прочесть все пять томов собрания сочинений Хлебникова под редакцией проф. Степанова, и ясно... Увы, дела обстоят не так просто...
Кажется, Илья Эренбург, уверяя в своей любви к Хлебникову, высказался однажды, что не может прочесть зараз больше двух страниц его стихов (если это сказал не Эренбург, но Самуил Маршак, сути дела не меняет). Ревнивый Маяковский реагировал на проект публикации Собрания Сочинений бывшего друга и учителя знаменитым циничным лозунгом „Бумагу — живым!“ Хлебникова называли поэтом для поэтов. Советский профессор (сволочь какая!) Палиевский однажды осквернил память поэта обвинением в том, что тот, дескать, подламывался под гения. Путая его с Крученых, должно быть, Хлебникова называли и продолжают считать автором “заумных” произведений. Советская власть переиздает Председателя Земного Шара мало и неохотно. На Западе Хлебникова, как известно, приветствовавшего революцию, не жалуют ни эмигрантские кастраты, ни сиайэевские специалисты по русской литературе, предпочитающие неравных ему, но “репрессированных” Мандельштама и Пастернака.
Если поведение кастратов и штатных литературоведов СиАйЭй понятно, то позиция, занятая советскими литературными властями по отношению к автору поэм «Настоящее», «Ночь перед Советами», «Прачка», «Уструг Разина», «Ладомир» (в которых встречаются строки вроде Он, красавец, длинный нож, / В сердце барина хорош!), приветствовавшего революцию строчками Да будет народ государем / Всегда, навсегда, здесь и там!, с первого взгляда представляется загадочной. Однако, всё сразу становится на свои места, если мы вспомним, что уже шестьдесят лет не гуляют по улицам Питера и Москвы герои революции в красных галифе с серебряными именными шашками и с маузерами, а степенно несут свои багровые жиры председатели Комитетов, и партийные чиновники, новые баре, боящиеся красавца длинного ножа и мечтающие об очередной поездке в “заграницы”, которые они все втайне обожают. Порой один из них, набравшись храбрости, в одежде сестры милосердия или в другом маскарадном костюме, подобно презираемой некогда Хлебниковым Александре Федоровне Керенской, бежит из римского или лондонского отеля, в посольство страны Толстяков, чтобы впоследствии храбро лаять на бывшую Родину из-за колючей проволокой охраняемого Мюнхенского или другого отделения «Радио Свобода». Для таких Председатель Земного Шара — сумасшедший бродяга. А наша бывшая Родина спит и видит — стать новой Америкой, и американская мечта жирным котлетным чадом висит в советских небесах. Только они хотят заработать свои роллс-ройсы и уродливые домики коллективным трудом. Потому-то Велимира, разделившего всё человечество на изобретателей и приобретателей, не жалуют в стране, отчаянно старающейся стать страной приобретателей.
2
За Хлебникова я бы многих перекосил из пулемета. Помню в 1966 году сидел на Бурсацком спуске в Харькове, в пыльной траве, наблюдал, как из Библиотечного института (из бывшей бурсы Помяловского) выходили очкастые, хроменькие, горбатенькие библиотечные студенты, и отчаянно, со слезами на глазах, ругался матом. Там, на этом длинном косогоре, написал Велимир поэму «Ладомир». Хоть бы, суки ‹...›, табличку на палке в землю воткнули!3
Разумеется, есть поэты маленькие и большие. Ахматова, к примеру, — маленький поэт. Прав был Жданов, точно охарактеризовав ее творчество как „поэзию истеричной дамочки, разрывающейся между будуаром и часовней“. Пастернак — поэт, скорее, чуть меньше среднего размера. Мандельштам — покрупнее Пастернака, но всем им место в другой коллекции. (Маяковскому, причесавшему могучий футуризм учителя, сделавшему его светским и советским, — тоже, к сожалению. Ибо „Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер!“ — сказано великолепно.) Хлебникову же место в одной коллекции с Уитменом, Байроном, Аполлинером, Шекспиром и Пушкиным.
Велимир прекрасно понимал, кто он такой. Он понимал, что его единственный соперник в русской поэзии — Пушкин. Он говорит об этом в стихотворении, начинающемся строчками И пока над Царским Селом / Лилось пенье и слезы Ахматовой... Говорит ясно и мощно. Помните?
‹...› И вот я снял курчавое чело,
Которому молились раньше толпы,
С могучих мяс и кости ‹...›
Стихотворение написано незадолго до смерти, и Велимир знал уже, что ему удалось снять бычью голову с Минотавра Пушкина. 4
Снял и стоит, держа голову Минотавра, Хлебников. Но где же аплодисменты нашему тореро? Молчание. И тут-то вырывается признание-стон:
И с ужасом я понял,
Что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти ...
Очи не высеяны и по сей день. Видим немногим диким очам, взошедшим здесь и там от занесенных Бог весть каким ветром семян, есть Хлебников.5
Читатель, менее свободный брат мой! У тебя, участвующего в ежедневном кругообращении труда и капитала, нет времени на выбор поэта. И посему когда на смену многолетнему Маяковскому молва принесла тебе имена поэтов в болотных сапогах строителей или в коротких красных штанишках студенческих вундеркиндов (Евтушенко, Вознесенский и их поколение), ты с восторгом цитировал новых “гениев” своим подружкам. Когда же культурным довеском к инакомыслию (уютно устроившемуся в советском времени вне досягаемости И.В. Сталина) сделалось модным обязательное почитание в той или иной степени репрессированных — Пастернака, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, и обязательное топтание предыдущих кумиров, ты послушно пил вино на могиле Пастернака и бросал чепчики во славу реабилитированных. (Не забывая при этом ворчать, что Маяковский, мол, хорош был до 18-го года...) Теперь, когда стало тихо, слава Богу, и навязывают тебе только одного многотрудного Бродского, возьми карту нашей великой Родины и погляди вправо, — за Волгу, за Каспий и за Арал-море, погляди в Азию, читатель. Огромная Азия, в сравнении с европейской частью великой Родины, почти свободная от мушиного помета цивилизации — от точек городов, желтая Азия простирается в первозданном ещё покое так далеко, что устанет самый ненасытный бродяга даже в самолете. Хлебников — азиатский поэт, и поэт Азии — читатель. И он больше других поэтов наших (а они все поэты европейского склада и типа) настолько же, насколько наша Азия больше нашей русской Европы. 6
Россия всегда стеснялась Азии. Ей очень хотелось быть европейской дамой, и она предпочитала лучше подражать в манерах захолустным немецким княжествам, чем рабыне, но с родинкой царей на смуглой груди (Хлебников). Не только Россия пыталась перенять образ мыслей и идеи Европы (и упрямая, в конце концов, выскочка преуспела в этом, — сделала революцию по самым сверхсовременным европейским рецептам), но и училась, незванная, у Европы искусствам. Первые русские поэты (пиит Тредьяковский, к примеру) недалеко ушли ещё от просто переводчиков западных образцов. Хуже того, Петр и потом Екатерина, палкой вогнали в русские тела европейскую душу. Пушкин, Великий, да Пушкин, несмотря на прославленную африканскую пылкость, был европейским поэтом, пишущим по-русски, и татары, цыгане и турки допускались им в стихи лишь на правах персонажей экзотических, опять-таки по примеру старшего товарища Байрона. Настоящими же его героями были как денди лондонский одетый Женя Онегин (которого в современном Ленинграде непременно звали бы Юджин) и ему подобные “прогрессисты” вроде картежника Германа. В мстительной зависти рифмуя Европу с жопой, Пушкин, однако, был (используя терминологию школьных хрестоматий моего времени) — певцом и выразителем дум и чаяний городской золотой молодежи, поклоняющейся иностранцам (читай “европейцам”). Недаром же они все, как сегодняшние московские или ленинградские снобы, говорили между собой на плохом французском и иногда — английском. Если над ухом скажут „Пушкин!“ тотчас представляешь себе покосившиеся усадьбы, построенные в стиле а’ля Версаль или (если денег меньше) а’ля маленький Трианон, французские книги, барышни в нарядах, выписанных из Лондона и Парижа, шампанское «Вдова Клико», щеголи-вольнодумцы декабристы. Даже в кошмарном сне пушкиноведу невозможно представить предмет исследования в виде пыльного бродяги в лохмотьях, присевшего на корточки у обочины дороги из Шахсевара. 7
Присевший у края дороги — Хлебников. Вот в точности, как он выглядел: „Оставшись без сюртука, без шапки, без сапог, в мешковатой рубахе и таких же штанах, одетых на голое тело, он имел вид оборванца-бедняка. Однако длинные волосы, одухотворенность лица и облик человека не от мира сего привели к тому, что персы дали ему кличку дервиш ”.
Его всегда тянуло к Азии, в Азию. О Азия, тобой себя я мучу! Если над ухом шепнут „Хлебников!“, что представим себе? Степи, мутные реки, богов и героев Азии. Чингизхан и Великий Могол, Ауренг-зипп, Будда, и основатель сикхской религии Нанак, Заратустра и Саваджи, Маха-вира, японский художник Хокусаи, богиня Кали, китайское божество Шан-ди и полинезийское божество Маа-Эма, — и ещё тысячи азиатских имен населяют поэмы, стихотворения и прозу Хлебникова. Он и родился в Астраханской области, в тех местах был в 13-м веке город кипчакской Золотой Орды — Хаджи-Тархан.
Европейски ориентированная, по-европейски дрессированная русская и теперь советская интеллигенция подсознательно отвергает Хлебникова как явление чуждое. За свою азиатскость великий эпический поэт поплатился непопулярностью. До сих пор не преодолевшая своего комплекса перед Европой нация пренебрегает гигантом, поэтом, являющимся (для сравнения), например, крупнее и многообразнее Уитмена.
Хлебников — наше национальное сокровище. Он не только гений по масштабам своего дарования, не только редчайший в двадцатом веке эпический поэт, но и единственный истинно русский поэт, не только пишущий, но и думающий по-русски. Вместе с Константином Леонтьевым и Василием Розановым — Велимир Хлебников являет собой пример оригинального русского гения, не зависимого от Запада и обращенного лицом к Востоку, к Азии — прародине более древних и глубоких цивилизаций.
День литературы» №7, июль 2003.
———————————————
 Господа,
Господа,
Спасибо за рекламу.
Ваш AZ
Tue, 10 May 2005 22:54:14 Приятно получать стремительный вежливый ответ.
Будем взаимно вежливы: вот жизнеописание Александра Константиновича Жолковского (http://www.usc.edu/dept/las/sll/rus/avtob.htm)
Я родился и жил в Москве (1937–1941). Был с родителями в эвакуации в Свердловске, ныне Екатеринбург (1941–1943). Потом до эмиграции (1979) жил в Москве. Учился в московской средней школе №50 (1944–1954). Пройдя, как золотой медалист, собеседование, без блата поступил на Филологический факультет МГУ, в английскую группу романо-германского отделения. Перед самым выпуском, в 1959 г., в результате проработки со стороны друзей-комсомольцев (в том числе вечно идейной M.О. Чудаковой) получил выговор с занесением в личное дело — почти волчий билет.
Был, однако, благодаря рекомендации моего опального учителя Вяч.Вс. Иванова, принят на работу в новой научной области — в Лабораторию Машинного Перевода МГПИИЯ, руководимую В.Ю. Розенцвейгом, где и работал до 1974 г. в должности старшего инженера, младшего, а затем старшего научного сотрудника. Напечатав ряд работ по структурной семантике (в сборнике «Машинный Перевод и Прикладная Лингвистика», №8, 1964), заслужил внимание и одобрение великого Мельчука и был привлечен им к соавторству, плодом которого стал цикл работ о так наз. лексических функциях, легший в основу нашего экспериментального «Толково-комбинаторного словаря». Материалы к нему, включая наиболее важную статью «О семантическом синтезе» (Проблемы кибернетики, №19, 1967), печатались в СССР, но сам словарь был издан издан лишь в эмиграции (Вена, 1984), ибо Мельчук и его группа стали персонами нон грата из-за его активной правозащитной деятельности, которая и привела к его увольнению с работы в АН СССР и эмиграции (1977).
Параллельно с этим, я окончил заочную аспирантуру Института Восточных Языков при МГУ по языку сомали (1963–1966; научный руководитель Н.В. Охотина), написал диссертацию, которую должен был защищать весной 1968 года; был даже разослан автореферат. Однако защита была отменена, когда в моем Институте стало известно о подписании мной письма в поддержку арестованных диссидентов А. Гинзбурга и Ю. Галанскова и Институт отозвал необходимую для защиты характеристику с места работы. А осенью (после вторжения в Чехословакию) партбюро и ректор МГПИИЯ М.К. Бородулина попытались уволить меня с работы, однако институтская общественность во главе с А.Я. Шайкевичем открыто этому воспротивилась, не позволив — в ходе драматического заседания кафедры общего языкознания — осуществить увольнение под видом непереаттестации. А полугодом позже, весной 1969 г., благодаря поддержке коллег, защита диссертации всё же состоялась (оппонировали А.А. Зализняк и А.Б. Долгопольский) — eдинственная успешная защита кандидатской диссертации диссидентом-гуманитарием! — и степень была утверждена ВАКом.
В 1971 г. в издательстве «Наука» вышла моя книга, основанная на диссертации, — «Синтаксис сомали». В годы аспирантуры я преподавал сомалийский язык в Институте Восточных Языков, а в 1964–1973 работал также на полставки в редакции вещания на языке сомали Московского Радио, сначала в должности редактора-выпускающего, а затем переводчика и диктора. Использование в книге языковых примеров из официозных передач Московского Радио можно считать одним из ранних образцов соцарта.
Третьей областью моих занятий была структурная поэтика. Вместе с университетским сокурсником Ю.К. Щегловым мы разработали так. наз. поэтику выразительности (порождающую модель литературной компетенции “Тема — Текст”). Первая же публикация в широкой печати («Структурная поэтика — порождающая поэтика», Вопросы литературы, 1967, №1) вызвала полемику со всех сторон, в том числе со стороны московско-тартуской школы, в частности Вяч.Вс. Иванова. Принадлежа в общенаучном смысле к структурно-семиотическому движению (мы оба участвовали в Конференции по Структурной Поэтике (Горький, ныне Нижний Новгород, 1961 г.) и в Симпозиуме по Знаковым Системам (Москва, 1962), мы, однако, находились на крайнем, “ультра-кибернетическом” его фланге; в тартуских «Трудах по знаковым системам» мы печатались редко и со скрипом (см. №№3, 1967; 7, 1975) и ощущали себя диссидентами внутри этого антиистеблишмента. Наши основные работы того времени публиковались в серии препринтов ИРЯ АН СССР и некоторых академических сборниках, а также в изданиях семиотического направления за рубежом, по-русски и в переводе.
С 1976 г. я стал проводить у себя на квартире Семинар по Поэтике, с участием виднейших семиотиков и литературоведов — московских, иногородних и иностранных — М.Л. Гаспарова, Ю.И. Левина, Б.M. Гаспарова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Е.М. Мелетинского, Вяч.Вс. Иванова, К.Ф. Тарановского, С.И. Гиндина и других. Наладились и контакты с Тарту, и в 1974 г. я участвовал в 5-й (1-й Всесоюзной) Летней Школе в Тарту. Одновременно нас со Щегловым привлек к совместной работе по структурной мифологии Е.M. Мелетинский.

В 1974 г., после высылки из СССР Солженицына, положение независимой интеллигенции резко ухудшилось. Я был уволен с работы и перешел в информационный институт Министерства Электростанций СССР «Информэлектро», либеральный директор которого С.Г. Maлинин смело брал на работу диссидентов. Я поступил в группу автоматического перевода Ю.Д. Апресяна, которая развивала нашу с Мельчуком модель; ныне эти работы получили широкое признание и активно публикуются.
СССР я покинул в порядке эмиграции к вымышленным родственникам в Израиле. Получив, после годового ожидания, разрешение ОВИРа, 24 августа 1979 г. я вылетел в Вену. Там я воспользовался помощью International Rescue Committee (долг которому выплачивал затем уже из Америки). Месяц я прожил у австрийского друга и коллеги Т. Ройтера, а затем переехал в Амстердам, благодаря усилиям заведующего кафедрой теории литературы проф. Т. ван Дейка. В Амстердамском Университете я преподавал осенний семестр 1979 г, часто выезжая с лекциями в другие европейские университеты. Затем, оформив документы на въезд в США — страну эмигрантов, прибыл в феврале 1980 г. в Итаку и начал работать на кафедре русской литературы Корнелльского Университета, руководимой светлой памяти Джорджем Гибианом. В 1981 г. я стал там “полным” профессором и заведующим кафедрой. В 1983 г. я (по сугубо личным причинам) принял приглашение Университета Южной Калифорнии (USC) в Лос-Анджелесе, где работаю по сей день. Живу в Санта-Монике, в получасе езды на машине.
В эмиграции, под влиянием нового научного и экзистенциального контекста, у меня наметился постепенный отход от жесткого структурализма к более открытому мышлению, в частности к переосмыслению советского и диссидентского дискурсов. Помимо чисто академическиой продукции, в частности, серии реинтерпретационных работ о Маяковском, Пастернаке, Ахматовой, Эйзенштейне и Зощенко, это проявилось у меня в обращении к эссеистскому, мемуарному и новеллистическому жанрам.
Но в последние несколько лет я обратился к проекту, который гораздо ближе к классическому структурализму, нежели к моим постструктурным и демифологизаторским работам. Анализируя стихотворение С. Гандлевского «Устроиться на автобазу...», я пришел к выводу о существовании особого поэтического стиля — инфинитивного письма, с присущим ему особым семантическим ореолом. Исследованием такого письма занялся в связи со стихами Пастернака, Шершеневича и Бродского и систематически на материале русской поэзии XVIII–XX вв, готовя антологию такой поэзии.
Одним из первых в своем эмигрантском поколении я поверил в перестройку и с 1988 года ежегодно бываю и активно печатаюсь в России. Острую полемику там вызвала моя статья «Анна Ахматова — пятьдесят лет спустя» (Звезда, 1996, №9). Ещё раньше я столкнулся с нетерпимостью русскоязычной (эмигрантской и российской) общественности в связи с моим интересом к творчеству Лимонова. Преодоление монологической, по сути дела — культовой, инерции российского культурного дискурса в области как литературной критики, так и нравов литературного сообщества я считаю важнейшей задачей. В этой связи я посвятил специальную статью проблеме российского редакторства (Знамя, 1992, №2).
В разное время я испытал сильнейшее воздействие работ Шкловского, Проппа, Тынянова, Якобсона, Эйзенштейна, Бахтина и Риффатерра. Личным примером и своей научной деятельностью на меня повлияли также мой отчим, музыковед Л.А. Мазель, мой учитель Вяч.Вс. Иванов (несмотря на многократные мои с ним расхождения), мои соавторы И.А. Meльчук (несмотря на мои периодические нападки на его антигуманитарность) и Ю.К. Щеглов и многочисленные коллеги, в особености М.Л. Гаспаров, Б.М. Гаспаров, Борис Гройс, А.Д. Синявский и Сол Морсон, за что я им всем очень благодарен.


 лебников, и после смерти долгие десятилетия остававшийся “спорным” новатором, к своему столетнему юбилею, широко отмеченному в 1985 году на родине и за рубежом, пришел в ореоле бесспорного академического и читательского признания. Одним из свидетельств его канонизации является обилие работ, исследующих Хлебникова как вполне “нормального” поэта, обыкновенного гения, ещё одного классика-мифотворца. Между тем в восприятии современников, да и более поздних неискушенных читателей, гениальность Хлебникова находилась в странном, но характерном симбиозе с его неканоничностью. Попробуем осмыслить подобное наивное прочтение Хлебникова в свете современных представлений о литературном процессе вообще и о месте в нем Хлебникова в частности.
лебников, и после смерти долгие десятилетия остававшийся “спорным” новатором, к своему столетнему юбилею, широко отмеченному в 1985 году на родине и за рубежом, пришел в ореоле бесспорного академического и читательского признания. Одним из свидетельств его канонизации является обилие работ, исследующих Хлебникова как вполне “нормального” поэта, обыкновенного гения, ещё одного классика-мифотворца. Между тем в восприятии современников, да и более поздних неискушенных читателей, гениальность Хлебникова находилась в странном, но характерном симбиозе с его неканоничностью. Попробуем осмыслить подобное наивное прочтение Хлебникова в свете современных представлений о литературном процессе вообще и о месте в нем Хлебникова в частности.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



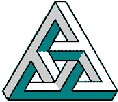
 У Хлебникова никогда не было денег, рубашка одна, брюки рваные, с бахромой. Где он жил, не знаю. Пришел он к нам как-то зимой в летнем пальто, синий от холода. Мы сели с ним на извозчика и поехали в магазин Манделя (готовое платье), покупать шубу. Он всё перемерил и выбрал старомодную, фасонистую, на вате, со скунсовым воротником шалью. Я дала ему ещё три рубля на шапку и пошла по своим делам. Вместо шапки он на все деньги купил, конечно, разноцветных бумажных салфеток в японском магазине и принес их мне в подарок, — уж очень понравились в окне на витрине.
У Хлебникова никогда не было денег, рубашка одна, брюки рваные, с бахромой. Где он жил, не знаю. Пришел он к нам как-то зимой в летнем пальто, синий от холода. Мы сели с ним на извозчика и поехали в магазин Манделя (готовое платье), покупать шубу. Он всё перемерил и выбрал старомодную, фасонистую, на вате, со скунсовым воротником шалью. Я дала ему ещё три рубля на шапку и пошла по своим делам. Вместо шапки он на все деньги купил, конечно, разноцветных бумажных салфеток в японском магазине и принес их мне в подарок, — уж очень понравились в окне на витрине. В 2000 году издали его письма и дневники. Из письма к жене, Аренс-Пуниной Анне Евгеньевне (Гале) следует, что весь этот мрак и ужас он давал ей читать.
В 2000 году издали его письма и дневники. Из письма к жене, Аренс-Пуниной Анне Евгеньевне (Гале) следует, что весь этот мрак и ужас он давал ей читать. Дорогие товарищи,
Дорогие товарищи, В юности, пока не прилипла глазная хворь, я дышал живописью. «Дневник» Эжена Делакруа и «Письма» Винсента Ван Гога приобрести было невозможно, пришлось делать из них выписки. «Ноа-Ноа» (письма и литературные опыты Поля Гогена) у меня есть полностью.
В юности, пока не прилипла глазная хворь, я дышал живописью. «Дневник» Эжена Делакруа и «Письма» Винсента Ван Гога приобрести было невозможно, пришлось делать из них выписки. «Ноа-Ноа» (письма и литературные опыты Поля Гогена) у меня есть полностью.
 Эти два изображения — с Главной страницы сайта www.ka3.ru. Главное — Главная, встречать будут по одёжке. А провожать?
Эти два изображения — с Главной страницы сайта www.ka3.ru. Главное — Главная, встречать будут по одёжке. А провожать? Есть тенденция заранее “дисквалифицировать” его как сумасшедшего («Воспоминания» Бунина, «Петербургские зимы» Г. Иванова). Сумасшедшим Хлебников не был, а был безумцем (большая разница) — как Блейк, Гельдерлин, Ницше, Ван Гог и др. Безумие давало великие образцы искусства и величайшие прозрения. Это всем известно, и было бы смешно это напоминать, если бы об этом не забывали каждый раз, когда речь шла о Хлебникове. Любители “нормального” любят забывать, что Пушкин (их заветный козырь) пел безумие. В стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума» поэт говорит не о боязни безумия („Не то, чтоб разумом моим я дорожил...“), напротив: он приветствует приход этого состояния, видит в нем наивысшее проявление силы и свободы. Боится же он только отношения людей к этому безумию.
Есть тенденция заранее “дисквалифицировать” его как сумасшедшего («Воспоминания» Бунина, «Петербургские зимы» Г. Иванова). Сумасшедшим Хлебников не был, а был безумцем (большая разница) — как Блейк, Гельдерлин, Ницше, Ван Гог и др. Безумие давало великие образцы искусства и величайшие прозрения. Это всем известно, и было бы смешно это напоминать, если бы об этом не забывали каждый раз, когда речь шла о Хлебникове. Любители “нормального” любят забывать, что Пушкин (их заветный козырь) пел безумие. В стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума» поэт говорит не о боязни безумия („Не то, чтоб разумом моим я дорожил...“), напротив: он приветствует приход этого состояния, видит в нем наивысшее проявление силы и свободы. Боится же он только отношения людей к этому безумию.
 Хлебников написал «Русалку» в Сабурке для доктора Анфимова. Ван Гог в лечебнице писал доктора Гаше. Как товарища по несчастью, который ещё находит в себе силы притворяться.
Хлебников написал «Русалку» в Сабурке для доктора Анфимова. Ван Гог в лечебнице писал доктора Гаше. Как товарища по несчастью, который ещё находит в себе силы притворяться.
 В 1974 г., после высылки из СССР Солженицына, положение независимой интеллигенции резко ухудшилось. Я был уволен с работы и перешел в информационный институт Министерства Электростанций СССР «Информэлектро», либеральный директор которого С.Г. Maлинин смело брал на работу диссидентов. Я поступил в группу автоматического перевода Ю.Д. Апресяна, которая развивала нашу с Мельчуком модель; ныне эти работы получили широкое признание и активно публикуются.
В 1974 г., после высылки из СССР Солженицына, положение независимой интеллигенции резко ухудшилось. Я был уволен с работы и перешел в информационный институт Министерства Электростанций СССР «Информэлектро», либеральный директор которого С.Г. Maлинин смело брал на работу диссидентов. Я поступил в группу автоматического перевода Ю.Д. Апресяна, которая развивала нашу с Мельчуком модель; ныне эти работы получили широкое признание и активно публикуются.