

Высокой раною болея...
Хлебников
И преувеличения, и недооценки Хлебникова современниками понятны: и то, и другое свойственно современникам. К тому же, этикетка “гения” давалась тогда легко,1![]()
Посмертное прославление Хлебникова имело больше оснований. Хотя многие энтузиасты и проповедники его творчества в 20-х гг. знали его лично, — это было уже другое племя, не футуристы. Центр тяжести с “эпатажа” не всегда талантливых скандалистов перешёл на критическую и литературно-исследовательскую деятельность. Началась эпоха формализма, этого блестящего ребёнка малопочтенных родителей-футуристов. Манёвр был блестящий. После неудачной конной лобовой атаки футуристов следующее поколение начало артиллерийский обстрел — но не из литературных салонов, а из учёных кабинетов. Это закончилось чуть ли не полным завоеванием литературы. Репутация Хлебникова в то время, конечно, укрепляется и растёт. От первой (и до сих пор лучшей) работы Р. Якобсона о Хлебникове (Новейшая русская поэзия. Набросок 1. Прага. 1921) до выхода и свет заключительного шестого тома первого собрания произведений — таков путь этой кампании. Всё это ни на йоту не приблизило Хлебникова к читателю, но поэзия того времени приняла его наследие. Исследованием литературных “влияний” часто злоупотребляли, но к разговорам о влиянии Хлебникова можно относиться без опасений. Маяковский, Мандельштам, Тихонов, имажинисты (также и Есенин), Сельвинский, Пастернак, Кирсанов, Асеев, наконец, Заболоцкий, а в прозе и Олеша — все они так или иначе, в тот или иной период, прошли “хлебниковскую” школу, как с благотворными, так и с гибельными результатами. Нетрудно заметить, что список включает почти все крупные имена русской поэзии советских лет. А о степени преклонения перед Хлебниковым дают представление хотя бы слова Асеева:
Формализму были нанесены смертельные удары в 30-х гг. Сопротивляться было бесполезно, несмотря на силу, талант и влияние. Удары наносились из нелитературных пределов. Ещё далеко не преодолённый изнутри, формализм сложил знамёна, среди них и одно из самых священных — Хлебникова. Пробовали осуществлять другие издания хлебниковских стихов (Избранное. 1936; Стихотворения. 1940 и др.), но простое сравнение предисловий показывает, что Хлебникова не победно демонстрируют, а ловко протаскивают, то страхуя себя от возможных ударов, то расставляя “приемлемые” акценты на творчестве поэта. Выражают сожаление об идеалистичности и формалистичности произведений, обращают внимание на похвальные фольклорные элементы, открывают даже “реализм”. Маяковский теперь выступает в роли более благоразумного сверстника, “уже тогда понявшего” и т.д. Но и в это время попадаются прекрасные исследования (В. Гофман. Языковое новаторство Хлебникова. Звезда, 1935, № 6).
Однако даже в обезвреженной форме Хлебников продолжал представлять “опасность”. Большая статья Б. Яковлева «Поэт для эстетов» (Новый мир. 1948, № 5) знаменует резко враждебный поворот и ставит творчество Хлебникова вне закона. Статья выдаёт интересные подробности: Хлебников имеет всё ещё большое влияние на поэтическую молодежь (перечислено много имен и приведены примеры „пагубного” влияния), легенда о нём „не забыта и сегодня” (где-то в газете даже с любовью описывалось кресло, в котором сиживал Хлебников). По данным Яковлева, с 1921 по 1948 гг. было издано больше пятидесяти книг Хлебникова и о Хлебникове, опубликовано больше ста статей и рецензий о нём.
К “идеологии” Хлебникова относились критически и раньше. Уже в 1928 г. в одной из рецензий (Друзин. Звезда, № 9) говорится о его славянофильстве, фурьеризме и “неверном” понимании сущности революции. Теперь, через 20 лет, приводятся тщательно выисканные в малоизвестных вещах поэта „пошлые выпады против марксизма”:
“Антисоветские” строки и тенденции находят в «Ночном обыске», «Зангези», рассказе о гражданской войне «Малиновая шашка» (может быть, фраза Раем с пулемётами, чтобы не разбежались райские жители, был север) и др.3![]()
В эмиграции Хлебниковым мало интересовались. Круги и личности, “делавшие погоду”, почти не замечали его. Так называемая “парижская школа” не принимала его во внимание. Поэты, культивировавшие одну “парижскую ноту”, не могли согласиться с существованием другого поэта, который на клавиатуре поэтических возможностей пытался взять все ноты. В настоящее время в зарубежных газетах пишут даже о Фофанове, но о Хлебникове давно не появлялось ни строчки. В толстых историях литературы ему отводят один абзац. У “новоэмигрантских” поэтов в длинном списке поэтов, которых они имитируют, имя Хлебникова отсутствует. Как будто пришло время для “доцентов” писать историю ещё одной репутации...
Переоценки сейчас в моде: или потому, что современности не хватает своих духовных ценностей, или последним нужно историческое оправдание. Скорее всего, потому, что большая традиция подошла к концу и нужен итог, “магазин закрыт на переучёт”. Хлебников интересен и сам по себе, и своим влиянием, а, может быть, и кое-чём в смысле перспективы. Попытка его “воскрешения” не так несвоевременна и произвольна, как может показаться с первого взгляда. Страсти улеглись, и другое поколение может говорить о нём более или менее беспристрастно. К сожалению, материалы ещё не позволяют проследить внутреннее развитие поэта (благодатная задача для исследователя-неформалиста). Но установить новую точку зрения, пожалуй, более объективную, чем до сих пор, уже можно. Можно также попытаться найти живой эстетический подход к Хлебникову.
Но прежде чем мы перейдём к хлебниковским строчкам, нас неизбежно отвлечёт его личность. Её обаянию трудно не поддаться. Эпитет “светлая” очень подходит здесь и теряет обычный привкус шаблона. Возможно, что это самая замечательная легенда русской литературы, которой не нужно даже творчества в поддержку.
Когда, после степного детства, проведённого недалеко от мест,
Его голова всё время полна планов — и бредовых, и прекрасных. Он хочет найти числовые зависимости, дающие возможность предсказывать исторические события (говорят, что он предсказал гибель «Лузитании» и войну с немцами, и он действительно в 1912 г. предсказал русскую революцию6![]()
Можно себе представить, как чувствовал себя Хлебников, попав в 1916 году рядовым в запасной полк. Существо в полном смысле слова не от мира сего в казарменной обстановке, да ещё в чине рядового, — зрелище непривычное даже для России. Конечно, он отдавал честь, держа вторую руку в кармане. В письме он говорит: Благодаря ругани, однообразной и тяжёлой, во мне умирает чувство языка ‹...› какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены ‹...› я должен буду сломать свой ритм. Большинство его коллег в то время проявили необычную для поэтов изворотливость и разными путями освободились от военной службы. Некоторые крупные поэты нашли в себе достаточно нечувствительности, чтобы воспеть войну XX века. Это согласуется с любимым обывательским представлением о поэте, который не видит действительности и преображает её (напрокат из «Роза и крест»). Но преображать было легко, не будучи в армии совсем (Брюсов) или имея офицерский чин (Гумилёв); Хлебникову в чесоточной команде это было труднее. На западе в это время другой поэт так же нежданно попал в армию и тоже чувствовал, что „замки души выкорчеваны”. Это был Рильке. Но у него хоть были высокие покровители и канцелярская работа.
Во время революции Хлебников бродит по улицам Москвы и Петрограда. Средства к жизни по-прежнему мало интересуют его: „Будем читать на улицах стихи. За это нас будут кормить”, — говорит он знакомому. Во время гражданской войны он слушал, как войска
После демобилизации грязная и рваная солдатская шинель несколько месяцев (если не лет) скрывала почти полное отсутствие остальной одежды. Во время «Карнавала искусств» в Петрограде его видели в этой шинели, измождённого, на замыкающем кавалькаду грузовике с надписью: Председатель Земного Шара. В качестве записной книжки он тогда использовал подкладку собственной фуражки. Его бескорыстие было совсем нетипичным для поэтов того (и сего) времени. Рассказывают, что он сразу после получения большого аванса, ещё не успев выйти на улицу, вернулся к редактору журнала и возвратил деньги, потому что это его связало бы. Ему свойственна широта поэтической невзыскательности:
В Харькове он живёт в холоде, голоде, без света; болеет тифом. Пишет ночью, громоздя строчку на строчку; утром не может прочесть написанного. Каждая новая власть в городе арестовывает его, принимая за шпиона. Есенин и Мариенгоф нашли его там, полубезумного от голода, и уговорили выступить с ними в театре на церемонии посвящения его в председатели земного шара. Мариенгоф описал это в «Романе без вранья». Они с Есениным пели пародийные акафисты: публика, пришедшая поглазеть на “футуристов”, гоготала; один Хлебников, обросший волосами и босой, относился ко всему серьёзно. Потом „Есенин надрывался со смеху”. Это заставляет вспомнить о том, что циркачи, медики и многие другие профессии имеют кодекс чести и строгую этику. У людей литературы она в забвении уже, по крайней мере, полвека. Впрочем, поклонники Есенина оправдают его и в этом.
В конце 1920 г. Хлебникова видят в Баку с куском хлеба во рту и с бухгалтерской книгой под мышкой. Это “гроссбух”, в котором сохранились в рукописном виде почти все его произведения последних лет. Его костюм так же „состоит из самых фантастических элементов” (его где-то ограбили). Он страстно спорит с находившимся тогда в Баку Вяч. Ивановым и продолжает вычислять на мелких обрывках бумаги законы времени и „формулу связи астральных явлений и слов”. В. Иванов отбирает у Хлебникова деньги и выдаёт по частям (обычно добавляя от себя), иначе тот их потеряет, отдаст нищим или, голодный, накупит сластей. К тому времени относится малоизвестное автобиографическое стихотворение:
Персидская эпопея Хлебникова должна быть интереснейшей главой в будущем романе его жизни. Он попал туда с коммунистическими войсками, которые должны были идти на Тегеран. Он числился лектором политпросвета при штабе, т.е. читал красноармейцам лекции по истории литературы.7![]()
После этого Хлебников оказывается в Железноводске, где серьёзно и с убежденностью говорит соседке, что „дикими грушами, оказывается, можно отлично питаться”, а также показывает ей, с подробными объяснениями, свой „главный труд”. „Я ничего не поняла”, — сообщала потом соседка. В Пятигорске он служит ночным сторожем, пишет поэмы, пробует лечением восстановить здоровье, к этому времени почти разрушенное. Он разводит беспризорных по приютам и пишет, несмотря на голод в самом Пятигорске, стихи-воззвания о помощи голодающему Поволжью. Он никак не может примириться с мыслью, что его родная разинская Волга раздавлена голодом. Не закончив лечения, Хлебников едет в Москву печатать свои произведения. Санитарный поезд через месяц, наконец, привозит его туда, совершенно больного. Встречи с друзьями, которые превратились из изобретателей в приобретателей, и издательские неудачи производят на него тяжелое действие. Он решает ехать домой в Астрахань, но в ожидании бесплатного билета, по совету приятеля, едет на две недели в деревню, в Новгородскую губернию. От станции он почти доползает до деревеньки Санталово, где у него отнимаются ноги. Через месяц, 28-го июня 1922 г., тридцати семи лет от роду Хлебников умер в ужасных мучениях. Его похоронили в левом углу погоста деревни Ручьи.
Интересно, что на западе живо почти всё поэтическое поколение тех лет: Эзра Паунд (род. в 1885 г.), Т.С. Элиот (р. 1888 г.), Уоллес Стивенс (р. 1879 г.), а в России уже нет ни Мандельштама, ни Есенина, ни Маяковского, ни Клюева.
Незадолго до смерти Хлебников записал в свою книжку: Что я изучил. И перечислил: Звери. Азбука. Числа. Товарищи. Люди. Времена года. Ночи в Персии. Ночи в Астрахани.
Здесь уместно сказать, что, как бы ни относиться к творчеству Хлебникова, его легенду поэтам следует хранить. Есть тенденция заранее “дисквалифицировать” его как сумасшедшего («Воспоминания» Бунина,8![]()
![]()
Легенда о Хлебникове — легенда об идеальном поэте — заставляет вспомнить о Рембо, о Франсуа Вийоне. Флоберовская легенда об абсолютной отдаче творчеству тоже сродни ей. Поэты 20-х гг. чувствовали необходимость её сохранения. Нашему поколению неплохо продолжать хранить эту легенду о Последнем Поэте, потому что в ней есть многое, что нам нужно. Например, она сохраняет пушкинский идеал дружбы вопреки тайному девизу литературного быта того времени: „Друг другу мы тайно враждебны” (Блок). Злоба к ближнему — выражается ли она в низкой форме (рецензии и статьи в эмигрантских журналах и газетах) или в высокой (поздние стихи Ходасевича) — наследство “серебряного века”. Легенда о Хлебникове могла бы здесь быть прекрасным противоядием.
Еще покойный Ю. Тынянов заметил, что, говоря о Хлебникове, можно и не упоминать о зауми. Тем не менее, это слово каждый раз произносится, когда заходит речь о нём или о футуризме. Оно уже приняло тот сниженный и искажённый оттенок, какой всегда приобретает литературный или философский термин, входя в бытовой язык. Так “классик” теперь значит — писатель прошлого, которого проходят в школе, “романтическое” отождествляется с “красиво-возвышенным”, “лирическое” выражает “интимно-нежное”, а “цинизмом” называют чугь ли не всё, относящееся к полу. Согласно этой традиции обытовления слово заумь теперь означает бессмыслицу и абракадабру, произвольный плод измышлений людей, не хотящих или не умеющих пользоваться языком обыкновенных людей.
Поэтому, не вдаваясь в детали, нужно сразу напомнить о смысле, который Хлебников вкладывал в это слово. Другие футуристы, в частности, А. Кручёных, действительно рассматривали заумь как намеренно обессмысленную речь и хотели ею освободиться от звуковых шаблонов принятого языка:
Хлебников под заумью понимал совсем иное. Он считал, что в словах есть изначальный смысл, выражающийся в определённых звуках. Эти звуки — единственное и чистое выражение в языке определённых идей. Однако в процессе бытового употребления эта первоначальная чистота смысла затемняется или теряется. Хлебников хотел выделить звуки-идеи и из них строить новый заумный язык, — переходящий за границу обычного, повседневного смысла и выражающий основную идею, — на котором все люди будут понимать друг друга.
В статье «Наша основа» Хлебников ясно говорит об этом:
Он считал, что заумь существует в языке и сейчас — в заговорах и магических заклинаниях, где она — в диком состоянии. Её нужно сделать домашней.
Таким образом, между первой и второй заумью такая же большая разница, как между кручёныховским “шедевром” „Лель анальный и Яра уринальная” и “птицами Хлебникова”, которые „пели у воды” (Заболоцкий).
При всей утопичности идей Хлебникова, их не так легко опровергнуть. С ними, конечно, не согласился бы Аристотель, считавший, как известно, что родства между словами и вещами не существует (за исключением немногих случаев звукоподражания). С ними может не согласоваться общепринятая теория языкового процесса, которая утверждает, что абстрактные слова образуются из конкретных (а не наоборот) посредством метафоры, так как корни слов выражают лишь чувственные впечатления. Но при всём этом на стороне хлебниковской зауми остаются Платон и бл. Августин, утверждавшие, как известно, обратное. Таким образом, с заумью в хлебниковском понимании можно не соглашаться, но объявлять её несусветной белибердой было бы слишком смело. Мечты же Хлебникова о создании мирового языка очень близки к идеям философов-рационалистов XVII века, в частности, Декарта и Лейбница (об этом см. вышеуказанную статью В. Гофмана).
Другое дело, что заумь не всегда находила убедительное воплощение в поэзии Хлебникова, но он не исчерпывается своей поэтической практикой, а эта практика далеко не исчерпывается заумью. Однако иногда ему удаётся создав шедевры. Такова, например, его заумная жемчужина «Бобэоби пелись губы». Чтобы оценить её, вовсе не нужно знать тонкости теории Хлебникова о цветовых соответствиях звуков. Она сама собой доходит до современного вкуса и живописными ассоциациями, вызывающими в памяти некоторые ранние вещи Пикассо, и своеобразной точностью (губные согласные в сочетании с гласными почти линеарно рисуют человеческие губы, лиэээй имеет очертания женской фигуры); наконец, — замечательным звуковым эффектом — протяжённостью столкнувшихся гласных. Заумные разговоры богов в «Зангези» тоже замечательны в своем роде.
Основная идея, правящая жизнью Хлебникова, — преображение мира (метаморфоза) через постижение тайн числа и слова. Число властвует над историей. Если оставаться в сфере литературы (хотя в применении к Хлебникову это слово сразу начинает казаться узким), то можно признать его главным и единственным объектом язык (бродяга дум и друг повес), точнее — слово, самовитое слово, содержащее всё и вся: от ratio до магии. В тайны слова он всё время стремится погрузиться: с этой одной мечтой в упрямом взоре он то ломится в открытые двери, то насилует язык, то открывает замечательные вещи. Поэтому Хлебников объединяет необъединимое, как, например, мечты о создании всемирного языка и славянофильство. В горниле его словесной кузницы рационализм и мистика сливаются. Потому что и то и другое рождается из слова, а не пользуется словом как средством. Страстная любовь к “слову как таковому” позволяет ему одновременно перекликаться с Платоном и черпать из псевдонаучных лингвистических изысканий Лукасевича и Красуского. Поэтому так трудно ответить на вопрос: классик он или романтик; поэтому так спорят о нём литераторы, не в силах представить себе, как могут ужиться такие крайности в одном человеке.10![]()
Но они и не уживаются. Объединение крайностей не прошло даром — и Хлебников сгорел, как сгорел Блок. Однако примечательно, что он не перешагнул ту грань, за которой самая высокая идея превращается в идею фикс (ещё одно доказательство того, что Хлебников не был сумасшедшим). Он чувствовал, что не все его эксперименты беспрепятственно укладываются в поэмы, он ощущал “сопротивление материала” в языке. Мистик и рационалист, наивное и заумное, дикарь и интеллигент вели постоянную борьбу в Хлебникове, но чаще всего он, со своей вечной сосредоточенностью на слове, не замечал этого, как не замечал голода, холода и людской подлости.
Когда Хлебников мечтал о мировом языке, то мир для него разворачивался в сторону Азии. К Западу Хлебников стоял спиной. Кёнигсбергский обыватель Эммануил Кант для него значится в списке русских подданных, не представляет большого интереса и произволен. Зато с Востока веет началом всего, там колыбель мира, и герой рассказа «Есир», побывав в Индии, уже не может ничего найти на когда-то родном волжском “Западе”. Запад для Хлебникова был чем-то вторичным, чем-то для Брю-Баль-Мерж, как он презрительно называл символистов. Персия вдохновила его на лучшую в русской литературе поэму о Востоке, поэму, совершенно лишённую дешёвой экзотики в стиле “ориенталь”. Но у Хлебникова не было и претенциозной ощеренности к Западу (в традиции «Скифов»). Его мечты «Ладомира» исключают агрессивность, и будущее представляется ему всеобщим слиянием сверхшиллеровского типа.
“Противоречия” Хлебникова заставили его исследователей противоречить себе и друг другу. Критик Н. Степанов пишет в одном месте: „Ключ к Хлебникову даётся знанием его философских теорий”, а в другом: „Хлебников-поэт и Хлебников-теоретик часто противоречат друг другу”. Для самого Хлебникова тут не было противоречия. В слове всё сплавлялось в одно, и уже не было разницы между единым пластом славянской культуры и путём к мировому заумному языку.
Но о самом мировом языке у Хлебникова было очень неясное представление. Он, как типичный русский интеллигент, видимо, не отличался особым даром к иностранным языкам11![]()
Перекличка Хлебникова с новейшей западной литературой случайна. Есть у него сходство с сюрреалистами, особенно в его “метаморфозах” (нагляднее всего в поэме «Журавль»). Но этого мало, чтобы считать его сюрреалистом. Его теории о цвете отдельных согласных заставляют вспомнить Рембо (A noir, Е blanc, I rouqe, U vert ‹...›), — но, в конечном счёте, это — идея “соответствий”, общая многим (и русским) символистам. Есть совпадения12![]()
Мандельштам называл Хлебникова „корневодом”, а сам он в поэме величал себя слова божком. Конечно, нельзя отрицать, что, по крайней мере, добрая половина его жизни прошла в мудрёных, забавных, а подчас и замечательных опытах над словом. Читая Хлебникова, в особенности его статьи, обращаешь внимание на его чудовищную словесную фантазию, которая помогает ему иногда достичь того, что можно назвать “преображением натяжки”. Так, например, он вводит слово ‘чаять’ в группу слов на “ч”, т.е., по его теории, выражающих идею сосуда, вместилища, — и объясняет его как иметь сердце открытой чашей. Сюда же относятся его списки театральных терминов в переводе на русский, где есть судьбоспор и мучава для трагедии, небоснязь для поэта и зенкопял для зрителя.
Поэтому все исследователи ходят по Хлебникову с микроскопом и открывают вещи, заметные (и интересные) только в микроскоп. Отсюда идёт печальная слава Хлебникова как только экспериментатора, алхимика и даже штукаря. Эту славу поддерживали футуристы, а позже и формалисты. На ней росли мелкие теченьица до конструктивизма включительно. Конечный пункт напрашивался сам собой:
Последователям и толкователям подобного рода казалось, что со словом можно делать, что угодно, — хоть на токарном станке. Они не хотели видеть, что слово — живой организм, и некоторые опыты над ним равносильны вивисекции. Научные работы, занимающиеся разбором техники неологизма и “обнажённого приёма” у Хлебникова, являются описанием кирпичей для здания (далеко не полностью использованных самим Хлебниковым в его строительстве). Чрезмерное внимание к “кухне” и лаборатории почти исключает критическую оценку. Если даже к каталогу технических средств добавить список всех идей, это не даст понятия о характере поэзии, потому что оставляет в стороне основное — поэтическую личность, которая является главным ключом к творчеству.
Ударение только на приёме привело к тому, что критики и исследователи до сих пор не могут понять, что же такое Хлебников и даже хороший ли он поэт. Разногласия между ними разительные. Н. Степанов говорит о “лёгком стихе” Хлебникова, а кредо футуристов требует „множества узлов, связок, петель и заплат, занозистой поверхности, сильно шероховатой”, что Хлебниковым и демонстрируется на каждом шагу. Р. Якобсон рассматривает его в футуристическом контексте. Друзин говорит: „Хлебников, может быть, не поэт будущего, а открыватель путей в будущее, погибший в его преддверии”, а В. Гофман прямо предлагает называть Хлебникова не футуристом, а “пассеистом”. Наконец, Н. Степанов констатирует: „Хлебников прост и ясен”, а В. Эрлих пишет: „obscure and elliptic”.
Очевидно, дело не в одних вещественных признаках и их описании. Не это главное, и не это делает Хлебникова поэтом. Есть и иные, не менее важные постановки вопроса, и одна из них: для чего? — т.е. какую функцию выполняет приём (ведь он у Хлебникова далеко не всегда “обнажённый”). Формалисты редко ставят вопрос “для чего?” в широком, а не только техническом плане. Но лишь так и можно перейти от кирпичей к цементу, связывающему их. Это аристотелевский “этос”, без которого просто нет восприятия художественного произведения. Как только мы видим “этос”, сущность творчества нам ясна, и разговорный дольник Ахматовой без труда отделяется от напевного дольника Блока, тогда как, оставаясь в пределах метрики, эту разницу установить нельзя.
Если почувствовать и осознать хлебниковскую мечту о преображении мира, то самые отталкивающие словесные опыты приобретают смысл, его поэтическое творчество связывается с его полуфантастическими числовыми экспериментами, его принятие революции наполняется большей глубиной, и даже функция его “сдвигов” и “метаморфоз” уясняется, и они перестают быть “обнажёнными” и немотивированными. Хлебникову мало метафоры. Метафора ещё не “преображает”, она только “выражает”. Поэтому он берет метаморфозу.
Сделать тончайший стилистический анализ иногда легче (и не так обязывает), чем найти человеческий, читательский подход к поэту. А ведь любой настоящий исследователь и критик подходит к произведению сперва как читатель, подобно тому, как врач должен видеть в пациенте страдающего человека, а не только носителя болезни и объект лечения. Необходима гуманизация литературного исследования.
„Синтаксис Хлебникова характеризуется широким использованием lapsus’a, оговорки”, — пишет Р. Якобсон в своей работе о Хлебникове. Если не знать этого, если раскрыть томик Хлебникова на поэмах, первое впечатление будет очень странным. Неискушенному уху и глазу он предстанет вовсе не футуристом (т.е. ниспровергателем основ), а скорее безграмотным графоманом, не умеющим выражать свои мысли. “Оговорки” перемежаются с постоянными ритмическими “сдвигами”, частым столкновением ударных слогов; шаблоны классической поэзии перемешаны с явной прозой; соседство слов разного стиля иногда невыносимо (можно встретить рядом меч Искандров и ндрав). Всё это в отдельности можно встретить и у “классиков”, и в фольклоре, но тут всё сведено в одно место, и читатель безнадёжно увязает в неправильностях, художественную цель которых установить трудно. Кроме того, все эти “разрушения” Хлебников вводит без всякой нарочитости, без вызова, и создаётся впечатление, что это его обычный язык. Появляется неудержимое желание поправить.
В стихах Хлебникова больше добавочных слоговых отягчений (“спондеев”), чем во всей русской поэзии XIX века:
“Перестановки ударений” (по Жирмунскому) на каждом шагу:
Очень часто пересечение одного размера другим:
и даже прозой:
Множество инверсий не только затрудняют понимание:
но и искажают смысл:
Хлебников нарушает грамматическое управление:
ставит рядом разные грамматические времена:
пропускает местоимения, необходимые для понимания:
без нужды пользуется неправильными ударениями:
Список можно продолжить, но и приведённого выше достаточно. Ссылки на других поэтов не помогают: у них это единичные случаи, объяснимые историей, замыслом и т.п. У Хлебникова — парад “неправильностей” русской речи и стихосложения, каталог стилистических оплошностей. Строка ломится от них.
Однако они постепенно складываются в уме читателя в стиль, намеренный, но не нарочитый. Этот стиль может не совсем убеждать в «Шамане и Венере», но он на месте в «Хаджи Тархане» и придаёт поэме небывалую азиатскую пестроту. Чувство единого стиля приходит само собой после второго или третьего чтения, даже если и не знать, что хлебниковские письма, статьи и большая часть прозы14![]()
Когда привыкнешь, многие из его неуклюжих строк начинают наполняться очарованием, а в “неправильностях” замечаешь если не логику, то убедительность (что отметил ещё Гумилёв в своих «Письмах о русской поэзии». Пг. 1923, 176 стр.).
Наконец, ясно видишь, что приём не просто введён, но и оправдан. В строке
То же в строчке из «Ладомира»:
Но вещи, которые требуют объяснения или привычки, перемежаются у Хлебникова со строчками и строфами, замечательными с точки зрения любого вкуса, как бы консервативен он ни был. Всё вместе даёт причудливую вязь. Находить у Хлебникова места “немедленно” прекрасные не так трудно, как принято считать. Живописуя звуком, он достигает большой тонкости и красоты:
Есть у него и точность выражения, иногда почти научная:
Его образы полны выразительности и интенсивности:
У него своеобразная лапидарность:
или так понравившиеся Ю. Олеше глаза казни.
Его строки бывают полны лирической лёгкости:
или особого шарма:
Он, как всякий большой поэт, останавливается перед загадками этой и той жизни:
После более или менее основательного знакомства с произведениями Хлебникова их отличительные черты выступают ясно, и они не раз отмечались. Прежде всего, нужно сказать о широте диапазона. В его стихе есть элементы «Слова» и Маяковского, Пушкина и частушек. В его поэмах можно найти всё — от идиллии «Сельской очарованности» до трагедии возмездия в «Ночном обыске», от ажурной лёгкости «Лесной девы» до тяжёлой поступи «Журавля», от серьёзности «Настоящего» до нонсенса «Шамана и Венеры». Строгие линии «Гибели Атлантиды» и разноцветность «Хаджи Тархана», паутина «Вилы и лешего» и поток «Трубы Гуль-муллы», далёкое прошлое «И и Э» и утопическое будущее «Ладомира», Фурье и Разин, чиcло и слово — всё умещается в один творческий путь. Этикеткам Хлебников не поддаётся. Его особая, святая простота требует, для оценки, раздвижения наших условных критериев простоты.
С широтой поэтического горизонта сочетается личная душевная широта:
Эта широта не только пространственная, она включает в себя и то непременное развитие во времени от стиха к стиху, постановку каждый раз новой задачи, протеическое изменение форм и идей при единстве поэтического облика, которое Хлебников делит, может быть, только с Пушкиным (никогда не достигая, однако, пушкинской гармонии).
В этой связи надо упомянуть и о широте его подхода к языку. Выбор, который мы называем вкусом, у Хлебникова отсутствует. Для него слова равны, и он употребляет их сразу — от крина до ракла. В русской поэзии не было более решительного отказа от деления слов на стили.15![]()
В лучшей эмигрантской поэзии словарь сужен до предела, до христианской нищеты, так что сквозь язык начинает сквозить дух, — столь тонка словесная оболочка. А Хлебников, взяв весь язык, всё в нём “перемешал”, и дух пробивается сквозь булькающую массу.
Другое впечатление от Хлебникова — его инфантилизм в мироощущении, в подходе к слову, даже в логических выводах. Его «Шаман и Венера» и «Лесная дева» напоминают детские рисунки с их алогичной свежестью и наивной неправильностью. С детскостью связано и его устремление к доисторическим временам («И и Э») и тяга к научной фантастике («Ладомир»). Наивная мотивировка действия, анахронизмы, внешняя глубокомысленность идеи, не выдерживающая логического анализа («И и Э», «Атлантида») — всё это во время чтения приводит к мысли, что
и заставляет думать о приближенности Хлебникова к пушкинскому понятию „глуповатой поэзии”.
Несколько примеров:
Лиля Брик вспоминает, что Хлебников, читая вслух свои вещи, начинал скучать на середине, обрывал чтение смущённым и так далее...
Т. Вечорка (Записная книжка Хлебникова. М. 1925) сообщает такой факт: Хлебников ехал по ж.-д. На маленькой станции, увидев в окно рыбаков у костра, вышел из поезда и присоединился к ним, оставив вещи в вагоне. Два дня он рыбачил, а ночью смотрел в небо. Потом надоело — и он пошёл пешком дальше.
Также внезапен конец его «Журавля», когда после подробнейшего и запутанного описания восстания вещей, тщательной обрисовки страшного “журавлиного” будущего, во время бешеной пляски журавля, поэма вдруг кончается прозаическим
Во всех этих примерах — ребяческий “гордиев узел”, привычное зрелище разыгравшегося мальчика, которому внезапно надоела его игра.
Детскость Хлебникова и в его часто до банальности точной рифме, к которой его тянет бессознательно.16![]()
По смыслу просится хотя бы “заключена”, но Хлебников не может противостоять детскому желанию слышать точную рифму.
Не каждый ли ребёнок — природный футурист? Многочисленные примеры из книги К. Чуковского «От двух до пяти» прекрасно подтверждают это. Словообразования вроде “кустыня” (вместо ‘пустыня’) как будто взяты из Хлебникова, который тоже хотел смыслового соответствия слова описываемому предмету. Мальчик, становящийся ногами на часы, чтобы дать смысл выражению “стоять на часах”, совершает хлебниковскую “реализацию тропа”. Детские новообразования “не хочу идемить в столовую” или “я отмухиваюсь” по своей технике то же, что неологизм Хлебникова. Наконец, детские стихи, где „Эку пику дядя дал” превращается в „Зки-кики дидиду” — замечательный образчик ранней футуристической зауми в становлении. Перевертни — тоже страсть мальчиков.
Ещё одно отличительное качество поэзии Хлебникова обычно (и не совсем точно) называют “объективностью”. Скорее, это целый конгломерат соприкасающихся черт, где можно применить немецкий термин Nicht-Ich-Dichtung. Сюда относятся не раз отмечавшиеся эпичность и идилличность. В самом деле, Хлебников — один из самых подлинных идилликов в русской поэзии, не уступающий в этом даже Батюшкову. Эпическое ощущение формы позволяет ему составить поэму «Война в мышеловке» простым нанизыванием коротких стихотворений, ранее им написанных. Строгая архитектоника свойственна драме и лирике, а не эпосу, и Хлебников всецело подтверждает это. У него в «Гуль-мулле» “сюжет” сам идёт вперед; во многих поэмах почти каждая строка может послужить началом («Хаджи Тархан»). Все его мелкие отрывки, а также так называемые “готовые” небольшие стихотворения — бусинки для будущего нанизывания в эпическое целое.
Даже в «Трубе Гуль-муллы», написанной от первого лица (очень эмоционально), органы чувств поэта — как бы только двери и окна для внешнего мира, старающиеся распахнуться как можно шире, чтоб впустить побольше этого мира. Обратной проекции “я” на мир у него нет. В этой объективности восприятия мира Хлебников, как ни странно это звучит, один из самых “пушкинских” русских поэтов. Горький совершенно не понял этого, когда писал в статье «О бойкости» («Правда» 28 февраля 1934 г.): „Я не поклонник Хлебникова ‹...› ‹Он› творил словесный хаос, стремясь выразить только мучительную путаницу своих узких и обострённо индивидуальных ощущений”. Хлебников никогда не стремился “выражать ощущения”.
Гёте сказал однажды: „Я называю классическим то, что здорово, а романтическим то, что нездорово”, и с этой точки зрения Хлебников, восклицавший
Он отрицал мистичность своих пифагорейских числовых фантазий, называл мистику сумерками, поисками наощупь. Он был против пены на устах, как у древних пророков, за холодный умственный расчёт, и в жизни стремился везде увидеть законы — не дикую быль, а силы земли.
Но продолжатель Декарта и Лейбница неудержимо идёт к стихийности «Трубы Гуль-муллы». Его трагедия «Ночной обыск» с трудом укладывается в греческую схему (не говоря уже о французской). Это, скорее, трагедия романтическая. Рационализм так и не смог задержать его летоты инес, и его строки с самого начала творческой деятельности
В конце пути, в «Зангези», посреди лингвистических опытов и числовых выкладок у него прорывается:
А если судить по описанию его черновиков, он не столько обрабатывал, сколько хаотично перерабатывал свои поэмы. Вот почему они кажутся неотделанными даже в третьем варианте.
Если свести все эти характеристики вместе, Хлебников предстаёт типичным человеком нашего времени: романтиком с тягой к классицизму.
Ни в одной из многочисленных строчек Хлебникова не найти типичных для его эпохи качеств — нездоровой эротики, скепсиса, презрения к окружающему. Почти ничто не искривлено уродливо-болезненно. Есть только некая светлая неуклюжесть, которую часто принимают ошибочно за юродство. Советская критика пытается изображать Хлебникова эстетом, но эта кличка совсем не идёт ему. У него совершенно отсутствуют черты снобизма. Желания быть непонятным у него тоже нет. Он не отворачивается от жизни к искусству, а даёт тому и другому равные права (для него даже не стоит обычная проблема — жизнь и искусство). Хлебников не эстет, а гигант-самоучка и фантаст. Гумилёв был прав, заметив в нём дикаря, касающегося каких-то пластов доисторического мышления, как Стравинский в «Весне священной». Ощущение этих пластов было у него и в жизни. Он пишет сестре:
Альберт Швейцер в своей монографии о Бахе развивает теорию синтетического творческого начала, утверждая, что в каждой творческой личности заложены три задатка — поэтический, музыкальный и живописно-пластический. Они получают в творческом процессе большее или меньшее развитие, независимо от того, имеет ли художник дело со словом, звуком или краской. По Швейцеру нет “чистых” творцов.
Подходя к Хлебникову с этой точки зрения, неожиданно открываешь, что наряду с очень сильно развитым словесным даром уникального типа в его творчестве своеобразно проявляются (вряд ли сознаваемые самим поэтом) музыкальные и живописные способности. Эта тема интересна и заслуживает более подробной разработки. В данных рамках можно лишь вкратце наметить вехи.
Если делить поэзию на песенно-мелодическую (Блок, Есенин) и мозаическую (Гумилёв, Брюсов), то Хлебников отойдет во вторую группу.18![]()
Эта симфоническая разработка словесного материала перекликается не с классическим типом сонатного аллегро, а скорее с так называемой “циклической формой”, где темы, модифицируясь, проходят через всё произведение. По-видимому, Хлебников не подозревал о своем музыкальном даре. Во всяком случае, в его теоретических рассуждениях об этом нет ни слова.
К музыкальным мотивам можно отнести и его любимые образы, проходящие через всё творчество (море, глаза, колосья, золото, бабочка, одуванчик). Иногда они, как образ русалки, совершенно алогично всплывают в самых неожиданных местах.
Живопись словом тоже может быть различной. Мы не будем говорить о звуковой живописи обычного типа (тоже частой у Хлебникова):
или
Речь также не идёт о заумной “звукописи”, теорию которой Хлебников излагает в статье «Наша основа», а на практике пробует интересно, но неубедительно продемонстрировать в «Зангези»:
Это и не перенос приёмов современной живописи19![]()
Нам хочется отметить метод ритмической живописи, которой Хлебников пользовался не очень часто, но удачно, хотя, по всей вероятности, тоже бессознательно.
Восхищение Хлебниковым при более углублённом знакомстве с ним почти неизбежно для каждого любителя поэзии, лишённого предрассудков. Однако на пути по нему — слишком много камней, и трудно воздержаться от негативной критики. Объединение адмирала Шишкова, Фурье, древнего халдея и Анри Руссо не могло остаться без последствий для поэта, который вынужден был жить с ними в одной оболочке. Если выражать упрёк в простейшей и самой резкой форме, можно сказать: Хлебников не был художником. Художник даёт или стремится дать окончательную и неповторимую форму своему произведению. Хлебников, видимо, просто не был в этом заинтересован, и поэтому его лучшие вещи выглядят черновиками. Фрагмент может быть художественным методом и часто бывает им, но всему есть пределы. Хлебников, должно быть, сам это чувствовал, когда заставил прохожего сказать Зангези: Сырьё, настоящее сырьё. Фраза иронична, но ирония обращается на поэта. По страницам его произведений действительно разбросано много сырья, неорганизованного и неорганизуемого. С горечью можно сказать, что его больше интересовали числовые утопии, чем поэзия.20![]()
Проблема вкуса футуристов не интересовала. Они вели войну с так называемым “хорошим вкусом”. Хлебникова она не интересовала потому, что он был занят более важными, по его мнению, вещами.21![]()
Андре Жид в разговоре с другом как-то сказал: „Помни, что гениальные художники никогда не начинали с предвзятой теории искусства. Они приходили к искусству собственным актом творчества, не желая и не зная этого. Вот почему их искусство ‹...› было новым”.
Хлебников навязывал поэзии свою лингвистику, а иногда и математику. Нельзя, конечно, не относиться с подозрением к тем, кто осуждает, например, Толстого-философа, восторгаясь Толстым-художником. Они забывают, что без философии истории «Война и мир», может быть, не была бы написана. Но у Хлебникова отчётливо видно, что его числовые теории и “работа над словом” очень часто портят его замечательные поэтические создания. Они — постороннее тело, царапающее поверхность. Сюда особенно относятся опыты с внутренним склонением, обычно ненужным придатком к хорошей поэме:
Хлебников, как Гоголь, имел особый талант “осмыслять” впоследствии то, что у него уже вылилось в форму. Так, эпиграф к «Ночному обыску»: 36 + 36 наверняка прибавлен позднее и не помогает лучше понять поэму. Эксперименты с таинственной начальной согласной (интересные и даже по-своему убедительные в статьях) в поэмах приобретают незамечаемый автором комический смысл:
Перефразируя Р. Якобсона, это можно назвать незаконным перенесением из науки, из философии в поэзию. Сам Хлебников под конец открыл, что вещь, написанная только новым словом, не задевает сознания. Как ни прекрасны его утопии, как ни интересны пифагорейские исчисления, эта вдохновенность (Невольно я числа слагал) не сливается с поэзией.
Некоторые из его приёмов при ближайшем рассмотрении достигают нежелательных результатов.
Сомнительным приёмом приходится признать игру на синонимах, которую считали “эмансипацией слов от значения”. Но строки
вызывают, главным образом, комические ассоциации:
Между прочим, полуграмотные русские оперные либретто дают неисчерпаемый кладезь “оговорок” a la Хлебников. В них можно найти не только “игру на синонимах”, но и немотивированно-неправильное ударение, стилистическую “свободу”, опущение необходимого местоимения:
и даже более “высокие” по сложности формы:
Всё это можно назвать страшной местью отброшенных критериев художественности, которые всё-таки предпочитают “столбовую дорогу”. Хлебников же любит бродить по просёлочным путям. Парий словесности — перевертни (Я иду с мечом судия. Madam, I’m Adam) он пускает роскошным маршем в своём «Разине». То, что веками служило забавой в школах и детских комнатах:
Детские загадки-шутки, которые до сих пор ведут беспризорную жизнь:
При всём симпатичном фантазёрстве этих затей, нельзя не замечать отсутствия в них чувства пропорции и неумения разобраться в подлинных ценностях.
Справедливы и частые упреки Хлебникову, что читать его иногда невозможно. Даже если принять во внимание, что многое — наброски, не предназначенные для опубликования, что „ни один русский поэт не был представлен читателю столь искажёнными текстами” (Ц. Вольпе. Литературный обзор. 1940, №17) — всё-таки Хлебников бывает ненужно трудным. Читая его, вспоминаешь строки Маяковского:
Он закрывает к себе пути. Полюбить его можно только после того, как „осанна через большую геенну сомнений прошла”, но не каждому может посчастливиться выйти из этой „геенны”. Даже утончённость не поможет. Наслаждение Хлебниковым подчас требует прощания с лучшими ценностями. Но на такую неравную сделку не всякий пойдёт. Непосредственное наслаждение, когда „нравится безотносительно к значению” (Кант), не всегда возможно. Не слишком ли сложен путь к нему? Так Хлебников, лично далёкий от снобизма, может оказаться поэтом для снобов.
Эти слова Хлебников произнёс в «Гибели Атлантиды» почти за десять лет до того, как Ходасевич сказал:
Может быть, он уже тогда почувствовал приближение нашей покинутой музами эпохи и бессознательно предпочёл скитаться по задворкам духа, сочинять перевертни, читать графоманские книги, мечтать, вычислять — и заменить прометеевскую концепцию Рока европейской поэзии своими ребяческими уравнениями рока. По иронии судьбы в 1921 г. в Ростове-на-Дону Хлебникова лишил слова поэт “ничевок” по фамилии Рок.
Все эти упрёки и возражения Хлебникову касаются ещё одного, возможно, самого главного. Правда, это относится не лично к нему, а ко всей “серебряной” эпохе. Речь идёт о недостатке человечности. Это часть трагедии русского интеллигента, начинающего с любви к людям, а кончающего догмой и чуть ли не концлагерями. Хлебников опустился в тайники слова и вынырнул оттуда с иероглифом, потеряв по дороге живой образ. В поисках инес он и впрямь стал марсианином. Не случайно он говорил собеседнику (Красная новь. 1927, № 8), что Пушкин, Сервантес, Руставели и Данте слишком человечны, пожалуй, только человечны. Поэт (хороший, плохой ли) — друг читателя. Хлебникова трудно взять в друзья. Но ведь в этом и есть подлинная связь поэзии с жизнью, а не в “отражении действительности”. Маяковский, который талантом меньше и ýже Хлебникова, скорее найдёт друга. Наш век — век Жида и Швейцера, век верности себе — вправе бросить Хлебникову этот упрёк. Будучи свидетелями рождения нового гуманизма, мы не можем согласиться с отказом от вкуса и препарированием живых слов.
Здесь уместно сопоставить Хлебникова с другим поэтом. Пастернак вышел из футуризма, но он не заканчивает “Серебряный век”, как Хлебников, а открывает пути последующей поэзии, может быть, более ясно, чем сам Хлебников. Пастернаку удался химический синтез того, что не мог объединить Хлебников. Он вошёл в природу слова художником, а не алхимиком — и вышел человеком этой планеты, а не Марса. Но Пастернак не мог бы возникнуть без Хлебникова. И Хлебников шире его, титаничнее.
Хлебников — трагическая неудача, — неудача, достойная большого поэта. Он сам это знал. Я чувствую гробовую доску над своим прошлым. Свой стих кажется чужим, записывает он в книжку 7-го декабря 1921 г., а в письме к Маяковскому в том же году роняет: Вместо сердца у меня какая-то щепка или копчёная селёдка, не знаю. Песни молчат. В поэме «Синие оковы» (1922 г.) он оставил строчку:
В. Гофман в статье о языке Хлебникова пишет, что он хотел быть общепонятным, но снискал репутацию самого непонятного поэта, хотел точности, но на самом деле „расшатывал значимость языка”, следовал идеям рационализма, а попадал всё время в иррациональное.
Человек с душой ребёнка, умом учёного и поэтическим гением забрёл в катаклизм революции. Его разорвало, как князя Игоря, деревьями — и творчески, и биографически.
Но Хлебниковым легче восхищаться, чем придираться к нему. Если мы даже откажем ему в подлинной художественности, нельзя сказать, что он — не поэт в лучшем значении этого слова. Перед нами чистая поэтическая энергия, стиховая лава. В его видении мира есть особая красота и неповторимость, свойственные только настоящим поэтам. Лучше всяких слов это может продемонстрировать начало стихотворения «Молот», где каменная порода, которую дробит молот, преподносится как мёртвое засохшее море (Море — один из любимых мотивов Хлебникова, а камень как сухое море — частая перифраза его поэм):
Увидеть в камне когда-то бывшее море и населить его флорой, фауной и мифологией, в ударах молота по породе увидеть удары по глазам русалок — для такого сочетания точности и фантазии нужно быть большим поэтом. Это приближается к пушкинскому „А далеко на севере, в Париже...” По форме здесь развёрнутая перифраза, кишащая маленькими метафорами,22![]()
Отрывок даёт достаточное представление о силе дарования Хлебникова, а о диапазоне его говорит то, что одна и та же рука написала это первобытное извержение и ласково-беззаботную безделушку (тоже с перифразой):
Конечно, не всё, написанное Хлебниковым, достигает такой интенсивности, к тому же сразу передающейся. У него много шлака. Но у него также много такого, что не даёт непосредственного наслаждения, от чего, однако, трудно отвязаться потом. Хлебников отталкивает, но ещё сильнее привлекает.
Лучший способ подхода к нему (и не к нему одному) — не доверять своему вкусу, а воспитывать во вкусе не только строгость, но и открытость. Любого поэта нужно читать несколько раз, первое впечатление обманчиво. Ведь по первому впечатлению можно пройти мимо Мильтона, сочтя его просто за творца массивной скуки; увидеть в Моцарте только плафоны в стиле рококо, а Ватто объявить селадоном в живописи. Нельзя судить о поэте и по немногим стихам, нужно прочесть по возможности всё. Стихи — не отдельные предметы, они — разные грани одной личности.
Хлебникова местами так же нельзя читать, как нельзя слушать позднего Баха или смотреть на сцене вторую часть «Фауста» Гёте. Они преступили границы своего искусства, но их привела к этому безмерность вдохновения. Об этом нужно помнить при ознакомлении с чисто экспериментальными вещами Хлебникова. Это не фокусы и не акробатика, а авантюризм духа или
“Непонятность” Хлебникова сильно преувеличена. Это одна из репутаций, созданных огульно. Большей частью он совершенно понятен. Часто при повторном чтении внезапно становятся ясными места, казавшиеся неразрешимыми при первом. Другое дело, что Хлебникова необходимо понять, иначе ничто не идёт на лад, тогда как некоторых поэтов можно любить, совсем не понимая или не заботясь о смысле того, что они пишут (Мандельштам, Батюшков, Уоллес Стивенс, Малларме). Неслучайно Хлебников радуется, узнав, что хата по-египетски тоже значит ‘хата’, а Мандельштам прекращает урок греческого языка, задохнувшись от самого звука грамматической формы “пепайдевкос”.
Интересно ещё, что сам “выверт” Хлебникова, а также то, что мы назвали блужданием по просёлочным дорогам, — не менее народны, чем хотя бы „грустный вой” Некрасова (если не более). Русский народ не “идеологичен”, он — формалист (это понимал Лесков). Нужно только прислушаться к бессмысленному юмору частушек и виртуозной изощрённости ругательств. В “широкой русской душе” Хлебников тоже не уступит многим монополистам этого качества:
Жизнь и творчество Хлебникова останутся, кроме того, на долгое время поэтическим примером. В XX веке уже начинают забывать, что жизнь поэта должна быть трудной. Лунц в своих письмах обронил замечание о поэте Ник. Тихонове: „Славный парень, хоть и прохвост”. То же можно сказать о многих талантливых советских поэтах. Хлебников оставил не только легенду о словеснике и чудаке, но и моральную легенду, он не предавал поэзию, хотя и принял революцию —
Того же чудесного преображения быта искали другие поэты („Преобразись, Смоленский рынок!” — Ходасевич). Его искал до конца дней своих Маяковский, который сперва верил, что
Но перед трибуналом духа дело Маяковского всё же придётся рассматривать как измену поэзии. Говорят, что Хлебников презирал его в последние годы жизни. Нечего и говорить о других. Приживалок революции пугал поэт, писавший:
В письме Хлебников пишет: ‹...› те, чье самолюбие не идёт дальше получения сапог в награду за хорошее поведение и благонамеренный образ жизни, шарахнулись прочь, и испуганно смотрят на меня.
Хлебников не пошёл в тупик “приемлемости”, тогда как все остальные, за исключением Мандельштама, кончили Каноссой. Это сделал даже Пастернак.
«Второе рождение» — замечательная книга, но это, по существу, и эстетическая, и моральная сдача. Сложность её в том, что Пастернак капитулирует не грубо и не просто. Он ещё защищается. Но он “честно” пробует многое принять — и это делает его фигурой благородной, но не героической.
От Хлебникова в последний раз в русской поэзии веет поэтическим бесстрашием. У него вольная душа нараспашку без непременного дешёвого привкуса, без надрыва, без „смотрите на меня, вот я какой”. Это потом сохранил опять-таки один Мандельштам, а у других — опаска, зашифрованность, искалеченность, надлом, лукавство.
У нашего времени есть тоска по нормальному, и, странно, “сумасшедший” Хлебников, этот жупел недалёких душ, в какой-то степени утишает эту тоску. Можно ли дать определённую оценку Хлебникову? Оценка — всегда вещь рискованная и неточная. История часто над ними смеётся. Поэтому начитанные в истории специалисты стали оценок избегать. На другом же полюсе стали скапливаться грубовато эмоциональные, но прочные оценки “широких масс”, которых история если и интересует, то лишь в какой-нибудь ходкой современной фальсификации. Таким образом, нарушается баланс. Нужда в несовершенной, но честной и разумной оценке, как в жизни, так и в искусстве, в наше время отчётлива.
Поклонники называли Хлебникова гением, хулители считают его или бездарностью, или кретином. Согласиться с первыми мешает неопределённость термина “гений” (скорее, не он гений, а ему свойственен гений), а также иногда слишком явное отсутствие у Хлебникова художественности. Вторым же, с полной ответственностью за свои слова, можно сказать: Хлебников — большой талант, одна из самых интересных фигур в русской поэзии, настоящий мечтатель и поэт, как будто нарочно появившийся в эпоху, когда вечные черты поэтического облика начали стушевываться или искажаться. Хлебников ждёт своего воплощения на страницах биографического или “биографиобразного” романа, чтобы потом продолжать жить именем нарицательным, младшим братом Дон-Кихоту и князю Мышкину. Кто сомневается в таланте Хлебникова, пусть прочтет «Трубу Гуль-муллы», в размахе его мечтаний — «Ладомир», в его фантазии — «Журавля», в глубине — «Поэта», в красочности — «Хаджи Тархан». Но следует помнить, что для всестороннего охвата и оценки нужно быть готовым к пересмотру своих вкусов. Во всяком случае, во второй ряд Хлебников не помещается. Наверное, поэтому его так охотно объявляют сумасшедшим или замалчивают — не знают, куда поставить.
Иногда появляется горькая мысль: ведь Хлебников имел в своем распоряжении один из самых пригодных для поэзии языков, но он неудачно выбрал место для рождения — страну, где обычно от поэтов ждут назиданий (см. «Поэт и чернь»), приятного эпигонства или водочного действия („чтоб за сердце хватало”). Эта страна дала миру замечательных поэтов, которых она всегда посылала на смерть. Если бы Хлебников родился в любой другой стране с богатой словесной традицией, его имя было бы сейчас на устах у всех любителей поэзии, и о нём бы много и интересно спорили. В СССР поэты и литераторы имеют хотя бы то оправдание, что Хлебников фактически запрещён. Какое оправдание имеют литературные круги русской эмиграции, трудно установить. Можно много говорить о потере критериев в современной западной культуре, о её “декадансе”, кризисе и “судорогах”. Но нашей недооценке Хлебникова причиной вовсе не прочность наших критериев и не наше умение разбираться в подлинной поэзии.
Надвигается апоэтическая эпоха, подобная той, которая застигла русскую литературу в последнюю треть прошлого века. Симптомов её приближения много: отсутствие литературных споров (за исключением базарных), угрожающее количество мемуаров в журналах и газетах, непомерный рост репутации Есенина даже в литературных кругах, наконец, то, что один американский писатель удачно назвал “упадком внимания”. И поэтому Хлебниковым надо сейчас дорожить. В нём заложены несчётные возможности — как для принятия, так и для отталкивания. Трудности его поэзии не дадут застыть и закоснеть. Он говорит:
Хлебников может не “доходить”. Но он бередит — весь, как “удачными”, так и “неудачными” строчками, и странными, и высокими идеями, наконец, своей жизнью, — как никто не бередит. Может быть, и послан он был не для “наслаждения”, а для толчка. Он — лучшее лекарство от эстетического отупения. Он возбуждает сознание, понуждает разобраться в невиданном. Ходить по нему бродягой духа — замечательное занятие. Он вызывает на эстетическую борьбу, принуждает задавать самые важные вопросы: что такое поэзия? для чего она? где её границы? Если даже не придёшь к ясному выводу — вопрос задан, а это главное.
Но тут нужно быть энтузиастом, литературным альпинистом. По поэзии надо карабкаться. По Пушкину, к сожалению, проложили шоссе — но только вокруг подножья; тропинок на вершину по-прежнему достаточно. К Хлебникову ведут только тропинки.
Хлебников — на высотах, не в наивно-символическом значении, а в конкретном: как нечто, растущее на горах. Деревья, растущие на горах, не лучше и не красивее тех, что растут в долинах. Они просто горные. Чтоб добраться до них, нужна не столько сноровка, сколько интерес к деревьям и немного упорства. Но оттуда, с гор, мир выглядит иначе. Недостойное внимания вдруг оказывается важным, “некрасивое” начинает светиться особой красотой. Но вряд ли энтузиаст-альпинист сможет “объяснить”, какие это красоты, и какой путь ведёт туда, на вершину. Его тропу уже засыпало. Он сам в другой раз полезет по новой. Туда каждый идёт своим путём.
Снизу же ничего не видно. Энтузиаст скажет: „Замечательно”, а ему возразят:
„Чего же тут замечательного?” Договориться трудно. Очевидно, прав Хлебников, и нужен мировой заумный язык. На нём не было бы сомнений, и замечательное было бы замечательным для всех.
1954
| персональная страница В.Ф. Маркова на ka2.ru | ||
| карта сайта | 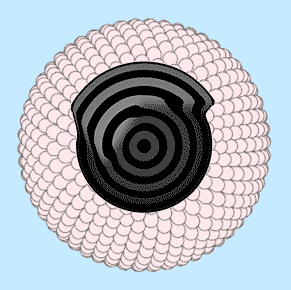 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||