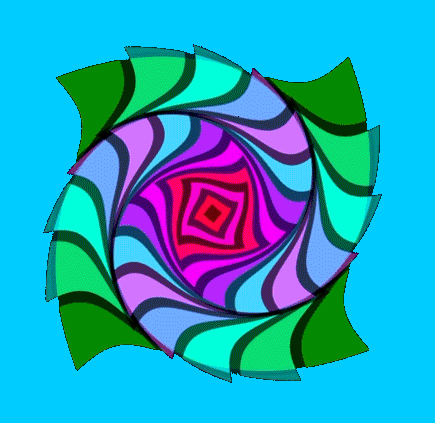Богомолов Н.А.
“Дыр бул щыл” в контексте эпохи
Интересующее нас стихотворение относится к числу самых знаменитых в истории русской поэзии конца XIX – начала ХХ века. Пожалуй, лишь брюсовский моностих может сравниться по степени известности с первой строкой стихотворения А. Кручёных, приведенной в заглавии.
1
Важность его для многих аспектов русской поэзии трудно переоценить. Так, по мнению Ж.-К. Ланна,
вся
заумная продукция у Кручёных есть не более как бесконечное варьирование — может быть, всё более и более рафинированное, но в принципе нисколько не более изобретательное — первоначальной находки “Дыр бул щыл”.
2
Вместе с тем нелишне, видимо, будет напомнить его текст, поскольку, как увидим далее, даже друзья автора не раз искажали текст бессмертного творения.
Впервые стихотворение было опубликовано в начале 1913 г. в книжке А. Кручёных «Помада», изданной способом „самописьма“, т.е. литографированной. На первой же странице текста можно было прочитать:
3 стихотворенiя
написаныя на
собственом языкѣ
от др. отличается:
слова его не имѣют
опредѣленаго значенiя
*
№ 1. Дыр бул щыл
убѣшщур
скум
вы со бу
р л эз
На этом первая страница заканчивалась, а на обороте следовали два других стихотворения этого цикла:
№ 2
фрот фрон ыт
не спорю влюблен
черный язык
то было и у диких
племен№ 3
Та са мае
ха ра бау
Саем сию дуб
радуб мала
аль3
Не будем касаться проблемы зауми как таковой, поскольку количество литературы, ей посвященной, огромно и труднообозримо, а концепции авторов расходятся иногда полярно,
4
ещё больше трудностей представляет собою обозрение работ, посвящённых русскому футуризму и авангарду, почти ни одна из которых не обходится без более или менее подробного разговора о зауми. Ограничимся учётом лишь специальных анализов стихотворения Кручёных.
Наиболее существенные факты из истории появления, авторского толкования и восприятия этого стихотворения представлены в комментариях С.Р. Красицкого к единственному в России репрезантативному собранию стихотворений Кручёных, и этим комментариям мы до определенного момента будем следовать.5
Прежде всего чрезвычайно существен рассказ самого Кручёных, записанный Н.И. Харджиевым, как появилось это стихотворение:
В конце 1912 г. Д. Бурлюк как-то сказал мне: „Напишите целое стихотворение из “неведомых слов”“. Я и написал “Дыр бул щыл”, пятистрочие, которое и поместил в готовящейся тогда моей книжке «Помада» (вышла в начале 1913 г.).
6
В том же 1913 году Кручёных говорил о своем стихотворении:
‹...› чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостинной ‹...› у писателей до нас инструментовка была совсем иная, напр. —
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...
Здесь окраску дает бескровное пе... пе... Как картины писанные киселем и молоком нас неудовлетворяют и стихи построенные на
па-па-па
пи-пи-пи
ти-ти-ти
и т.п.
Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок.
Мы дали образец иного звуко и слово сочетания, —
и далее, процитировав стихотворение полностью, добавил в скобках:
кстати в этом пятистишии больше русского национального чем во всей поэзии Пушкина.
7
И в другом месте:
В искусстве могут быть неразрешённые диссонансы — “неприятное для слуха” — ибо в нашей душе есть диссонанс, которым и разрешается первый. Пример дыр бул щыл и т.д.
8
Наконец, последнее из известных нам автотолкований стихотворения находится в воспоминаниях Кручёных об опере «Победа над солнцем» (1960), хотя там оно введено не впрямую:
Эренбург, в тетради Preuves ‹?› пытается с 40-лет‹ним› опозданием перевести на французский язык “
дыр бул щыл” — но это ему никак не удаётся ‹...› В. Даль в предисловии к своему толковому словарю говорит, ч‹то› по-русски писали только Крылов и Грибоедов, а у П‹ушкина› — ½ франц‹узская› речь. Вот я и попытался дать фонетический звуковой экстракт русского яз‹ыка› со всеми его диссонансами, режущими и рыкающими звуками (вспомните хорошие буквы ‘р’ ‘ш’ ‘щ’) и позднее — чтоб было “
весомо, грубо, зримо”: весомо = самый тяжёлый низкий звук, это и есть
еры. Кстати, пример и из Некрасова: „бил кургузым кнутом спотыкавшихся кляч” — это тоже настоящий русский язык. Конечно, если бы Даль услышал мой opus, он наверняка выругался бы, но не мог бы сказать, что это итальянская или французская фонетика.
9
Как своеобразный автокомментарий и до некоторой степени развёртывание некоторых мыслей читается высказывание Кручёных, воспроизведенное в воспоминаниях В.П. Нечаева:
В конце 1964 или начале 1965 года ‹...› он ‹Кручёных› ‹...› сказал: „Оно написано для того, чтобы подчеркнуть фонетическую сторону русского языка. Это характерно только для русского. Французы пробовали перевести на свой язык, да ничего не получилось. В русском языке это от русско-татарской стороны. Не надо в нём искать описания вещей и предметов звуками. Здесь более подчёркнута фонетика звучания слов. ‹...› Это есть в поэзии негров и в народной поэзии. Часто в детских считалках”.
10
Современники многократно по разным поводам ссылались на это стихотворение. Если отбросить сугубо негативные отклики и упоминания, то следует признать существенными, конечно, прежде всего суждения соратников Кручёных по футуристическому стану.
Хлебников охотно примкнул к самооценке стихотворения в «Декларации слова как такового»:
Дыр бул щыл точно успокаивает страсти самые расходившиеся.11
Казимир Малевич в частном письме рассуждал, приветствуя данный опыт Кручёных как поэзию, действительно лишенную смысла, освобожденную от него:
‹...› новые поэты повели борьбу с мыслью, которая порабощала свободную букву, и пытались букву приблизить к идее звука (не музыки). Отсюда безумная или заумная поэзия “дыр бул” или “вздрывул”. Поэт оправдывался ссылками на хлыста Шишкова, на нервную систему, религиозный экстаз и этим хотел доказать правоту существования “дыр бул”. Но эти ссылки уводили поэта в тупик, сбивая его к тому же мозгу, к той же точке, что и раньше. Поэту не удается выяснить причины освобождения буквы. Слова как в “таковое” — вылазка Кручёного и, пожалуй, она дает ему ещё существование. Слово “как таковое” должно быть перевоплощено “во что-то”, но это остается
тёмным, и благодаря этому многие из поэтов, объявивших войну мысли, логике, принуждены были завязнуть в мясе старой поэзии ‹...› Кручёных пока ещё ведёт борьбу с этим мясом, не давая останавливаться ногам долго на одном месте, но “во что” висит над ним. Не найдя “во что”, вынужден будет засосаться в то же мясо.
12
Подробнее всего это стихотворение анализировал Д. Бурлюк:
Я не знаю, в каком точно году составил Кручёных эти стихи, но не поздно здесь объяснить их. Нам теперь привычным и гордым кажется слово ‘СССР’ (звуковое) или же денежно-солидным (зрительное) ‘СШ’ ‹...› Я не пишу здесь исследования, но предлагаю для слов, подобных ‘СССР’, характеризующий процесс их возникновения термин — алфавитационное слово. Алфавитация словес: русский язык нужно компактировать... Титловать... сокращать... усекать. Кручёных, сам того не зная, создал первое стихотворение на принципе инициализации словес. Он поставил местами только заглавные инициальные звуки слов. ‹...› “Дыр Бул щол” — дырой будет уродное лицо счастливых олухов (сказано пророчески о всей буржуазии дворянской русской, задолго до революции, и потому так визжали дамы на поэзо-концертах, и так запало в душу просвещённым стихотворение Кручёных “Дыр бул щол”, ибо чуяли пророчество себе произнесенное).
13
Критики же, не принадлежавшие к будетлянскому лагерю, многократно упоминая стихотворение или даже цитируя его, полностью присоединялись к той точке зрения, что оно и в самом деле написано на неведомом, заумном языке, толкованию не подлежащем. Оценки же их касались удачности или неудачи этой попытки. В качестве образца процитируем только фрагмент из не изданной при жизни работы П.А. Флоренского:
Мне лично это “дыр бул щыл” нравится: что-то лесное, коричневое, корявое, всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом “р л эз” выводит, как немазанная дверь. Что-то вроде фигур Коненкова. Но скажете вы: „А нам не нравится“, — и я отказываюсь от защиты. По-моему, это подлинное. Вы скажете: „Выходка“, — и я опять молчу, вынужден молчать.
14
Позднейшие исследователи также не обошли стихотворение своим вниманием. В классической истории футуризма В.Ф. Марков писал:
Стихотворение начинается энергичными односложными словами, напоминающими русские или украинские; за ними следует этакое взлохмаченное и шершавое трёхсложное слово; затем как будто обрывки какого-то слова; две последних строки составлены из слогов и отдельных букв; заканчивается оно странным, совсем не по-русски звучащим слогом ‹...›
15
В какой-то степени его наблюдения варьировали очень многие, не занимавшиеся стихотворением специально. В качестве образца приведём фрагмент талантливой работы голландского исследователя:
Слово само по себе могло считаться произведением искусства. Это вело к знаменитому заумному языку, специфическому роду поэтического языка, часто в высшей степени экспериментальному, который не мог быть связан с определённым значением, а, в крайнем случае, вызывал некоторые неотчётливые смысловые ассоциации или эмоциональную реакцию. В наиболее крайней форме этот тип языка был развит Кручёных, значительная часть поэзии которого является чистым языковым экспериментом.
Затем цитируется «Дыр бул щыл...» вкупе с другими стихотворениями Кручёных, которые мы также будем цитировать далее, а в продолжении читаем:
“Значение” этих текстов главным образом находится в акцентировании “безобразных” звуков (например,
дыр бул щыл), которое может быть понято как полемика с символистскими предпочтениями слова-музыки. Тексты Кручёных вторят
шуму улицы, который прославляли футуристы. Этот
шум улицы является шумом как таковым: за ним нет никакой философии или символических идей.
16
Наиболее подробная статья, посвящённая стихотворению, принадлежит перу Нильса-Оке Нильссона. В ней автор сопоставил стихотворение Кручёных с манифестами Маринетти и Соффичи, произвел фонетический его разбор, отметив возможность прочтения как саморазрушительного стихотворения, воплощающего идею “смерти искусства”,17 а также определил черты сходства с фонетикой татарского языка. Заметив также подобие “Дыр бул щыл” японским принципам стихосложения (пять стихов, как в танке, и 16 слогов, что очень близко к 17 слогам в хайку), Нильссон приходит к выводам, которые имеет смысл процитировать:
а также определил черты сходства с фонетикой татарского языка. Заметив также подобие “Дыр бул щыл” японским принципам стихосложения (пять стихов, как в танке, и 16 слогов, что очень близко к 17 слогам в хайку), Нильссон приходит к выводам, которые имеет смысл процитировать:
Оппозиция “национальное” — “интернациональное” провозглашается на всех уровнях стихотворения: в стихотворной форме (японский стих vs традиционный русский), в фонематической структуре (экспрессивная, “примитивистская” звуковая структура vs романтическая мелодичность), на семантическом уровне (азиатский код vs русский код). Даже интерпретация стихотворения как иллюстрации того, как искусство соединяется с жизнью, может открываться в этой двойной перспективе: оно является важной частью программы итальянского футуризма, но оно являлось — как идея преображения жизни посредством искусства (делая последнее излишним) — также характерным для русского символизма.
18
Во многом следуя наблюдениям и выводам Нильссона, однако с добавлением анализа и двух сопутствующих стихотворений, свои решения продемонстрировал Дж. Янечек, задавшись в первую очередь целью продемонстрировать внутреннюю последовательность поэта в заданном им самим целом. Вместе с тем, по мнению исследователя, „всё равно мы должны довольствоваться большой долей намеренной неопределённости“,19 то есть на первый план выдвигается положение Кручёных о том, что „слова его не имеют определённого значения“.20
то есть на первый план выдвигается положение Кручёных о том, что „слова его не имеют определённого значения“.20 В известной степени параллельно его работе исследование Р. Циглер, приходящей, однако, к иным выводам: в своем стихотворении Кручёных „добирается до “изначальных элементов” предметного мира, до его языковой материи и её составляющих“.21
В известной степени параллельно его работе исследование Р. Циглер, приходящей, однако, к иным выводам: в своем стихотворении Кручёных „добирается до “изначальных элементов” предметного мира, до его языковой материи и её составляющих“.21
В качестве курьёза упомянем тезисы двух херсонских исследователей, полагающих, что в этом стихотворении изображено ожидание и начало грозы:
Мы видим словно тяжёлые тёмные страшные тучи ползут по небу “Дыр бул щыл”, тучи продвигаются медленно и печально. И вот поворот, яркая вспышка озарила небосвод — „вы-со-бу“, мы ощущаем этот поворот от темноты к свету и словно слышим рокотанье грома ‘бу’. ‹...› И окончание „р-л-эз“, в котором звуки ‘р’ и ‘л’ повторяют звуки р и л первой строки дыр и бул, но только кратко, быстро, экспрессивно, словно тьма после вспышки окутала небосвод и наконец звучит „эз“, фонетическая значимость которой обозначает нечто хорошее, величественное, светлое, быстрое (мы словно видим вдалеке ещё одну слабую вспышку), радостное, громкое, могучее и оптимистическое.
22
Ещё одно предположение о значении хотя бы одного слова из первой строки этого стихотворения высказал Г.А. Левинтон в докладе на Лотмановских чтениях 2003 года, предположив, что Кручёных воспользовался старым русским шифром, так называемой простой литореей, описанной в популярном учебнике А.И. Соболевского «Славяно-русская палеография», выходившем в Петербурге в 1902, 1906 и 1908 г., т.е. имевшем все шансы попасть в поле зрения поэта:
Наиболее распространена “
простая литорея”, состоящая в том, что согласные буквы делятся на две половины и подписываются одна под другою ‹...› Затем буквы первого ряда употребляются вместо соответствующих букв второго ряда и наоборот. Гласные буквы сохраняются. Старшая запись с этою простою литореею находилась в сгоревшем русском Прологе 1229 г.:
мацъ щыл(кь) томащсь нменсышви нугипу ‹...› т.е.
радъ быс(ть) корабль преплывши пучину...23
При обращении к тексту стихотворения мы исходим из предположения, что оно не является набором букв (или звуков), единственное основание которого — эмоциональное воздействие на читателя.24 Несколькими исследованиями блестяще показано, что некоторые тексты русских футуристов и обэриутов, кажущиеся на первый взгляд абсолютно непонятными, на деле обладают вполне рациональным содержанием, если подобрать определённый ключ для их прочтения.25
Несколькими исследованиями блестяще показано, что некоторые тексты русских футуристов и обэриутов, кажущиеся на первый взгляд абсолютно непонятными, на деле обладают вполне рациональным содержанием, если подобрать определённый ключ для их прочтения.25 Как нам представляется, для обретения возможности найти такой ключ имеет смысл попробовать вписать текст Кручёных в более широкий контекст — контекст русской поэзии его времени.
Как нам представляется, для обретения возможности найти такой ключ имеет смысл попробовать вписать текст Кручёных в более широкий контекст — контекст русской поэзии его времени.
Прежде всего речь идёт о том, что сам Кручёных называл „звуковой фактурой“, приводя в качестве примера одного из типов её („тяжёлая и грубая“) первую строчку как раз из интересующего нас стихотворения.26 Однако речь должна идти не просто о поверхностном впечатлении от набора звуков или их признаков,27
Однако речь должна идти не просто о поверхностном впечатлении от набора звуков или их признаков,27 но и о более существенном — как и какими именно сочетаниями звуков Кручёных стремился передавать общее впечатление от национального языка или языка художественного произведения.
но и о более существенном — как и какими именно сочетаниями звуков Кручёных стремился передавать общее впечатление от национального языка или языка художественного произведения.
Такие случаи в поэзии Кручёных достаточно регулярны. Выше мы уже приводили пример того, как он оценивал звуковое построение лермонтовского «Ангела». Вот ещё несколько образцов аналогичного подхода из различных его сочинений.
27 апреля в 3 часа пополудни я мгновенно овладел в совершенстве всеми языками. Таков поэт современности. Помещаю свои стихи на японском, испанском и еврейском языках:
икэ мина ни
сину кси
ямах алик
зел
ГО ОСНЕГ КАЙД
М Р БАТУЛЬБА
ВИНУ АН КСЕЛ
ВЕР ТУМ ДАХ
ГИЗ
ШИШ.28
‹...› всего «Евгения Онегина» можно выразить в двух строчках:
ёни — воня
се — и — тся.29
Подобных звуковых анализов у Кручёных немало. Как кажется, особо значимое место среди них отведено двум стихотворениям, где набор гласных букв шифрует сакральный текст. Это опубликованное отдельно «Высоты (вселенский язык)» и инкорпорированное в текст манифеста «Слово как таковое» стихотворение на том же „вселенском языке“.30 Более прост второй случай. В трёхстишии
Более прост второй случай. В трёхстишии
о е а
и е е и
а е е ѣ —
В.Ф. Марков проницательно увидел „гласные начала молитвы «Отче наш»“.
31
Со вторым стихотворением дело сложнее. Напомним его текст:
е у ю
и а о
о а
о а е е и е я
о а
е у и е и
и е е
и и ы и е и и ы32
В датированной шестым июня 1967 года дневниковой записи английский славист Г. Маквэй отмечал: „Я подарил ему ‹Кручёных› экземпляр антологии Modern Russian Poetry, изданной Владимиром Марковым и Меррилл Спаркс, и он просмотрел её ‹...›. Он отметил, что стихотворение «Высоты (вселенский язык)», единственное стихотворение Кручёных во всём этом томе, состоящее только из гласных, основано на гласных «Символа веры»“.33 В том же 1967 году в пятом томе альманаха «Воздушные пути» появилась статья В.Ф. Маркова «Трактат о трёхгласии», где он утверждал:
В том же 1967 году в пятом томе альманаха «Воздушные пути» появилась статья В.Ф. Маркова «Трактат о трёхгласии», где он утверждал:
Среди стихотворений Кручёных есть по крайней мере три, написанных целиком гласными. Из них, может быть, наиболее примечательное — «Высоты» ‹...› За этим рисунком из гласных довольно отчётливо проступает „Верую во единаго Бога“, кончаясь словами „видимым [же всем] и невидимым“.
34
Казалось бы, сомнений нет. Однако более внимательный анализ показывает, что и сам Кручёных, и исследователь несколько подтягивают факты к тому, что им хотелось бы видеть. Марков своей волей добавляет в начало второй строки две гласные — “о е”, чтобы получить более точное соответствие, он же убирает (ставя в квадратные скобки) слова “же всем”, т.е. ещё две гласные оказываются „пропущенными“. Но дело не только в этом. И Кручёных, и Марков не обратили внимания на то обстоятельство (или пренебрегли им), что слово ‘Верую’ по старой орфографии пишется через “ять”, а не через “есть”.
Весь этот разговор понадобился нам для утверждения в мысли, что довольно многие внешне совершенно “заумные” стихотворения Кручёных обладают неким смыслом, нуждающимся в выявлении.
Не будем сомневаться, что “Дыр бул щыл” — стихотворение, предназначенное для того, чтобы передать общее впечатление от русского языка. И этим можно было бы ограничиться, если бы не одно обстоятельство. Незадолго до его написания (напомним, — конец 1912 года), в апреле, вышла книга Владимира Нарбута «Аллилуиа», ставшая своеобразной сенсацией сезона, хотя была издана тиражом в 100 экземпляров и почти сразу же конфискована.35 Тем не менее, она попала в поле зрения критики,36
Тем не менее, она попала в поле зрения критики,36 а для С.М. Городецкого в манифесте «Некоторые течения в современной русской поэзии» стала одним из наиболее ярких предвещаний акмеизма. Эта книга открывалась стихотворением «Нежить», начало которого процитируем:
а для С.М. Городецкого в манифесте «Некоторые течения в современной русской поэзии» стала одним из наиболее ярких предвещаний акмеизма. Эта книга открывалась стихотворением «Нежить», начало которого процитируем:
Из вычурных кувшинов труб щуры и пращуры
В упругий воздух дым выталкивают густо,
И в гари прожилках, разбухший, как от ящура,
Язык быка, он словно кочаны капусты.
Кочан, ещё кочан — всё туже, всё лиловее —
Не впопыхах, а бережно, как жертва небу,
Окутанная испаряющейся кровию,
Возносится гореé: Благому на потребу.
37
Причины отмеченности именно этого стихотворения довольно очевидны. Прежде всего — это начальное положение в книге, задание основного тона, причём тона весьма необычного. Уже довольно давно М.Л. Гаспаров отметил, что тому есть причины и версификационные, и лексические. К первым относится уничтожение цезуры, обязательной в традиционном русском шестистопном ямбе, отчего не только „ритм становится трудно уловимым, и стих кажется тяжёл и громоздок“,38 но для современников и вся природа стиха становится иной. Кажется, говоря о том, что у акмеистов „‹...› уже есть стихотворения, написанные по вновь продуманной силлабической системе стихосложения“,39
но для современников и вся природа стиха становится иной. Кажется, говоря о том, что у акмеистов „‹...› уже есть стихотворения, написанные по вновь продуманной силлабической системе стихосложения“,39 Гумилёв говорил именно об этом нарбутовском стихотворении, поскольку ничего иного в существовавших на тот момент творениях акмеистов под эту характеристику не подходит.40
Гумилёв говорил именно об этом нарбутовском стихотворении, поскольку ничего иного в существовавших на тот момент творениях акмеистов под эту характеристику не подходит.40 Лексически здесь выделено прежде всего обилие диалектизмов (в том числе украинизмов) и архаизмов. Щуры — согласно М.Л. Гаспарову, „избяная нечисть“,41
Лексически здесь выделено прежде всего обилие диалектизмов (в том числе украинизмов) и архаизмов. Щуры — согласно М.Л. Гаспарову, „избяная нечисть“,41 пращуры — по Далю, родители прадеда и прабабки, а в более общем значении — дальние предки;42
пращуры — по Далю, родители прадеда и прабабки, а в более общем значении — дальние предки;42 формулы жертва небу и благому на потребу, хотя и не находят себе прямых соответствий в Библии, всё же отсылают именно к этому пласту лексики. К этому добавляется и то, что появляющийся далее щурёнок — не только „крысёнок (от украинского щур — крыса)“,43
формулы жертва небу и благому на потребу, хотя и не находят себе прямых соответствий в Библии, всё же отсылают именно к этому пласту лексики. К этому добавляется и то, что появляющийся далее щурёнок — не только „крысёнок (от украинского щур — крыса)“,43 но одновременно потомок щуров из первой строки (также отмечено О.А. Лекмановым), а впридачу вольно или невольно возникает межъязыковое недоразумение: щурёнок малороссийский начинает соотноситься со щурёнком русским, тем более что “болтается” он в жидких помоях.
но одновременно потомок щуров из первой строки (также отмечено О.А. Лекмановым), а впридачу вольно или невольно возникает межъязыковое недоразумение: щурёнок малороссийский начинает соотноситься со щурёнком русским, тем более что “болтается” он в жидких помоях.
Отметим также ненормативные ударения (прóжилках, а далее щéколды или щеколды́, но только не верной щекóлды), стилизованные под старославянизмы формы типа кровию или лению (вместо “ленью”), запутанный синтаксис — всё это вместе взятое создает впечатление „кунсткамеры“ русского языка, где осуществлен „подбор сильного, земляного, кряжистого словаря“.44
Но не менее значимо и впечатление от фонетической структуры «Нежити», — и тут воссоздана та же „кунсткамера“. Если проанализировать её, то без особого труда можно заметить, что из 19 (или 20; в зависимости от того, будем ли мы считать полновесным ударение на “он” в четвёртой строке) ударных гласных первой строфы стихотворения 11 — ‘ы’ или ‘у’, то есть те же, что составляют 5 из 6 гласных двух первых строк стихотворения Кручёных, а также первые 5 ударных гласных в нём. Да и сочетаниями гласных с согласными три первые строки “Дыр бул щыл” также весьма напоминают нарбутовские строки, только не всегда в прямом соответствии, а иногда в виде своеобразных анаграмм. „Дыр“ находит себе соответствие в „упругий воздух дым“ (и далее: „домовихой рыжей“, „над сыровцем“, „дружней подбрасывай“, „у щеколды пороги“, „турят дым“). Сюда же относятся многократно встречающиеся “ды” (дважды „дым“, „дымоход“, „воздыханий“, „колоды“), “ыр” („сыровцем“, „швыряет“), “ры” („щуры и пращуры“, “рыжей”). Наконец, последнее слово «Нежити» („льнянокудрый“) содержит в себе искомое сочетание в виде точной анаграммы (дыр — дры).
„Бул“ — в точности повторено в слове „булькая“, в обращённом виде — в „клубками“, а частично в виде сочетаний “бу”, “бл”, “ул” — в словах „разбухший“, „небу“, „благому“, „благодарят“, „болтается“, „благодарность“, „облака“, „повиснули“. Недалеко ушло и слово „бельмо“.
„Щыл“, конечно, в точном виде повторено быть не может, поскольку в русском языке сочетание звуков ‘щ’ и ‘ы’ невозможно, однако сами по себе звуки многократно повторяются у Нарбута, — доказательства здесь излишни, достаточно только вспомнить первое четверостишие «Нежити».
„Вы“ — уже второй слог у Нарбута (ср. тот же слог во второй строке — „выталкивают“), — ну, и так далее. Сказанного, пожалуй, достаточно для формального подтверждения первого слухового ощущения, возникающего при сравнении стихов Нарбута и Кручёных.
Но особенно явственно третья—пятая строки стихотворения Кручёных оказываются ориентированы всё же не на начало, а на конец стихотворения Нарбута. Вот последние две его строфы:
Шарк, — размостились по углам: вот-как на пасеке
Колоды, шашелем поточенные, стынут.
Рудая домовиха роется за пазухой,
Скребёт чесалом жёсткий волос: вошь бы вынуть.
А в крайней хате в миске-черепе на припечке
Уху задёргивает плёнка перламутра,
И в сарафане замусоленном на цыпочки
Приподнялся над ней ребёнок льнянокудрый...
45
Третья и четвертая строки Кручёных (скум / вы со бу) оказываются полностью входящими в звуковой состав строки „Скребёт чесалом жёсткий волос: вошь бы вынуть“, а пятая — аналогично растворена в строке: „Уху задёргивает плёнка перламутра“.
Отметим, что в данном случае мы воздерживаемся от анализа проблемы соотношения звука и буквы в поэзии Кручёных, хотя она весьма важна. Делаем мы это отчасти потому, что в плане теоретическом она уже была рассмотрена Дж. Янечеком,46 а отчасти и потому, что даже чисто практически, при чтении стихотворения вслух, мы не можем точно сказать, как произносится последняя строка, ибо существует как минимум четыре варианта, имеющих равное основание для существования „р л“ мы можем читать 1) как звуки; 2) как официальные названия букв гражданского алфавита, т.е. “эр эль (или эл)”; 3) как названия неофициальные, но тем не менее вполне употребимые в речевом обиходе: “рэ лэ”; и, наконец, 4) как названия букв кириллицы: “рцы люди”. Каждая из этих возможностей, как кажется, предоставляет немало оснований для размышления и сопоставлений, но пока что мы ограничиваемся лишь пониманием их как звуков.
а отчасти и потому, что даже чисто практически, при чтении стихотворения вслух, мы не можем точно сказать, как произносится последняя строка, ибо существует как минимум четыре варианта, имеющих равное основание для существования „р л“ мы можем читать 1) как звуки; 2) как официальные названия букв гражданского алфавита, т.е. “эр эль (или эл)”; 3) как названия неофициальные, но тем не менее вполне употребимые в речевом обиходе: “рэ лэ”; и, наконец, 4) как названия букв кириллицы: “рцы люди”. Каждая из этих возможностей, как кажется, предоставляет немало оснований для размышления и сопоставлений, но пока что мы ограничиваемся лишь пониманием их как звуков.
Чтение стихотворения Кручёных “на фоне Нарбута” даёт дополнительные аргументы в пользу той точки зрения, что при своём появлении акмеизм и футуризм были связаны значительно теснее, чем это обычно представляется. Пионерская работа в этом отношении была проделана в своё время Р.Д. Тименчиком, однако поддерживалась и продолжалась не часто. Позволим себе напомнить лишь одну цитату, уже частично использованную нашим предшественником. В письме к Кручёных Хлебников говорил:
Пылкие слова в защиту Адама застают вас вдвоём вместе с Городецким. В этом есть смысл: мы пишем после “Цусимы”. Но Адамом нужно быть, а сурьма и белила не спасут обманщиков. Строго? Кто молод, тот отче людей. Но быть им большая заслуга и кто может — пусть им будет.47
Конечно, стихотворение Нарбута также основывалось на некотором представлении о свойствах русского (малороссийского) языка. Так, например, видимо, стоит учесть в связи с этим фрагмент «Петербурга», где в первой же главе незнакомец, разговаривающий с Липпанченко, произносит:
В звуке ‘ы’ слышится что-то тупое и склизкое... Или я ошибаюсь?.. ‹...› Все слова на еры тривиальны до безобразия: не то ‘и’; ‘и-и-и’ — голубой небосвод, мысль, кристалл; а слова на “еры” тривиальны; например: слово рыба; послушайте: р-ы-ы-ы-ба, то есть нечто с холодною кровью... и опять-аки м-ы-ыло: нечто склизкое; глыбы — бесформенное: тыл — место дебошей... Незнакомец прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним бесформенной глыбою; и дым от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец мой на него посмотрел и подумал „тьфу, гадость — татарщина“... Перед ним сидело просто какое-то “Ы”...;
и вослед этому рассуждению звучит вопрос:
„Извините, Липпанченко: вы не монгол?“
48
Конечно, мы не можем утверждать, что Нарбут знал этот фрагмент романа, когда писал свое стихотворение, поскольку нам не известна точная дата сочинения стихотворения «Нежить»,49 равно как и то, мог ли Нарбут познакомиться с не опубликованным в то время текстом (да и трудно утверждать, что именно этот пассаж уже присутствовал в завершенных к тому времени главах «Петербурга», ибо текст романа многократно перерабатывался ещё на стадии черновиков). Однако отметим, что в январе–феврале 1912, то есть за некоторое время до выхода в свет «Аллилуии», Белый в Петербурге активно читает роман в различных домах, и среди слушателей фиксируются Гумилёв, Городецкий и Кузмин,50
равно как и то, мог ли Нарбут познакомиться с не опубликованным в то время текстом (да и трудно утверждать, что именно этот пассаж уже присутствовал в завершенных к тому времени главах «Петербурга», ибо текст романа многократно перерабатывался ещё на стадии черновиков). Однако отметим, что в январе–феврале 1912, то есть за некоторое время до выхода в свет «Аллилуии», Белый в Петербурге активно читает роман в различных домах, и среди слушателей фиксируются Гумилёв, Городецкий и Кузмин,50 т.е. трое из тех, что принимали активное участие в обсуждении пока ещё неясно вырисовывавшейся программы акмеизма на заседаниях «Цеха поэтов» в начале 1912 года.
т.е. трое из тех, что принимали активное участие в обсуждении пока ещё неясно вырисовывавшейся программы акмеизма на заседаниях «Цеха поэтов» в начале 1912 года.
Особую проблему представляет собой соотношение внешнего облика книг Нарбута и Кручёных. Не претендуя на её решение, отметим только несколько существенных моментов. Прежде всего, книга Нарбута представляла собою весьма незаурядное произведение типографского искусства. Её завершало торжественное перечисление: „Книга «Аллилуиа» набрана и предана тиснению в типографии «Наш Век» (С.-Петербург, Невский пр., № 140–2) — под наблюдением управляющего последней — Ф.Я. Шевченко — в апреле 1912 года. Клише для книги изготовлены цинкографией Голике, причём контуры букв заимствованы из Псалтири, относящейся по времени к началу 18 века и принадлежащей Ф.М. Лазаренко. Клише для обложки выполнено по набору, сделанному Синодальной типографией. Прочие украшения — работы И.Я. Билибина, Е. Нарбута и М.Я. Чемберс“.51 По мнению многих, именно рассчитанно кощунственное соотношение оформления и тематики многих стихотворений послужило причиной конфискации книги. Во всяком случае, в глаза бросался внешний облик сборника: плотная, “под старину” бумага с водяными знаками, неровный обрез, старославянский шрифт, выделенные красным цветом буквицы и другие элементы текста (в том числе общее посвящение книги В.С.Ш., не попавшее в современные издания).52
По мнению многих, именно рассчитанно кощунственное соотношение оформления и тематики многих стихотворений послужило причиной конфискации книги. Во всяком случае, в глаза бросался внешний облик сборника: плотная, “под старину” бумага с водяными знаками, неровный обрез, старославянский шрифт, выделенные красным цветом буквицы и другие элементы текста (в том числе общее посвящение книги В.С.Ш., не попавшее в современные издания).52 Открывал книгу вполне гладкий портрет поэта, исполненный М.Я. Чемберс-Билибиной. Особая изысканность издания, одновременно и продолжавшего традицию мирискусничества, и пародировавшего её, а также очевидная дороговизна осуществления книги вполне могли сказаться в замысле футуристических сборников, в том числе и изданий Кручёных.
Открывал книгу вполне гладкий портрет поэта, исполненный М.Я. Чемберс-Билибиной. Особая изысканность издания, одновременно и продолжавшего традицию мирискусничества, и пародировавшего её, а также очевидная дороговизна осуществления книги вполне могли сказаться в замысле футуристических сборников, в том числе и изданий Кручёных.
Описывая первые издания футуристов, прежде всего Кручёных, Е.Ф. Ковтун говорил:
Нет сомнения, что в намерения авторов литографированных сборников входили сознательный эпатаж читателя, издёвка над привычными вкусами, разрушение эстетических шаблонов и стереотипов восприятия. Серая дешёвая бумага, картонные обложки, небрежность брошюровки были вызовом эстетским пристрастиям книге «Мира искусства». Возникла своего рода “антикнига” в сравнении с роскошными изданиями «Мира искусства» или «Аполлона».
53
Это утверждение представляет собою достаточно общее место в обширной литературе о книгах русского футуризма, но ни в нём, ни в других известных нам работах подобного рода книга Нарбута как одновременно книжный шедевр и пародия на него в качестве потенциального источника “анти-книг” не упоминалась.
Возвращаясь к интересующему нас стихотворению, напомним также, что «Дыр бул щыл...» впервые было опубликовано и, следовательно, может быть рассмотрено как первая часть триптиха, где в свете наших наблюдений также будет небезынтересно поискать параллели с современной литературой. Прежде всего отметим, что, как и “Дыр бул щыл”, два остальных стихотворения состоят из пяти строк и насчитывают 21 и 18 слогов, что также сближает их с поэзией японской. Мало того, второе стихотворение и самим своим звуковым обликом, как кажется, ориентировано на звучание вошедших уже к тому времени в русский язык японских слов. Прежде всего, конечно, это относится к началу второй строки, где „ха ра“ прямо заимствовано из самого знаменитого японского слова — ‘харакири’. Первая же строка довольно близка по звучанию ко вполне известному русским слову ‘Ямато’. В наиболее известном пособии по японской поэзии Г.А. Рачинский в качестве образца приводит танку:
С чем бы сравнил я
Великий дух Ямато,
Родины нашей,
Как не с дыханьем цветов
Утром, при встрече зари.
54
Вероятно, в связи с этой цитатой следует отметить, что для автора книги о японской поэзии её принципы постоянно оказываются соотнесёнными с принципами поэзии европейской. Так, например, рассматривая форму танки, он пишет:
‹...› на место ритма тонического вступает логический — ритм отдельных фраз и предложений. На нём и построена форма “танки”, ставшей почти исключительной формой японской поэзии. Это — маленькое стихотворение в пять строчек, построенных по схеме 5+7+5+7+7 слогов, причём первые три строчки образуют главную мысль, а две последних заключение к ней. Таким образом, танка всегда может быть сведена для нас к двустишию, с тем же общим числом слогов. В греческой, а за ней и в других европейских литературах таким двустишием в 31 слог является так называемый “дактилический дистих”, соединение гексаметра с пентаметром,
55
а подводя итоги последней эпохи развития японской поэзии, говорит:
Европейская стихотворная техника была усвоена японцами так же быстро, как и техника внешнего быта. Впрочем, успехи европейцев длились недолго, и за последнее десятилетие наблюдается уже возвращение к старым национальным формам японского искусства. Это возвращение служит уже само залогом того, что принятая культура будет действительно и жизненно переработана в плоть и кровь японского народа. И знакомая нам лирика танок убеждает нас, что какие бы всходы ни дал в будущем японской поэзии посев Гёте, Шиллера, Байрона и Шелли — в этих всходах будет неизменно цвести и благоухать ‹...› душа японского народа...
56
Рассмотренное на фоне этого текста стихотворение Кручёных, как кажется, лишь подтверждает наблюдения Н.О. Нильссона, о которых мы говорили выше. Вспомним вдобавок ещё письмо Хлебникова к Кручёных, где он, говоря: Между прочим, любопытны такие задачи, — под № 7 называет одну из них:
Японское стихосложение. Оно не имеет созвучий, но певуче. Имеет 4 строчки. Заключает, как зерно, мысль и как крылья или пух, окружающий зёрна, видение мира. Я уверен, что скрытая вражда к созвучиям и требование мысли, столь присущее многим, есть погода перед дождём, которым прольются на нашу землю японские законы прекрасной речи.57
Добавим также и сходство фонетических представлений Кручёных о японском языке в заключительных двух строках этого стихотворения („радуб мала аль“) с уже цитировавшимся ранее стихотворением, написанным в момент, когда поэт „мгновенно овладел в совершенстве всеми языками“: „ямах алик зел“. Нам неизвестно, что именно заставило автора именно таким образом интерпретировать фонетическую природу японского языка (кажется, слова напоминают скорее арабский или какой-то тюркский), но сам факт кажется явственным.58 Впрочем, объяснением здесь может служить, что в только что цитированном письме, где Хлебников ставил очередные задачи будетлянам, он продолжал:
Впрочем, объяснением здесь может служить, что в только что цитированном письме, где Хлебников ставил очередные задачи будетлянам, он продолжал:
Созвучия имеют арабский корень. Здесь предметы видны издали, только дальний гибнущий корабль во время бури с дальнего каменного утёса.59
В несколько ином контексте должно быть рассмотрено серединное стихотворение триптиха, написанное на смеси языка заумного и общепонятного. Собственно заумна в нём лишь первая строка, остальные же вполне ясны, особенно если допустить, что, подобно Д. Бурлюку, Кручёных в нём опускает союз ‘в’, с которого должна была бы начинаться третья строка: „влюблен ‹в› чёрный язык“.
Кажется, нет особенной надобности говорить о том, насколько важен был для художников русского авангарда интерес к африканскому искусству, — впрочем, не только для них, но и для западных художников.60 Однако в литературе дело обстояло несколько по-иному. Чёрная Африка была предметом интереса, основанного на знаниях и личных впечатлениях, едва ли не у единственного русского поэта — Н.С. Гумилёва. Напомним, что за год до интересующих нас событий петербургский журнал оповестил:
Однако в литературе дело обстояло несколько по-иному. Чёрная Африка была предметом интереса, основанного на знаниях и личных впечатлениях, едва ли не у единственного русского поэта — Н.С. Гумилёва. Напомним, что за год до интересующих нас событий петербургский журнал оповестил:
13 апреля Вячеслав Иванов сообщил Обществу (Ревнителей художественного слова. —
Н.Б.) свою оценку образцов абиссинской народной поэзии, записанных и переведённых Н.С. Гумилёвым во время его недавнего африканского путешествия. В.И. Иванов сначала показал, что каждому искусству свойственна особая стихия, непрестанное соприкосновение с которой необходимо для полного и органичного его развития. Для словесного творчества такой стихией является народная поэзия. Затем В.И. подробно разобрал одну абиссинскую оду и показал, что она удовлетворяет основным требованиям к актуальности, реальности и прегнантности поэтического восприятия.
После доклада присутствовавшие поэты прочитали неизданные стихотворения. Н.С. Гумилёв произнёс циклическое произведение «Блудный Сын», вызвавшее оживленные прения о пределах той свободы, с которой поэт может обрабатывать традиционные темы. Вячеслав Иванов прочитал стихотворение в форме газэлы, на абиссинские мотивы, связанное с рассказами Н.С. Гумилёва о вышеупомянутом путешествии; оно послужило поводом к обмену мыслей о пределах применения газэлы как национальной формы. Затем читали свои стихи М.А. Зенкевич и Ю.Н. Верховский.
61
Как правило, этот отчёт привлекал к себе внимание исследователей как источник сведений о том расхождении между Гумилёвым и Вяч. Ивановым, которое потом Ахматова полагала одной из причин “бунта” первого, а следовательно — и возникновения акмеизма. Мы же хотели бы обратить внимание на первую из процитированных частей хроникального известия, где говорится о переводах Гумилёва из абиссинской поэзии. Нет сомнений, что речь тут идёт о четырёх «Абиссинских песнях», напечатанных в том же 1911 году в «Антологии» книгоиздательства «Мусагет», а в 1912 году вошедших в сборник Гумилёва «Чужое небо». Вряд ли Кручёных так пристально следил за периодикой, чтобы обратить внимание на предупреждение автора, сообщившего в рецензии на «Антологию»: „Четыре абиссинские песни автора этой рецензии написаны независимо от настоящей поэзии абиссинцев“.62 Для него они должны были восприниматься именно как переводы народной поэзии, одушевляющей поэзию литературную. Это было тем вероятнее, что в большинстве рецензий на «Чужое небо» «Абиссинские песни» так или иначе были отмечены, а Б. Садовской, которого футуристы не могли воспринимать иначе как беспомощного пассеиста, неодобрительно говорил: „Имена и названия, вроде Харрар, Аксум, Тигрэ, Габеш, Сенаар, Левант, Смирна пестрят на страницах «Чужого неба»“.63
Для него они должны были восприниматься именно как переводы народной поэзии, одушевляющей поэзию литературную. Это было тем вероятнее, что в большинстве рецензий на «Чужое небо» «Абиссинские песни» так или иначе были отмечены, а Б. Садовской, которого футуристы не могли воспринимать иначе как беспомощного пассеиста, неодобрительно говорил: „Имена и названия, вроде Харрар, Аксум, Тигрэ, Габеш, Сенаар, Левант, Смирна пестрят на страницах «Чужого неба»“.63
На первый взгляд, “заумная” строка в стихотворении Кручёных с гумилёвскими „песнями“ не связана. Однако она вполне может проецироваться на другое стихотворение из той же книги — «Гиппопотам» Теофиля Готье и конкретнее — на четверостишие:
Свистит боа, скользя над кручей,
Тигр угрожающе рычит,
И буйвол фыркает могучий,
А он пасётся или спит.
64
‘Фыркает’ + ‘он’, то есть сам гиппопотам, полностью покрывают звуковой состав „фрот фрон ыт“. При этом вряд ли стоит забывать, что сочетание ‘фр’ является ключевым для метаописательного по отношению ко всему пятистишию названию «Африка».
Однако внимательные читатели Гумилёва (или Гумилёва–Готье) могут резонно вроде бы возразить: ведь в стихотворении мы читаем: „Гиппопотам с огромным брюхом / Живет в яванских тростниках“, и, стало быть, с Африкой его никак невозможно ассоциировать.
Не говоря уж о том, что гиппопотам равно возможен и в Индонезии, и в Африке, напомним, что поэтика Гумилева нередко использовала возможности намеренной или случайной ошибки. Так и в стихотворении Гумилёва–Готье мы находим ассагаи („Ни стрел, ни острых ассагаев“) и сипаев („И пули меткие сипаев“), да и самому гиппопотаму приписан панцирь, который есть у носорога, а отнюдь не у описываемого животного, то есть гумилёвский гиппопотам становится одновременно и индонезийским, и индийским, и африканским, да и не гиппопотамом только. Тогда мы вполне можем допустить и у Кручёных „чёрный язык“ как обозначение всех „диких племён“, независимо от того, где они существуют: в Африке или Австралии, в Южной Америке или Полинезии. Это, в свою очередь, выводит нас на проблему примитивизма в русском и не только русском авангарде.65
Таким образом, с нашей точки зрения, стихотворение (и, несколько шире, стихотворный триптих) А. Кручёных существует не само по себе, а теснейшим образом соприкасается с другими программными произведениями русского искусства, создававшимися и появлявшимися в свет в 1911–1912 годах. Тем самым становится более понятным, почему «Утро акмеизма» О. Мандельштама открывается полемикой с футуризмом и „словом как таковым“: не только рассмотренная А.Г. Мецем полемика с футуристическими выступлениями и манифестами66 определяет полемический пафос, но и сама поэтическая практика. Объясняется этим, как кажется, и настроение письма Нарбута к М.А. Зенкевичу, написанного 17 декабря 1913 года:
определяет полемический пафос, но и сама поэтическая практика. Объясняется этим, как кажется, и настроение письма Нарбута к М.А. Зенкевичу, написанного 17 декабря 1913 года:
‹...› О сближении с кубофутуристами. ‹...› Я, конечно, не имею ничего против их
литературной платформы. Даже больше: во многом с нею согласен. ‹...› Разница между ими и нами должна быть только в
неабсурдности. Нельзя же стихи писать в виде больших и малых букв и — только! Следовательно,
почва для сближения между ими и нами (тобой и мной), безусловно, есть. Завяжи с ними небольшую дружбу и — переговори с ними, как следует. Я — согласен и на слияние принципиальное. Мы — так сказать — будем у них центром.
67
И далее — ещё более выразительно:
Относительно издания сборника — тоже вполне согласен: да, нужны и твой и мой. Можно и вместе (хорошо бы пристегнуть стихи какого-либо примкнувшего к нам кубиста). Мандель мне не особенно улыбается для
этой именно затеи. Лучше Маяковский или Кручёных, или ещё кто-либо, чем тонкий (а Мандель, в сущности, такой) эстет.
68
В свою очередь, как хотя бы частичное подтверждение нашего предположения о пристальном интересе Кручёных к поэзии Нарбута, отметим, что в позднем стихотворении (или небольшой поэме) «Слово о подвигах Гоголя» Кручёных совершенно очевидно ориентируется не только на творчество Гоголя (что отлично раскрыто комментарием Н. Гурьяновой69 ), но и на поэзию Нарбута. Как представляется, наиболее очевидно это высказалось в строках Кручёных:
), но и на поэзию Нарбута. Как представляется, наиболее очевидно это высказалось в строках Кручёных:
Так пел перед казаками и казачками,
ставшими в круг,
старец-бандурист
на хуторе
близь города Глухова.70
Конечно, как справедливо отмечено комментатором, тут переносится в стихи фрагмент из последней главы «Страшной мести»: „В городе Глухове собрался народ возле старца бандуриста, и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре“. Однако немаловажно сказать, что у Гоголя речь идёт о самом городе, тогда как у Кручёных — о хуторе. Именно там, на хуторе Нарбутовка близ Глухова, Нарбут родился и жил не только в детстве, но и в годы Первой мировой войны. На другом хуторе — Хохловка — под Глуховом он пережил налёт банды в новогоднюю ночь 1917/18 года и был искалечен. С Глуховом и его окрестностями связаны многие стихи Нарбута, которые без труда могут быть спроецированы на интересующее нас стихотворение Кручёных. Особенно существенны, как кажется, параллели не только со стихами из «Аллилуии», но и состихотворением «Левада» (или «Левады»), долженствовавшим открывать не вышедший сборник «Вий».
Впрочем, тут мы скорее склонны предположить вторичный интерес Кручёных к погибшему Нарбуту: как хорошо известно, близко друживший с Кручёных Н.И. Харджиев был поклонником творчества Нарбута и именно по его инспирации в 1940 году Ахматова написала стихотворение «Про стихи Нарбута» (в советской подцензурной печати именовалось «Про стихи»).
Вместе с тем имеет смысл сказать, что не только проекция на контекст может дать нам ключи к истолкованию стихотворения Кручёных, но и обращение к его более поздним теориям.
Сравнительно недавно появились публикация и статья, вводящие в научный оборот теорию “мгновенного творчества”, пропагандировавшуюся Кручёных в 1915–1916 годах. Несомненно, у нас нет доказательств того, что она может быть применима к “Дыр бул щыл”, написанному ранее. Но всё-таки не может не привлечь внимания, что термины и примеры, которыми в это время оперирует Кручёных, разительно напоминают слова и строки “Дыр бул щыл” и других стихотворений триптиха.
Так, в редакции «Декларации слова как такового», приготовленной в 1917 году, Кручёных вводит пункт, отсутствовавший как в предшествовавшей редакции (1913), так и в последующей (1921):
В заумной поэзии достигается высшая и окончательная всемирность и экономия — (эко-худ) пример: хо — бо — ро.
71
Но в чуть более ранних письмах сочетанию „эко-худ“ соответствует иное — „эко-эз“, что, обозначая на языке Кручёных “экономия — поэзия”, „самая всеобщая и краткая (заумная) поэзия“,72 разительно напоминает о том, что именно слогом ‘эз’ заканчивалось “Дыр бул щыл”.
разительно напоминает о том, что именно слогом ‘эз’ заканчивалось “Дыр бул щыл”.
Тем самым мы получаем возможность попробовать свои силы в том, что с такой наивностью проделал Бурлюк, расшифровывая — напомним — первую строку в собственной интерпретации как „дырой будет уродное лицо счастливых олухов“. Как кажется, с точки зрения „эко-эз“ (повторимся, мы не можем быть уверены, действительно ли Кручёных уже в конце 1912 года мог применить эти принципы к своей собственной поэзии) последняя строка занимающего нас стихотворения может быть декодирована как метаопределение „поэзия ‹о› русской литературе“. Ещё более заманчива (хотя и ещё менее внятно доказуема) гипотеза о том, что если читать согласные последней строки не как отдельные звуки, а как названия букв кириллической азбуки, то у нас получится замечательное сообщение: “рцы люди поэзия”, в свою очередь могущее расшифровываться несколькими способами для приведения к окончательно “разумной” форме. А „хо — бо — ро“ предстает вариантом „ха ра бау“ из третьей части “триптиха”.73 Тем самым стихотворение Кручёных получает возможность быть воспринятым как порождение языка, стремящегося к компактной одномоментности и тем самым концентрирующего в себе все преимущественные свойства языка “разумного”.74
Тем самым стихотворение Кручёных получает возможность быть воспринятым как порождение языка, стремящегося к компактной одномоментности и тем самым концентрирующего в себе все преимущественные свойства языка “разумного”.74
В заключение позволим себе отметить ещё внешнюю связь стихотворения Кручёных. Как кажется, оно стало претекстом известного четверостишия Маяковского из «Приказа по армии искусств»:
Громоздите за звуком звук вы
и вперёд,
поя и свища.
Есть ещё хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
75
Помимо звукового образа всего стихотворения Кручёных (особенно первой и двух последних его строк), первые два стиха Маяковского практически полностью анаграммируют саму фамилию Кручёных — если понимать букву ‘щ’ не как традиционное московское ‘ш’ долгое мягкое, а как петербургское ‘ш’ч’’,76 то в этих строках для полной анаграммы недостаёт лишь буквы (или звука) ‘н’.77
то в этих строках для полной анаграммы недостаёт лишь буквы (или звука) ‘н’.77 Но и вся звуковая фактура, с самого начала стихотворения, ориентирована на “Дыр бул щыл”. Так, уже в первой строке рассыпаны ‘ды’, ‘р’, ‘б’, ‘л’, во второй находим два ударных ‘у’, третья начинается призывом: „Товарищи!“ с отчётливым ‘щи’, и т.д.
Но и вся звуковая фактура, с самого начала стихотворения, ориентирована на “Дыр бул щыл”. Так, уже в первой строке рассыпаны ‘ды’, ‘р’, ‘б’, ‘л’, во второй находим два ударных ‘у’, третья начинается призывом: „Товарищи!“ с отчётливым ‘щи’, и т.д.
Как нам представляется, в 1918 году Маяковский, сочиняя свой „приказ“, основывался не только на прямом смысле своих лозунгов, но вдобавок к этому использовал звуковой строй прославленного стихотворения давнего соратника по будетлянству, находившегося в тот момент вне поля непосредственного зрения, на Кавказе. И, судя по воспоминаниям, Кручёных чувствовал особую близость этого стихотворения к своей поэтической системе, свидетельством чему служит один из выше приведенных нами его текстов.
————————
ПримечанияКраткий вариант статьи — Александр Введенский и русский авангард: Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. Введенского.
СПб. 2004. С. 7–12; полный — Новое литературное обозрение. 2005. № 72. С. 172–192.
 1
1 Сам Кручёных, однако, считал, что его стихотворение гораздо популярнее и долговечнее (см.:
Сетницкая Ольга. Встречи с Алексеем Кручёных (из дневниковых записей) // Русский литературный авангард: Материалы и исследования / Под ред. М. Марцадури, Д. Рицци и М. Евзлина. Тренто, 1990. С. 164). О популярности «Дыр бул щыл...» и до нашего времени свидетельствует хотя бы то, что современный сочинитель Герман Лукомников, пробуя силы в “плагиате” (акционном присвоении чужих текстов), наряду с лермонтовским «Парусом», тютчевской «Весенней грозой», некрасовским «Мужичок с ноготок» и др. опубликовал и интересующее нас стихотворение (
Лукомников Герман. Стихи разных лет // Авторник: Альманах литературного клуба. Сезон 2000/2001. Выпуск третий. М., 2001. С. 89).
 2 Lanne Jean-Claude
2 Lanne Jean-Claude. Les sources de la zaum’ chez Kručenych et Chlebnikov // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под ред. Луиджи Магаротто, Марцио Марцадури, Даниелы Рицци. Bern e.a., [1991]. P. 22.
 3
3 Мы постарались воспроизвести текст с максимальной точностью по факсимильному воспроизведению «Помады» (
Кручёных А.Е. Избранное.
München. 1973. С. 55–56). Оформление книги описано Н.И. Харджиевым (
Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: В 2 т.
М. 1997. Т. 1. С. 222). Достаточно корректно воспроизведены тексты в кн.:
Кручёных Алексей. Стихотворения, поэмы, романы, опера.
СПб. 2000 / Новая библиотека поэта. Малая серия; однако там утрачены буквы i и
ѣ, что может быть немаловажным в связи с неразличением Кручёных буквы и звука.
 4
4 Назовём лишь сборник статей и две монографии 1990-х годов: Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под ред. Луиджи Магаротто, Марцио Марцадури, Даниелы Рицци.
Bern e.a. [1991];
Janecek G. ZAUM’: The Transrational Poetry of Russian Futurism.
San Diego. 1996;
Gretchko Valerij. Die Zaum’-Sprache der russischen Futuristen. [Bochum], 1999. Стоит также упомянуть более раннюю монографическую работу:
Mickiewicz Denis. Semantic Functions in
zaum’ // Russian Literature. 1984. XV–IV. P. 363–464 (работа занимает номер журнала целиком).
 5 Кручёных Алексей
5 Кручёных Алексей. Стихотворения, поэмы, романы, опера. С. 412–417 (см. также: Поэзия русского футуризма. СПб. 1999. С. 670–673). Ср. также обзор литературы в кн.:
Сахно И.М. Русский авангард: Живописная теория и поэтическая практика.
М. 1999. С. 17–22. Мы, однако, не можем согласиться с положением исследовательницы о том, что „любая расшифровка является фактом субъективной интерпретации, лишённой научного обоснования“ (Там же. С. 17).
 6 Харджиев Н.И
6 Харджиев Н.И. Статьи об авангарде. Т. 1. С. 301. Дата написания подтверждается словами самого Кручёных: „Временем возникновения Заумного языка как явления, на котором пишутся целые самостоятельные произведения, а не только отдельные части таковых (в виде припева, звукового украшения и пр.), следует считать декабрь 1912 года, когда был написан мой, ныне общеизвестный, “Дыр бул щыл”. Это стихотворение увидело свет в январе 1913 г. в моей книге «Помада»“ (
Кручёных Алексей. Фонетика театра / 2-е изд.
М. 1925. С. 38); „Зимой ‹19›12–13 года появилась «Пощёчина» ‹...› Тогда же выскочил “Дыр-бул-щыл” (в «Помаде»), который, говорят, гораздо известнее меня самого“ (Автобиография дичайшего // Кручёных Алексей. Наш выход: К истории русского футуризма. М. 1996. С. 17).
 7
7 Из декларации «Слово как таковое» (Манифесты и программы русских футуристов.
München. 1967. С. 53, 55). Брошюра была подписана именами Кручёных и Хлебникова, однако Н.И. Харджиев решительно утверждает, что текст принадлежал одному Кручёных (
Харджиев Н.И. Статьи об авангарде. Т. 2. С. 204).
 8
8 Манифесты и программы русских футуристов. С. 64 (из манифеста Кручёных «Декларация слова как такового», напечатанного, по разным сведениям, летом 1913 года или в январе 1914-го). Отметим также, что в «Новых путях слова» Кручёных почти повторил первоначальное определение, назвав “Дыр бул щыл” „произвольным словотворчеством (чистый неологизм)“ (Там же. С. 69), а в «Тайных пороках академиков» (1916) говорил: „Не было ни одного стиха подобного лихой рубке подобного ‹так!›будетлянскому“ (Там же. С. 84; далее снова цитируется то же стихотворение).
 9
9 Память теперь многое разворачивает: Из литературного наследия Кручёных / Сост. послесл. публ. текстов и комментарии к ним Н. Гурьяновой. [Oakland], 1999. С. 243–244. Отметим, что в комментарий затесалась путаница: говоря о
еры, комментатор поясняет: „Кручёных поместил твердый ер в качестве знака, заключающего в себе „самый тяжелый низкий звук“ — огромный черный ‘Ъ’ — на обложку своего альбома «Вселенская война» (1916)“ (Там же. С. 407). Меж тем
еры — название вовсе не твердого знака (который и действительно называется “ер”), а буквы ‘ы’. Замечание об „итальянской фонетике“, вероятнее всего, ориентировано на известную пушкинскую маргиналию к батюшковским стихам: „Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков“ (
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т.
М. 1964. Т. 7. С. 574).
 10 Нечаев Вячеслав
10 Нечаев Вячеслав. Вспоминая Кручёных... // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1991]. [Т.] 12. С. 383. Ср. также в дневниках О. Сетницкой 28 марта 1953 года (обратим внимание — в непосредственной близости к дням смерти Сталина): „“Дыр бул щыл” — выражение русского национального языка. Этому выражению уже 40 лет, оно всё пережило“ (
Сетницкая Ольга. Цит. соч. С. 164).
электронная версия указанных работ на www.ka2.ru
 11 Хлебников Велимир
11 Хлебников Велимир. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 367 (письмо к Кручёных от 31 августа 1913).
 12
12 Письмо К.С. Малевича к М.В. Матюшину от июня 1916 (Ежегодник... на 1974 год.
Л. 1976. С. 190–191 / Публ. Е.Ф. Ковтуна). Ср. также письмо к А.Е. Кручёных от 5 июля 1916 (Малевич о себе. Современники о Малевиче: Письма, документы, воспоминания, критика: В 2 т.
М. 2004. Т. 1. С. 92 / Публ. А.Е. Парниса). Пользуемся случаем принести А.Е. Парнису благодарность за обсуждение некоторых тем статьи и многообразную помощь в работе.
 13 Бурлюк Давид
13 Бурлюк Давид. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения.
СПб. 1994. С. 41–43. Отметим неточную цитацию автора, значительно снижающую ценность его расшифровки.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
 14 Флоренский П.А
14 Флоренский П.А. [Сочинения].
М. 1990. Т. 2: У водоразделов мысли. С. 183–184. Как справедливо отмечено в примечаниях Н.К. Бонецкой, Флоренский опирается на статьи К.И. Чуковского о футуристах.
 15 Марков В.Ф
15 Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб. 2000. С. 43 (пер. В. Кучерявкина и Б. Останина).
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 16 Weststeijn W.G
16 Weststeijn W.G. Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism. [Amsterdam], 1983. P. 13–14.
 17
17 Наиболее определённо и решительно Нильссон определил это в несколько более поздней статье (
Nilsson Nils Åke. The Sound Poem: Russian Zaum’ and German Dada // Russian Literature. 1981. Vol. X. P. 314–315).
 18 Nilsson Nils Åke
18 Nilsson Nils Åke. Krucenych’s Poem «Dyr bul scyl» // Scando-Slavica.
Copenhagen. 1978. T. 24. P. 147–148.
 19 Янечек Джеральд
19 Янечек Джеральд. Кручёныховский стихотворный триптих «Дыр бул щыл» // Поэзия русского и украинского авангарда: история, поэтика, традиции: Сборник докладов научной конференции 15–20 октября 1990 года. Херсон, 1991. С. 15. Ср. также:
Он же. Стихотворный триптих А. Кручёных // Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе ХХ века. Грозный, 1991. С. 35–43.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruСр. критический разбор этой точки зрения:
Васильев И.Е. Русский поэтический авангард ХХ века.
Екатеринбург. 1999. С. 51–53.
 20
20 Ср. также его суждения о потенциальных смыслах стихотворения, вытекающих из его сопоставления с иллюстрациями М. Ларионова (Там же).
 21 Циглер Р
21 Циглер Р. Дешифровка заумных текстов А. Кручёных // Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе ХХ века. С. 32.
 22 Журба А.М., Разинкова М.К
22 Журба А.М., Разинкова М.К. Стихотворение Алексея Кручёных «Дыр бул щыл...» и теория параболы // Поэзия русского и украинского авангарда: История, этика, традиции (1910–1990 гг.).
Херсон. 1990. С. 76.
 23
23 Цитируем по распечатке тезисов, предоставленной слушателям доклада. Повторено также в публикации:
Левинтон Г.А. Заметки о зауми. I.
Дыр, бул, щыл // Антропология культуры. М. 2005. Вып. 3. К 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. С. 166.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 24
24 Тем более мы не можем согласиться с попутным замечанием В.П. Григорьева о „бессмысленных наборах типа
скум / вы со бу / р л эз и т.п.“ (
Григорьев В.П. Будетлянин.
М. 2000. С. 100).
 25
25 В первую очередь см.:
Флейшман Лазарь. Об одном загадочном стихотворении Даниила Хармса // Stanford Slavic Studies.
Stanford. 1987. P. 247–258;
Марцадури Марцио. Создание и первая постановка драмы
Янко круль албанскай И.М. Зданевича // Русский литературный авангард: Материалы и исследования. С. 21–32.
 26
26 См.:
Кручёных А. Фактура слова.
М. 1923. Репринтное переиздание — в кн.:
Кручёных Алексей. Кукиш прошлякам.
М., Таллинн. 1992. С. 11.
 27
27 Об актуализации противопоставления звуков по принципу “высокий — низкий” в стихотворении Кручёных «Глухонемой» см.:
Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика.
М. 1979. С. 53–54.
 28
28 Из книги «Взорваль» (
СПб. 1913). Цит. по: Манифесты и программы русских футуристов. С. 62.
 29
29 Из книги «Тайные пороки академиков» (
М. 1916). Цит. по: Манифесты и программы русских футуристов. С. 83. В виде отдельного стихотворения под заглавием «Евген. Онегин в 2 строч.» вошло в «Заумную гнигу» (
М. 1916; см.:
Кручёных А.Е. Стихотворения, поэмы, романы, опера. С. 82).
 30
30 Первое было напечатано в сборнике «Дохлая луна», второе — в листовке, изданной летом 1913 года.
 31
31 Манифесты и программы русских футуристов. С. 64.
 32
32 Дохлая луна: Сборник единственных футуристов мира!! поэтов «Гилея»: Стихи, проза, рисунки, офорты.
М. 1913. С. 79.
 33 McVay G
33 McVay G. Alexei Kruchenykh: The Bogeyman of Russian Literature // Russian Literature Triquaterly. 1976. № 13. P. 580. Приносим благодарность Г.А. Левинтону за напоминание об этом тексте. В примечаниях автор дневника пишет: „‹...› „вселенский язык“ может намекать также на первый и второй “Вселенские соборы” — Никейский (325 по Р.Х.) и Константинопольский (381 по Р.Х.), на которых был сформулирован и усовершенствован Никейский символ веры“ (Ibidem. P. 589).
 34 Марков Владимир
34 Марков Владимир. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное.
СПб. 1994. С. 334.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 35
35 См. библиографические и архивные указания в статье Р.Д. Тименчика о Нарбуте (Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь.
М. 1999. Т. 4. С. 228).
 36
36 См.: Русские советские писатели. Поэты: Биобиблиографический указатель.
М. 1992. Т. 15. С. 407.
 37 Нарбут Владимир
37 Нарбут Владимир. Аллилуиа.
СПб. 1912. С. [9]. В книге страницы не нумерованы.
 38 Гаспаров М.Л
38 Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях.
М. 2001. С. 96.
 39 Гумилев Николай
39 Гумилев Николай. Сочинения: В 3 т.
М. 1991. Т. 3. С. 17 (статья «Наследие символизма и акмеизм»).
 40
40 См.:
Богомолов Н.А. Стихотворная речь.
М. 1995. С. 55.
 41 Гаспаров М.Л
41 Гаспаров М.Л. Цит. соч. С. 96.
 42
42 Отметим, что в пояснение О.А. Лекманова явно вкралась опечатка: “
прапращур — прадед” (см.:
Лекманов Олег. О книге Владимира Нарбута «Аллилуйя» (1912) // Новое литературное обозрение. 2003. № 63. С. 113).
 43
43 Там же.
 44 Гумилев Николай
44 Гумилев Николай. Цит. соч. С. 108.
 45 Нарбут Владимир
45 Нарбут Владимир. Цит. соч. С. [10].
 46
46 См.:
Janecek Gerald. Baudouin de Courtenay versus Kručenych // Russian Literature. 1981. Vol. X. P. 17–30.
 47 Хлебников Велимир
47 Хлебников Велимир. Неизданные произведения. С. 367. Ср.:
Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме. II // Russian Literature. 1977. V 3. С. 281–300.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
В качестве необязательной параллели к рассуждению автора о важности “пятиричности” для Гумилёва и Хлебникова отметим, что Кручёных решительно подчёркивал то, что его стихотворение является именно пятистишием.
 48 Белый Андрей
48 Белый Андрей. Петербург.
М. 2004. С. 42–43. Ср. также комментарий на с. 648. Отметим, что этот пример (в иной редакции) приводит в своих работах Н.А. Кожевникова как пример отчётливого звукового символизма у Белого (см.:
Кожевникова Н.А. О звуковой организации прозы А. Белого // Проблемы структурной лингвистики 1981. М. 1983. С. 209–210;
Она же. Язык Андрея Белого.
М. 1992. С. 244–245; Она же. Звуковая организация текста // Linguistische Poetik. [Hamburg], 2002. С. 14).
 49
49 В единственном ныне издании Нарбута, более или менее систематически датирующем стихи, оно обозначено как написанное в 1912 году (
Нарбут Владимир. Стихотворения / Вступ. ст. подг. текста и прим. Н. Бялосинской и Н. Панченко.
М. 1990. С. 95). Отметим, однако, что текст «Аллилуиа» в этой книге совершенно не соответствует изданию 1912 года (хотя в комментарии и сказано, что сборник печатается по нему). Текст другого научного издания (
Нарбут Владимир. Избранные стихи / Подг. текста, вступ. ст. и прим. Леонида Черткова.
Paris. [1983]) также весьма несовершенен.
 50 Белый Андрей
50 Белый Андрей. Цит. соч. С. 556 (письмо Белого к Э.К. Метнеру от 30 января 1912); в дневнике М.А. Кузмина 23 января записано: „Белый читал отличные отрывки. Городецкие наскакивали на меня и даже проникли в мою комнату. Сидели все очень долго“ (
Кузмин М. Дневник 1908–1915.
СПб. 2005. С. 330).
 51 Нарбут Владимир
51 Нарбут Владимир. Аллилуиа. С. [47]. Отметим, что слово ‘Псалтири’ начиналось с оставшейся только в старославянском алфавите буквы “пси”. Ф.М. Лазаренко, по сведениям Л.Н. Черткова, был директором Глуховской гимназии, где Нарбут учился. Относительно „синодальной типографии“ исследователь творчества Е. Нарбута писал: „Обложка, конечно, не наборная, как можно понять со слов издателей, а с весёлым задором рисованная ‹Е.› Нарбутом“ (
Белецкий Платон. Георгий Иванович Нарбут.
Л. 1985. С. 65).
 52
52 Описание полиграфической стороны книги см. в работе П.А. Белецкого, названной в предыдущем примечании.
 53 Ковтун Е.Ф
53 Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. [
М. 1989]. С. 13.
 54 Рачинский Г.А
54 Рачинский Г.А. Японская поэзия.
М. 1914. С. 24. Впервые опубликовано — Северное сияние. 1908. № 1.
 55
55 Там же. С. 9.
 56
56 Там же. С. 24.
 57 Хлебников Велимир
57 Хлебников Велимир. Собрание произведений: В 5 т. [
Л. 1933]. Т. 5. С. 298.
 58
58 Не слишком убедительным показалось нам суждение о том, что „по модели детской считалки строится ‹...› третье стихотворение Кручёных из сборника
Помада“ (
Ораич Толич Дубравка. Заумь и дада // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. С. 70). Если автор имеет в виду (не называя его прямо) фрагмент воспоминаний В. Нечаева о Кручёных, приведенный нами выше, то, кажется, большее основание для анализа имеет упоминаемая там тема африканского искусства (поэзия негров). См. об этом несколько ниже.
 59 Хлебников Велимир
59 Хлебников Велимир. Собрание произведений. Т. 5. С. 298.
 60
60 Удачно суммированы сведения об этом в комментарии Н. Гурьяновой (Память теперь многое разворачивает. С. 348). См. также первопроходческую работу:
Ковтун Е.Ф. Владимир Марков и открытие африканского искусства // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1980.
Л. 1981.
 61 Чудовский Валериан
61 Чудовский Валериан. Собрания и доклады // Русская художественная летопись, 1911. № 9. С. 142–143.
 62 Гумилев Николай
62 Гумилев Николай. Цит. соч. С. 84.
 63
63 Современник. 1912. № 4. Цит. по:
Николай Гумилев: Pro et contra.
СПб. 1995. С. 386.
 64 Гумилев Николай
64 Гумилев Николай. Цит. соч. Т. 1. С. 149.
 65
65 См. напр.:
Бобринская Екатерина. Русский авангард: истоки и метаморфозы.
М. 2003. С. 24–43.
 66 Мец А.Г
66 Мец А.Г. Эпизод из истории акмеизма // Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения.
Рига. 1990. С. 111–130.
 67 Нарбут Владимир, Зенкевич Михаил
67 Нарбут Владимир, Зенкевич Михаил. Статьи. Рецензии. Письма.
М. 2008. С. 242–243.
 68
68 Там же. С. 243.
 69
69 См.: Память теперь многое разворачивает. С. 442–452.
 70
70 Там же. С. 295.
 71
71 История «Декларации слова как такового» по материалам переписки А. Кручёных / Публ. Татьяны Горячевой // Терентьевский сборник.
М. 1998. [Вып.] 2. С. 363.
 72
72 Там же. С. 348, 349. Ср. также:
Бобринская К. Теория “моментального творчества” А. Кручёных // Там же. С. 13—42 (перепеч.:
Бобринская Екатерина. Цит. соч. С. 94–117).
 73
73 Учтём при этом, что в оккультных текстах ‘ау’ могло трактоваться как вариант ‘о’, и „заповедное слово ‘ОМ’“ исконно произносилось как ‘аум’.
 74
74 В связи с данным аспектом см. также статью:
Greve Charlotte. Minimalism and Play in Aleksej Krucenych’s Caucasian Books, 1917–1918 // Russian Literature. 2003. LIII. P. 347–386, особенно р. 370–371.
 75 Маяковский Владимир
75 Маяковский Владимир. Полн. собр. соч.: В 13 т.
М. 1956. Т. 2. С. 14. Связь этих строк с поэтикой (скорее, фонетикой) Кручёных, хотя и без конкретизации, была отмечена в ст.:
Циглер Розмари. Поэтика А.Е. Кручёных поры «41°»: Уровень звука // L’avanguardia a Tiflis. Venezia, 1982. P. 248.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
Ср. также процитированные ранее воспоминания Кручёных, где имя Маяковского не названо.
 76
76 Ср.: „В начале нашего ‹двадцатого› века ленинградскую (петербургскую) норму произношения характеризовали так: для неё характерно произношение [ш’ч’] вместо московского [ш‘]...“ (
Панов М.В. Русская фонетика.
М. 1967. С. 295; ср. также с. 329–331). Для провинциалов Маяковского и Кручёных обе эти нормы были экзотическими, а поскольку в годы войны Маяковский преимущественно находился в Петербурге, то и произношение [ш‘ч’] должно было для него быть хорошо ощутимо.
 77
77 Ряд примеров анаграмм у Хлебникова, Маяковского, Кручёных разобран в статье:
Парнис А.Е. Об анаграмматических структурах в поэтике футуристов // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования.
М. 1999. С. 852–868.
Воспроизведено по:
Н.А. Богомолов. Вокруг Серебряного Века.
Статьи и материалы. М. Новое литературное обозрение. 2010. С. 415–434; 640–646
Благодарим В.Я. Мордерер за содействие web-изданию.
Изображение заимствовано:
Todji Kurtzman (b. 1970 in San Francisco, US). The process of the fabrication of the sculpture.
https://todji.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_0417.jpg


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()