Владимир Фёдорович Марков
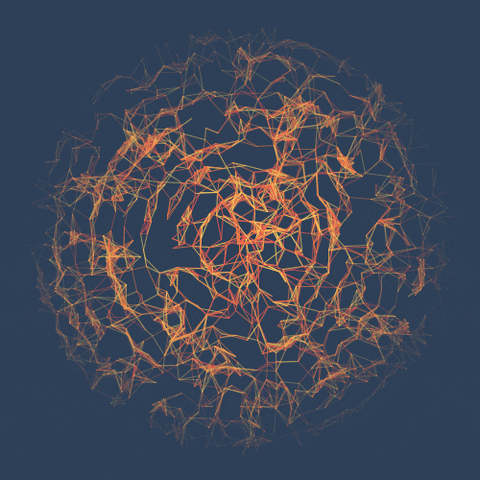
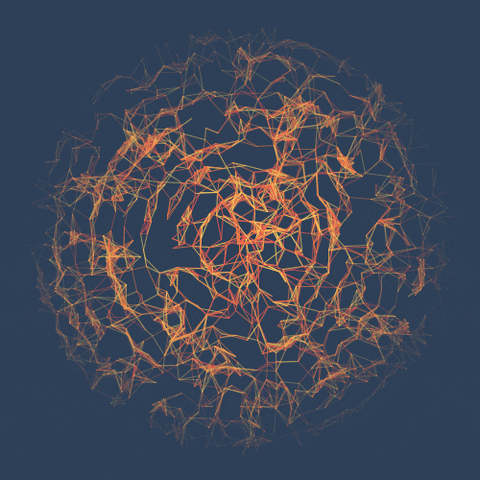
Свобода милая, куда ты поведёшь?
 оэтическую свободу, о которой будет говориться в статье, трудно определить. Для её понимания не нужно читать Бердяева или Бакунина; не помогут и словари: Уэбстер с десятью определениями, Ушаков с четырьмя или Большая Советская Энциклопедия с одним („свобода есть сознательный выбор человеком из ряда возможных направлений в его мыслях и поступках какого-либо одного направления”). Свобода эта есть некое качество в поэзии (или в ином искусстве), которое нетрудно ощутить и которое, в общем, любителями поэзии ценится; однако оно редко обсуждается и не всегда в первую очередь восхищает таких любителей. Качество это в достаточной степени уникально и уже потому ценно и годится в идеалы для определённого вкуса или критического направления, но его присутствие не обязательно ставит поэта выше других, таким качеством не обладающих. Есть и другие идеалы: силы, красоты, законченности, — пожалуй, более популярные в тех или иных кругах. Свобода, о которой мы говорим, может проявляться по-разному: в непринуждённости, лёгкости полёта, не связанности “вечными” истинами (например, такою как „поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке”), но все эти свойства не исчерпывают понятия поэтической свободы.
оэтическую свободу, о которой будет говориться в статье, трудно определить. Для её понимания не нужно читать Бердяева или Бакунина; не помогут и словари: Уэбстер с десятью определениями, Ушаков с четырьмя или Большая Советская Энциклопедия с одним („свобода есть сознательный выбор человеком из ряда возможных направлений в его мыслях и поступках какого-либо одного направления”). Свобода эта есть некое качество в поэзии (или в ином искусстве), которое нетрудно ощутить и которое, в общем, любителями поэзии ценится; однако оно редко обсуждается и не всегда в первую очередь восхищает таких любителей. Качество это в достаточной степени уникально и уже потому ценно и годится в идеалы для определённого вкуса или критического направления, но его присутствие не обязательно ставит поэта выше других, таким качеством не обладающих. Есть и другие идеалы: силы, красоты, законченности, — пожалуй, более популярные в тех или иных кругах. Свобода, о которой мы говорим, может проявляться по-разному: в непринуждённости, лёгкости полёта, не связанности “вечными” истинами (например, такою как „поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке”), но все эти свойства не исчерпывают понятия поэтической свободы.Так как прямое описание затруднительно, можно попробовать демонстрацию от противоположного. Например, свобода обратна силе, хотя она и может ей соприсутствовать. У Пушкина, свободнейшего поэта в мире, сила нередко проявляется посреди свободы. У Лермонтова же сила в постоянном конфликте со свободой. Державин, поэт свободный в некоторых аспектах, поэт, которому знакомы “полёты”, — в целом не годится в наше “избранное общество”: слишком грузно ступает он по земле, а когда летит, и летит высоко, то сохраняет тяжесть; это полёт, если мне простят слишком современное сравнение, ракетных снарядов Титана или Атласа. Есть лёгкость полёта в некоторых стихах Есенина, но у него, зато, не хватает высоты.
Другое качество не только стоит в противоречии с поэтической свободой, но и просто исключает её: внутренний трагизм. Свободный поэт знает о трагедии, но сам он в глубине не трагичен. Вот ещё почему ни Лермонтов, ни Есенин не подошли бы. Не подходят и надорванный Некрасов, или Блок, несмотря на всё своё широкое дыхание. У трагического поэта не может быть свободы. Здесь уместно повторить, что несвобода не дефект и нисколько не снижает ценности поэзии (а в глазах многих и повышает, если взглянуть на список дисквалифицированных).
Сказанное можно продемонстрировать на трёх цитатах. Пушкин легко и просто констатирует: „На свете ‹...› есть покой и воля”; Лермонтов страстно мечтает: „Я ищу свободы и покоя”; а Блок уже истошно кричит вслед степной кобылице: „Покоя нет!”
Итак, ни слишком земные и цельные, ни люди с трещиной в душе — не поэты свободы; при свободе нет стиснутых зубов или взламываемых дверей. Но нет и парнасски-акмеистской отделки и нормы. В свободном поэте должно быть что-то от Ариэля.
Для пущей ясности можно обратиться к другим искусствам. Ни Бетховен, ни Брамс, ни Вагнер не подходят, но легко может быть принят Шуберт и, без всяких разговоров, Моцарт. В живописи есть свобода у Ватто, у Пауля Клее, но нет у Микель Анджело и у Пикассо (берём первые подвернувшиеся имена).
Вряд ли все эти предварительные рассуждения прояснили проблему, но кое-что вырисовывается. Тому, кто прочёл эту страницу, уже должно быть понятно, что наша свобода не имеет метафизических обертонов, что это не вольность Радищева и вообще не бунтарская взрывчатость. На примерах всё станет яснее. Пожалуй, лучшие образцы свободы в русской поэзии можно найти у Пушкина, Фета и Кузмина.
О Пушкине страшновато писать: поневоле тянет на общие места. Может быть, именно поэтому литературную аристократию русского зарубежья (Бунин, Адамович) как-то слегка отталкивало от него, хотя для писаревской или футуристской расправы даже Бунин с его темпераментом был слишком воспитан (или побаивался). Последнее время о Пушкине перестали писать даже присяжные газетные борзописцы, а за недавними юбилейными славословиями Чехову и Толстому Пушкина и просто забыли. Вряд ли, например, многие читали его «Езерского», который уже с 1939 г. печатается в собраниях сочинений вместе с поэмами, известными с детства. Куски этих пятнадцати строф, брошенных Пушкиным почти на полуслове, попали потом в «Египетские ночи» (стихи импровизатора) и составили многим знакомую «Родословную моего героя», так что для большинства эти стихи — не совсем новость. История поэмы прекрасно изучена советскими пушкиноведами (Н.В. Измайлов, О. Соловьёва), от которых можно узнать, что название «Езерский» было дано Жуковским, что почти сто лет эту поэму считали вариантом «Медного всадника», что писал её Пушкин с марта 1832 до весны 1833 г. и много других фактов.
Первая часть поэмы — лучшая история российского государства (с IX века до Петра, а в черновиках и до Екатерины) в стихах. По тону она, как и следовало ожидать, занимает золотую середину между милым, но не дотягивающим до настоящих высот юмором Алексея Толстого и несколько удручающей сатирой Щедрина, по которой опытный врач может прочесть всю историю его печени. Эта первая часть полна удивительных звуковых эффектов, на которые Пушкин обычно скуп; для “формалиста” чтение её — истинное раздолье. Поэт то живописует согласными, не уступая Державину:
“Незаконченность” поэмы, конечно, намеренная, вопреки всем заключениям исследователей. Пушкин любил незаконченность и пользовался ею как художественным приёмом. Достаточно вспомнить «Осень», «Ненастный день потух», пропущенные строфы в «Онегине». Биографией не объяснишь эту сюрреалистическую каденцию, исполненную необыкновенной свободы.
Советский поэт и престарелый конформист П. Антокольский недавно опубликовал этюд в прозе (Октябрь № 2, 1960), изображающий Пушкина во вторую болдинскую осень. Написан этюд слегка под «Лотту в Веймаре» Т. Манна (благо теперь её разрешили читать). Пушкин там преподнесён иконописно и фальшиво согласно всем текущим предписаниям и думает (поток сознания!) совсем как Щипачёв. Вот несколько строк:
На поэме не грех было задержаться, но это не единственный образец поэтической свободы у Пушкина. К другому её роду можно отнести переходы от строфы к строфе в «Онегине», особенно интересные в Первой главе. Там есть “пустые”, почти шаблонные строфы, где поэт отдыхает перед разбегом. Такова, например, строфа XXXII („Дианы грудь, ланиты Флоры”) перед головокружительной «Я помню море пред грозою», после которой сам Пушкин не может опомниться и в продолжение целой строфы (XXXIV) потом что-то мямлит и бормочет, перед тем как возобновить повествование. Подобных примеров много, и они приводят на память Ломоносова, эстетика которого предусматривала в одах спады, “плохие” строфы перед взлётами. Только у Ломоносова это математический расчёт, а у Пушкина — мгновенное сознание, что именно нужно делать в данный момент, поразительная свобода приспособления способа выражения к выражаемому в каждый отдельный миг.
Именно этим объясняются внезапные метания и спотыкания ритма в некоторых стихотворениях Пушкина. Он, например, начинает широко и резко:
Приблизительно то же происходит в гениальном «Заклинании».3![]()
Та же свобода адаптации — в пушкинской лексике. Ещё за несколько строф до дуэли в «Онегине» Пушкин пародировал поэзию Ленского в нелепых, кудахтающих стихах. Вскоре после, на могиле юноши-поэта, возобновится тон добродушной иронии. Но в момент смерти все шутки мгновенно исчезают и даже банальные слова о „певце”, „конце” и „алтаре” наполняются прекрасной торжественностью и неожиданной глубиной.
Стилистическая несвязанность особенно возрастает у Пушкина в последние годы, отражая какую-то свободу его сдержанного одиночества в те годы. Особенно показателен «Анджело», этот пасынок русской критики, давно бы сбросившей его со счетов, если бы не имя Пушкина. Овсянико-Куликовский, например, называет «Анджело» „одной из слабейших вещей Пушкина”. Однако сам Пушкин считал эту поэму лучшим своим созданием. «Анджело» ждёт своего открывателя, который влюбился бы в это странное сочетание просторечия и торжественности, где уживаются „пужало” и „не допущают” с „легкокрила”, где тонкие неологизмы (вроде „уверчивости”, на которое недавно обратил внимание Ю. Марголин) можно легко пропустить при чтении, где можно почти забраковать рифму посте: везде (после судии: сии и даже мира: мира) и озадачиться, увидев в близком соседстве „деви́цу” и „де́вицу”.
В зарубежной критике о Пушкине иногда без большого воодушевления вспоминают. О тютчевских “прозрениях” раз год вещают. Кое-где начинают присматриваться к Державину. О Некрасове хоть наивно, но где-то, на задворках литературы, спорят (поэт, дескать, или не поэт). Лермонтова в своё время в Париже возвели на некий пьедестал и там забыли. Блока время от времени свергает какой-нибудь переживший современник. Фет забыт.
Если не ошибаюсь, о Фете уже десятки лет как никто ничего мало-мальски интересного не говорил. Г. Адамович даже раз приписал фетовскую строку Блоку. Таким образом, видимо, Фета и не перечитывают, помня только с детства несколько начал стихотворений. Неужели сбывается предсказание Писарева, что „со временем продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завёртывания сальных свечей, мещерского сыра и копчёной рыбы” (надо отдать справедливость, критики в то время ещё отличались смелостью!)? В СССР последнее время наблюдается повышение интереса к Фету, и вышло несколько его собраний (среди них одно полное) под редакцией Бухштаба, который в предисловии спешит оговориться, что „много в поэзии Фета чуждо нам”, но в остальном выдаёт и любовь к этой поэзии, и её понимание. Иное дело в эмиграции. Характерно в книге Г. Адамовича «Одиночество и свобода» оброненное замечание про разговор с поэтом Штейгером о Фете „без большого восторга”. После этого приводится „безжалостно-точное” определение И. Анненского — „немецкая бесстильность Фета”. Характерна эта ссылка на верховный авторитет Анненского, хотя, положа руку на сердце, ведь Анненский, при всех своих достоинствах, поэт просто меньше Фета, не говоря уже о том, что его критической проницательностью (далеко не безошибочной) уже только с трудом можно восхищаться: так невыносимо манерно написаны эти статьи.
Фет последний великий поэт XIX века, легко занимающий своё место среди крупнейших, которых можно сосчитать на пальцах. В XX веке лишь Блок достигает таких размеров. Конечно, Фет не только “импрессионист”. Он сложен в своей борьбе пластической и лирической стихии. Хотя он и предвещает многое в русском символизме, только он в своё время умел писать “как Пушкин” (например, в элегиях). Разнообразие Фета удивительно, и его можно показать на трёх двустишиях из разных стихотворений:
Для того чтобы воздать должное поэзии Фета, её то неуловимой, то отчётливой красоте, её внутреннему накалу и оригинальности, а также её редкостному в русской поэзии здоровью — нужна отдельная статья, а то и книга. Ведь кроме более или менее известных стихов, сколько ещё неожиданностей разбросано по страницам его собраний. Вот «Осенние розы» с замечательной музыкой первых строк; вот «Старый парк», некий мост от Пушкина чуть ли не к Бальмонту; вот «Купальщица», напоминающая, что поэты XX века, несмотря на весь школьнический эротизм серебряного века, уже не умели писать нагое женское тело; вот «У камина», так восхитившее Некрасова. Немногие в русской поэзии так видели:
Но вернёмся к „немецкой бесстильности” Фета. Оставив эпитет „немецкая” на совести Анненского (и Адамовича), нужно признать, что наблюдение правильно, неверна лишь оценка. „Бесстильность” Фета есть на самом деле его свобода, — величайшая свобода словесного выбора, некая верховная стилистическая беззаботность. Это не смешение разнородных элементов, как у Державина — смешение насильственное, — а тут всё случайно, легко и до мозга костей поэтично. Точность и случайность сосуществуют без всякого конфликта. Начинает казаться, что Фет отменяет все “достижения” серебряного века, всю его поэтическую культуру, особенно акмеистские идеалы отделки и мастерства, всё это гумилёвское “мейстерзингерство”. Фет — это свобода от стилистических норм классицизма-акмеизма, от лучших слов в лучшем порядке, от сумароковщины, от двух слов о самом главном. Ключ к Фету в его собственной фразе „песня наудачу”. Эта „песня наудачу” и производит на всех, кто „погружён в отделку кленового листа” впечатление „бесстильности”, а то и неряшливости. В самом деле, акмеист (в широком, нарицательном смысле выученика школы, цеха, парнасски боготворящего “совершенство”) не может не забраковать строки „Прости и всё забудь в безоблачный ты час” (неловко поставлено „ты”) и „Когда к звездам их взорами прильну” (к чему относится „их”? оказывается, к звездам) или образ „сердца звучный пыл сиянье льёт кругом” или ненужные инверсии и переносы строк в стихах Фета. Этот акмеист потянется за синим карандашом, увидев в одной строчке рядышком „песню” и „песнь”, „ветер” и „ветр” (вспомним пушкинские „деви́цу” и „де́вицу”!) и поморщится на банальный эпитет в строке „О этот сельский день и блеск его красивый”, или смешение разных творительных падежей в строках
Кузмин, к нашему стыду, совершенно забыт. Мне приходилось встречать поэтов (!), которые его не только плохо знали, но и презрительно отметали, валя в одну кучу не только с Бальмонтом, но и с Городецким. Наш вкус вообще опасным образом стабилизируется, и скоро может установиться прочно такая „ценностей незыблемая скáла”: для ширпотреба Есенин; Гумилёв с недавно присоединившимся Пастернаком для потребления среднего; и, наконец, как признак принадлежности к “верхам”, — Мандельштам. Первоклассные Вячеслав Иванов, З. Гиппиус, Сологуб, Кузмин — как-то выпали из поля зрения. Может быть, виной тому печать декадентства, лежащая чуть ли не на любом поэтическом творчестве той эпохи. Конечно, декадентство было не столько модой, сколько болезнью того времени, но именно оно мешает замечательным поэтам начала нашего века достичь вершин, доступных лучшим в веке предшествующем. Один Блок по-настоящему декадентством тяготился, остальные его охотно принимали или не спешили сбросить (к Вяч. Иванову оно не приставало, как к гусю вода, что было уже несколько противоестественно).
Собственно говоря, кличка “декадент” не идёт Кузмину. Его поэзия светла, проста, легка, и в этом смысле лучше всего в XX веке продолжает пушкинскую линию (в её обычном понимании). Муза Кузмина может кое-кому показаться очень уж бестрагичной, но нами было отмечено, что свободные поэты — Ариэли по натуре и трагедия для них вторична.
Кузмина могут упрекнуть за жеманство и процитировать
Как плохо мы все знаем свою поэзию. Учёнейший славист, желая продемонстрировать аллитерацию, берёт всё те же осточертевшие примеры из раннего Бальмонта про ветер да про чёлн. Кузмин весь переливается аллитерациями, пользуется необычайно широкой палитрой в инструментовке согласных, — и всегда ненавязчиво и с необычайной естественностью:
Так же богаты, разнообразны и вольны у Кузмина сочетания гласных:
Кузминская свобода — свобода непринуждённости. Он как будто совсем не строит, к нему само идёт — и он не заботится заострять стихи последней строчкой, которая к поэту приходит первою („О, вы и это знаете!” с ласковой иронией говорит он юной Цветаевой, которая только что сообщила ему об этой “Америке”). Уже в первой книжке «Сети» свободу видишь в бесцезурьи, в разностопице, не оскорбляющей слуха, в стилистической несвязанности. Кто еще в XX веке мог так легко пользоваться столетними шаблонами русского романтизма — “дубровами”, “вольными сынами” и т.п.? Только Фет так не боялся банальности и диссонанса. Кузмин ставит рядом Амура и „возвратный тиф”; по-державински склоняет в родительном множественного „бурей”, а не “бурь”; по-хлебниковски сокращает “окон” в „окн”; и после современного разговора может вставить „из парчи золотистыя”, а потом образовать суперлятив „весеннейший” или наречие „раздумчиво”:
Нужно ещё добавить, что в тех же «Сетях» Кузмин далеко не только певец „шабли во льду” и „поджаренной булки” — „очарованья милых мелочей”. Его “символистские” стихи в этом сборнике лучше и значительнее “булочных”, хотя в последних и удобнее наблюдать его свободную небрежность.
Уже в «Осенних озёрах» становится ясно, что Кузмин — один из чистейших поэтов любви в России. Он сам говорит здесь
В этой связи особенно приходит на ум одна черта, одна нота в его стихах, одна “апподжиатура”, если так можно сказать. Это — кузминское ли в вопросах, прямых и косвенных, на которые нет ответа, кроме разве, иногда, прошедшего времени глагола,5![]()
Редко у какого поэта техника так вся на виду и одновременно так незаметна. Его рифмы богаты, но просты. Сложная или трудная рифмовка никогда не тяжелит стиха; в «Осенних озёрах» — тридцать газелл, все — разные, и насколько они лучше перехваленных “персидских” стихов Есенина. Терцины и сложные метрические схемы льются у него так же свободно, как четырёхстопный ямб. Он писал самые свободные дольники, наименее монотонные, наименее “трёхстопные”. Именно Кузмин значительнейшая перед Хлебниковым веха в истории русского верлибра; он пробовал всевозможнейшие его виды, и кое в чём предопределил его развитие (например, рифмованный верлибр у Хлебникова явно от Кузмина).
Поздний Кузмин менее прозрачен и более богат, но свобода — та же. В стихах «Нездешних вечеров» — не в популярных, привычно-кузминских, а других, новых — усиление звука, обогащение звучания, усложнение стиля. Кантата «Святой Георгий» почти цветаевская (хотя и без острых углов), «Базилид» звучит Маяковским (но, в сравнении с Маяковским,6![]()
В следующем сборнике «Параболы», который прошёл уже совсем незамеченным, все наблюдавшиеся тенденции усиливаются, и абстрактный мир „косых соответствий” возвещается в первой строчке первого стихотворения. Много здесь и того, что потом назовут сюрреализмом («Конец второго тома»). Часто это стихи внутреннего эмигранта. Иногда они трогательно ясны, как, например, «Поручение», где передаётся из России военного коммунизма привет „белокурой Тамаре” в Берлине:
Звучание в «Параболах» ещё больше “модернизируется”. Аллитерации подчас намеренно и задиристо тяжеловаты («Английские картинки») или становятся по-хлебниковски „корнесловными” (напр., „На персях у персидского Персея”), а гласные образуют причудливые сочетания (вспомним опять Батюшкова):
С Кузминым не знают, что делать, он „совсем неуловим” (Е. Аничков), в антологиях он попадает в “поэты не связанные с определёнными группами”. В самом деле, поэт жил одно время на “башне” у Вячеслава Иванова, т.е., в самом логове символизма, первый возвестил переход от туманов символизма к “прекрасной ясности” акмеизма, а кончил “герметическими”, трудными (но такими лёгкими) стихами о чем-то своём заветном. Он откликнулся на все поэтические искания своего времени. В его стихах есть тоска по иному миру, сложный мистический путь души, чёткое изображение этой жизни и разнообразно смелая “работа над словом”. Кажется, что если бы Кузмин захотел, то и кручёныхскую заумь он смог бы воплотить с изяществом и лёгкостью. Его душа стремилась „вдаль ли? ввысь ли?”, он и сам не знал, но летел, и такой лёгкости и свободы нет в современной русской поэзии.
Можно продолжать заниматься поисками “свободных” поэтов, можно даже превратить это в салонную игру. Целью этой статьи было лишь наметить тему и дать несколько примеров, использовав их для похвалы и, где нужно, для реабилитации. Можно добавить имён. Знал, например, об этой свободе Жуковский. На ней, а не на „тяжести недоброй” строил Мандельштам. Пришёл к ней (особенно это ясно в конце его творческого пути) ученик Кузмина Хлебников, которого несвязанность литературным каноном не приводит, как его коллег, к громкому бунтарству. Одной из характерных черт хлебниковского стиля является „мастерство неверного слова” — нечто обратное „лучшим словам в лучшем порядке”. И разве не полно значения, что свободный стих в России чуть ли не первый попробовал Фет, прославился на нём Кузмин, а Хлебников разработал его как никто другой.
Идеалу свободы в русской поэзии противостоит идеал сделанности, отделки, хорошего вкуса (обычно определяемого временем), краткости, мастерства, ведущий свою родословную от Сумарокова („нашего первого лирического поэта”, по утверждению Г. Адамовича). Этому идеалу следовал И.С. Тургенев в своих стихах (и редакторской практике), сюда же принадлежат Брюсов и акмеизм (здесь рассматриваемый только в его теории и в творчестве “школы”, т.е. поэтов второстепенных). Нетрудно увидеть, что этот идеал ведёт к господству середины.
Есть ли эта свобода в русской поэзии сейчас? В советской поэзии её почти не было даже в пору расцвета, в 20-е гг. (что, конечно, не значит, что в то время не писали хороших стихов); сейчас её не осталось и следа, и молодые поэты послевоенного времени, даже самые “оттепельные”, вероятно, и не подозревают, что они все, без исключения, „ужи”, а не „соколы” (пользуемся понятной им терминологией). В эмиграции отдельные взлёты этой свободы были, хотя “одиночество” как-то заглушало “свободу”. Умолчав о здравствующих (чтоб не дразнить гусей), укажем, что не чужд ей был Поплавский. У “трёх китов” эмигрантской поэзии картина открывается пёстрая. Ходасевич был лишён свободы совершенно (опять-таки подчёркиваю, что это не снижает его как поэта), он весь был в „тяжести недоброй”, в тоске по лёгкости. Цветаева заглушила яркой силой те задатки свободы, какие у неё имелись. Однако у Георгия Иванова, вопреки акмеистической выучке, в последних стихах есть свобода, хотя это и свобода, родившаяся из отчаянья, свобода заброшенного в мировое пространство, свобода клочка бумаги в океане.
Некой преградой на пути к свободе было то, что высказано Адамовичем в его знаменитых словах „несколько строк о самом главном” и, видимо, разделялось поэтической эмиграцией в целом. В этой фразе и её количественный, и качественный аспект противоречат идее свободы. Ведь свобода может быть и в том, чтобы не писать „о самом главном” (вспомним также о Пушкине в изображении Антокольского в начале нашей статьи, который тоже говорит о каком-то „главном”). В этом свете становится понятной идеализация Адамовичем Толстого, вырастающего чуть ли не в пример и упрёк поэтам. Идеалом поэзии становится проза, да ещё проза писателя, отвергавшего поэзию. Отсюда и молчаливое неодобрение Пушкина, и жалобы, что поэзия в чём-то кого-то обманула. Интересно и брошенное как-то Адамовичем замечание: „никому не понравится Глинка после Мусоргского”. Ведь Глинка самый свободный, самый “моцартовский” из русских композиторов.
То, что строк должно быть “несколько”, тоже отпугивает свободу. Конечно, эти слова не означают требования обязательно небольшого количества строк, а чтобы в общем творчестве нашлись эти несколько, и тем оправдали остальные усилия. Однако, поверившие в этот лозунг не будут ли непременно стремиться к почти японской краткости, тогда как идеал свободы равнодушен к длине. До-мажорная симфония Шуберта или симфонии Брукнера могли бы длиться сколько угодно.
Я напрасно окрестил свободу “идеалом”. Она — качество, которого может не быть даже у большого поэта, и, возможно, было ошибкой с моей стороны не скрывать субъективного восторга перед этим качеством. Тем более, что никто никогда не может этой свободе научить. Силу поэты получают от своего земного рождения, мастерству учатся сами и от мэтров; свобода же — подарок какой-то иной родины.
| персональная страница В.Ф. Маркова на ka2.ru | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||