С.М. Сухопаров
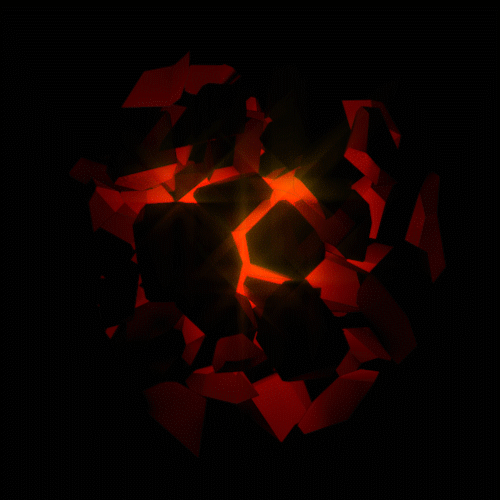
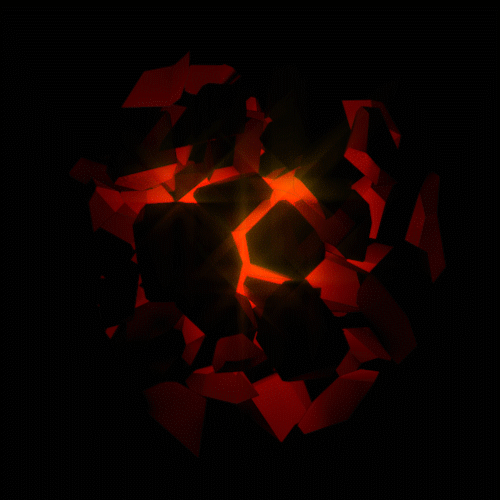
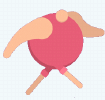
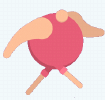
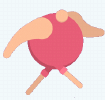
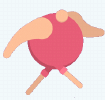
Впоследствии Кручёных крайне редко и неохотно вспоминал годы, проведённые им в Баку. Даже в 1960-ом г., выступая в ЦГАЛИ с докладом о Маяковском и Хлебникове, он предпочёл об этом не распространяться:
Более не было сказано ни слова. Возможно, сдержанность эта объясняется значительно меньшей продуктивностью Кручёных в сравнении с его деятельностью в Тифлисе. В Баку удалось издать лишь «Мир и остальное» (1920; совместно с Хлебниковым и Т. Толстой-Вечоркой), серию из десяти книг «Мятеж» (первая совместно с Хлебниковым) под маркой «41°», читанный в Тифлисе доклад «О женской красоте», сборник «Биель» (1920; совместно с Хлебниковым) и важную теоретическую работу «Декларация заумного языка». Опубликовал он (в соавторстве; это был его проверенный и безотказный приём) также несколько рецензий на свои издания и принял участие в коллективном „революционном” сборнике «Алая нефть» (1920; совместно с Городецким, Георгием Астаховым, Михаилом Запрудным и Константином Ростом).
Одновременно с работой в АзкавРОСТА Кручёных поместил в газетах «Коммунист», «Азербайджанская беднота» и «Бакинский рабочий» свои агитационно-пропагандистские стихи «Рабочим», «Нефть — Советроссии», «Помогайте раненому...», «Революция» и др., написанные в ораторском стиле, “под Маяковского”. Скорее метафорой реалий того времени, чем обычным для его стихов антиэстетизмом или разработкой „фактуры слова” воспринимается «Реквием инферно» из сборника «Мир и остальное»:
На взгляд Хлебникова, некоторое время числившегося в том же АзкавРОСТА составителем лозунгов и четверостиший для плакатов, внешность Кручёных 1919–1921 гг. вполне соответствовала его „строчечной сути”. Порукой тому портрет-биография рембрандтовской силы (мнение Н. Харджиева):
Прямых свидетельств отношения Кручёных к Октябрьскому перевороту 1917 г. нигде в многочисленных биографических материалах (если оставить без внимания работу в АзкавРОСТА и стихи в советских газетах) нам обнаружить не удалось. Известно только, что из Баку он уехал, и прибыл в столицу РСФСР 17 августа 1921 г. Почему Кручёных не оказался в эмиграции, подобно И. Зданевичу, Г. Робакидзе, Л. Гудиашвили, С. Рафаловичу, И. Терентьеву и К. Зданевичу (оба вскоре вернулись)? А ведь он планировал поездку в Париж задолго до прихода к власти большевиков. Как ни странно, ответ даёт портрет-биография: стартовую площадку нового русского авангарда Бурлюка отрицательный двойник не променял бы ни на заморское благополучие, ни на мировую славу. В «Автобиографии дичайшего» (1928) он кратко, но вполне определённо заявляет:
За четыре года советской власти в русской литературе произошло немало перемен. Она обрела новое содержание и нового читателя. И этот читатель, за малым исключением, о Кручёных не знал совершенно. Выручил, как это не раз бывало во времена «Гилеи», Маяковский: на свой страх и риск он 14 сентября 1921 г. организовал в зале Политехнического музея „приездный вечер” своего давнего соратника для рабочей аудитории. Афиши сообщали: „предварительную экскурсию по Кручёных присутствующие совершат под руководством В.В. Маяковского”. На вечере, прошедшем „очень содержательно и шумно”, „отец зауми” „читал о магните поэзии, яде Корморане, камне Корборунде и пр.”.95![]()
Очевидцы вменяют Маяковскому в заслугу парадоксальное для „ассенизатора и водовоза революции” отношение к Кручёных. Талантливейший представитель авангарда, поэт-конструктивист Алексей Николаевич Чичерин (1889–1963) даже полагает, что Маяковский питал к „футуристическому иезуиту” братскую нежность:
Справедливости ради заметим, что повторно “завоевать” Москву Кручёных помог не один Маяковский: выступление в Доме Печати — заслуга уже тогда влиятельного Вячеслава Полонского.
В сентябре поэт зачитал в «Московском лингвистическом кружке» доклад об анальной эротике, „главным образом, в звуковых сдвигах”, чем „вызвал оживлённые прения среди молодых учёных”.97![]()
В Москве по 1923 г. включительно Кручёных руководствовался программными установками «41°», которые развивал и пропагандировал в одиночку (И. Терентьев вернулся на родину только в середине апреля 1923 г.). Его усилиями в книжных магазинах столицы появились „дра” (т.е. пьесы) И. Зданевича, книги И. Терентьева «Факт», «Трактат о сплошном неприличии», «А. Кручёных грандиозарь», а также собственные, времён Тифлиса, издания. Логотипом «41°» он пользовался и для обнародования последних в его практике образчиков зауми. Увы, «Ззудо», «Цоца» и «Заумь» в оформлении А. Родченко — реанимация супрематической зауми и наработок фактуры слова — обаянием ранних его рукописных книг «Цоц», «Фо-лы-фа», «Качилдаз» и «Шбыц» не отличались.
Коллективный сборник «Заумники» (Кручёных, Хлебников, Григорий Петников) вышел, как в старые добрые времена раннего футуризма, под маркой «ЕУЫ». Кручёных поместил в нём свои кавказские стихи и «Декларацию заумного языка». В последней, по замечанию М. Марцадури, „недоставало параграфа из бакинского издания 1921 г., отражавшего идеи Терентьева о случайном в творчестве”.98![]()
Несмотря на громогласные заявления, после возвращения с Кавказа отношение Кручёных к зауми заметно меняется. Это уже не повседневная поэтическая практика, но предмет осмысления; налицо и постановка задачи встряхнуть заумью театр. Таково большинство изданных им в 1921–1923 гг. книг: «Фактура слова» (т.е. „делание слова, конструкция, наслоение, накопление, расположение тем или иным образом слогов, букв и слов”100![]()
![]()
![]()
В «Сдвигологии...» видим не только свод образчиков сдвига, но и попытки теоретизирования. Однако считать вопрос решённым не позволяют и «500 новых острот и каламбуров Пушкина», изданные годом спустя. Хотя здесь приведены (и, соответственно, классифицированы) едва ли не все примеры сдвига у Пушкина, автор демонстрирует стремление опереться на авторитет литераторов-современников — Вяч. Иванова, В. Катаева, А. Чичерина.
Едва ли не все литературные критики того времени к этому заключительному аккорду изысканий Кручёных в области сдвигологии русского стиха отнеслись пренебрежительно. Точную в исторической перспективе и однозначно положительную оценку дал только К. Якобсон, в озаглавленном «Десять возражений» приложении к «500 новым остротам...» отметив „серьёзный вклад (правда, пока только в виде сырого материала) в современную науку о литературе” этого исследования.103![]()
Важной вехой в жизни и творчестве Кручёных стал 1923 г., когда он вместе с Маяковским и В. Каменским вошёл в Левый фронт искусств (ЛЕФ). В новых социальных условиях занималась последняя заря русского авангарда — постфутуризм. ЛЕФ и одноименный журнал возглавил Маяковский. Кручёных ни в новом движении, ни в его печатном органе заметной роли не играл, но в редколлегии числился и напечатал несколько программных стихотворений: «1-е Мая», «Траурный Рур!», «Радостный Рур», «Мароженица богов», «Аэрокрепость», «1914–1924» («Иоганн протеза»), «Баллада о фашисте», «Акула и червяк». Все они беспрепятственно проходили пролетарскую цензуру, хотя Кручёных отнюдь не изменял своей “фирменной” фонетике. Его “лефовские” стихи не были ни примитивистскими, ни алогичными, ни заумными (заумь уже тогда практически сошла на нет). Преобладали взаимоисключающие образы, вплоть до т.н. „нулевых”, — обычный его приём кавказского периода.
Маяковский дал весьма краткую и неопределённую оценку творчества Кручёных той поры: „аллитерация, диссонанс, целевая установка”, добавив, что такая разработка стиха станет помощью грядущим поэтам.104![]()
Держась в команде Маяковского несколько наособицу, Кручёных, тем не менее, яростно отстаивает ЛЕФ (и любое проявление авангардизма, разумеется). Отменная выучка дореволюционной литературной борьбы пригодилась: всё, что не отвечало генеральной установке ЛЕФа на литературу факта — тем более шло ей вразрез, — Кручёных подвергал уничтожающей критике, весьма искусно расцвечивая брань. В погромной «Декларации №6 о сегодняшних искусствах. (Тезисы)» вся “пролетарская” литература представляется ему cмесью „Волховстроя с водосвятием, металлиста с Мережковским, завода с храмом”, где „социализм смешан с сексуализмом, газетный фельетон с лампадным маслом, цыганщина с обедней”; отклики на современность кажутся ему „помесью водяночной тургеневской усадьбы с дизелем, попытку подогреть вчерашнее жаркое Л. Толстого и Боборыкина в раскалённой домне, в результате — ожоги, гарь, смрад...” Не лучше, по словам поэта, положение дел в советском театре, кино и живописи. Заканчивается эта головомойка поучениями по прописям ЛЕФа:
Всё это напечатано в 1925 г. Год спустя Кручёных обрушивается на “упадочную” литературу. Стихоплётам вроде Ильи Садофьева жаловаться грех: стратегической мишенью был выбран Сергей Есенин. Трудно сказать, чего в этих нападках больше — личного мнения или установок группы. Близко знавший Кручёных А. Шемшурин полагал, что тот
Но факт остаётся фактом: менее чем за год Кручёных выпустил двенадцать бичующих Есенина и “есенинщину” брошюр. А. Шемшурин этого отнюдь не одобрял:
Споры об этих книжечках слышны и по сей день...
Подобно временам раннего футуризма и кавказскому периоду, в своей исследовательской практике Кручёных зачастую ориентировался на труды примкнувших к ЛЕФу русских формалистов (объединение ОПОЯЗ) В. Шкловского, Л. Якубинского, Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума. Доказательство тому его «Приёмы ленинской речи»: приоритет изучения агитационно-пропагандистского искусства вождя мирового пролетариата с позиций лингвистики принадлежит именно этой группе. Однако статьи указанной тематики, напечатанные в одном из номеров «ЛЕФа», оказались не теоретическим фундаментом изысканий Кручёных, а лишь примером для подражания. Не углубляясь в фонетику речи Ленина, что было бы филологически продуктивней, он занялся инвентаризацией ораторских приёмов и стиля его политических статей. Вероятно, этим Кручёных планировал разнообразить свой аналитический арсенал, уже опробованный в «Языке Троцкого»; однако весьма отдалённое подобие научной монографии закончить так и не удалось, а подготовленная к печати ещё в 1924 г. книга о Троцком так и осталась неизданной.
Если «Приёмы ленинской речи» воспринимаются как нечто выламывающееся из творчества Кручёных (то же самое относится и к «ЛЕФ-агиткам Маяковского, Асеева, Третьякова» 1925 г.), то полузабытый ныне сборник статей «Новое в писательской технике» (1925; переиздано в 1927 гг.) своей актуальности, на наш взгляд, отнюдь не утратил.
К сожалению, вниманием филологов не избалованы и “уголовные романы” Кручёных «Дунька-Рубиха», «Разбойник Ванька-Каин и Сонька-Маникюрщица», «Случай с контрагентом в номерах» и др., где популярную в те годы социальную тему он трактовал с точки зрения осуществления „языковых заданий”.107![]()
Помимо “криминального чтива” Кручёных оформлял и агит-пьесы „для деревенского театра”, которые массово штампует в 1927 г.: «Кума-затейница», «Девичья хитрость», «Хулиганы в деревне», «Тьма» (совместно с М. Романовским), «Родительское проклятье», «Насильники». С Госиздатом был заключён договор на издание пьесы «Павлова женитьба», ленинградским Театром Дома печати на сезон 1927–1928 гг. анонсирован «Колхоз». В планы Кручёных входила и „посвящённой китайским событиям” театральная постановка. Разумеется, ни одна из этих телесного пропитания ради написанных агиток даже отдалённо не напоминала легендарную к тому времени «Победу над солнцем».
Авангардизму как таковому Кручёных удалось предаться на весьма недолгое время только в 1928 г. Это напрямую связано с возобновлением журнала «ЛЕФ», упразднённого три года назад. Не разделяя радикализма творческих установок Терентьева („заумь попадает в марксистское учение самым безболезненным образом”), он всё же рассчитывал на постановку в ленинградском Театре Дома печати своей пьесы, „небывалой по впечатлениям и последствиям” (мнение Терентьева, руководителя этого театра). Пьеса поставлена не была, зато к читателю пришёл подготовленный Кручёных “юбилейный” сборник «15 лет русского футуризма. 1912–1927 гг. Материалы и комментарии» с участием В. Хлебникова (посмертно), Терентьева, переехавшего в Москву одесского ЛЕФовца Семёна Исааковича Кирсанова (1907–1972) и, разумеется, самого Кручёных. Несмотря на ершистость и отдельные любопытные материалы, сборник не стал ни „залпом” наподобие «Пощёчины общественному вкусу», ни началом нового витка русского авангарда (как не стал им «Новый ЛЕФ», продержавшийся на плаву чуть больше года), ни даже удачной антологией богатейшего двадцатилетнего опыта футуризма.
Обстоятельства складывались далеко не в пользу Кручёных, Терентьева и их немногочисленных единомышленников в Москве и Ленинграде (здесь обосновался последовательный заумник, автор книг «К зауми» и «Ушкуйники» Александр Васильевич Туфанов, 1887–1942). Явно запоздало и создание в 1927 г. ленинградского отделения ЛЕФ (ЛенЛЕФ), руководство которого планировало сотрудничать с „а) опоязовцами, б) молодыми исследователями из Института истории искусств, в) с отдельными товарищами, близкими по своей работе к ЛЕФу, — Тихоновым, Кавериным и т.п.”,108![]()
Отчаянно взывал он и к „московским авторитетам”, умоляя то Маяковского, то Н. Бухарина приехать и поддержать. Терентьеву казалось, что противоборство авангардизму в Ленинграде конца 20-х гг. — сугубо локальное недоразумение, и “поворот влево” наступит с приездом начальства „для временного успокоения”.
Между тем идеологический кредит Кручёных иссяк: третье издание «Приёмов ленинской речи» (1928 г.) оказалось его последней напечатанной в государственной типографии книгой. Пришлось освоить стеклограф, а затем и машинопись: выражаясь современным языком, уйти в самиздат. М. Марцадури пишет по этому поводу:
Финальным аккордом авангардистской деятельности Кручёных стали отпечатанные на стеклографе лирические поэмы «Ирониада» (май-июнь 1930) и «Рубиниада» (август-сентябрь 1930). Их появлению в какой-то мере предшествовали один из лучших его лирических сборников «Календарь» (1925), составленный в основном из стихотворений кавказского периода, тематически выстроенных по принципу смены времён года, и оригинальный, не имеющий аналогов сборник стихотворных кино-рецензий «Говорящее кино» (1928). Поводом к преимущественно примитивистским, безрифменным экспериментам 1930 г. стала демонстрация в московском Доме Союзов новейшей немецкой системы звукового кино «Три Эргон».
Установлено, что героиня «Ирониады», «Рубиниады», а также рукописных сборников «Ирина в снегу», «Книга иринная» и «Турнир иринный» (1932–1935 гг.) — возлюбленная Кручёных москвичка Ирина Смирнова (автор заявил, что „было бы наивностью искать здесь чей-нибудь индивидуальный портрет”.110![]()
Ограниченный тираж «Ирониады» и «Рубиниады» (250 и 130 экземпляров соответственно) Кручёных объяснил в предисловии к «Ирониаде» следующим образом: оба издания возможны „лишь в дискуссионном порядке”, причём задача «Ирониады» — „изощрённость и новизна текста, ирония к существующему, ‹...› введение новых интересов, ритма, словаря”. Поэма в плане оформления (на обложке последователь К. Малевича И. Клюн изобразил джаз-бэнд) очевидным образом перекликается с кавказскими стихами, многие из которых Кручёных инструментировал, а его соратник К. Зданевич сопроводил „симфоническими” картинами.
Постоянные перебои ритма, предельную смысловую насыщенность, динамизм, эмоциональность, алогизмы, ассоциативные ходы, высокую плотность метафор и неологизмов «Ирониады» органично продолжает «Рубиниада». Лейтмотив этой поэмы — воспоминания о Кавказе: „жара, юг, красные краски, раскалённые звуки, кричащее горло” и т.п. Здесь та же, что и в «Ирониаде», чехарда ритмов и настроений, но с одной немаловажной особенностью: художник по профессии, Кручёных пишет поэму раздельными пятнами акварели — контрастными, взрывными, ослепительными, зажигающими — и всё это щедро спрыскивает гранатовым соком:
«Ирониаду» и «Рубиниаду» — шедевры русского авангарда времён его ликвидации — Н. Харджиев назвал не только лучшими образчиками любовной лирики Кручёных, но и перекличкой на равных с «Облаком в штанах» Маяковского.

| Персональная страница А.Е. Кручёных | ||
| карта сайта | 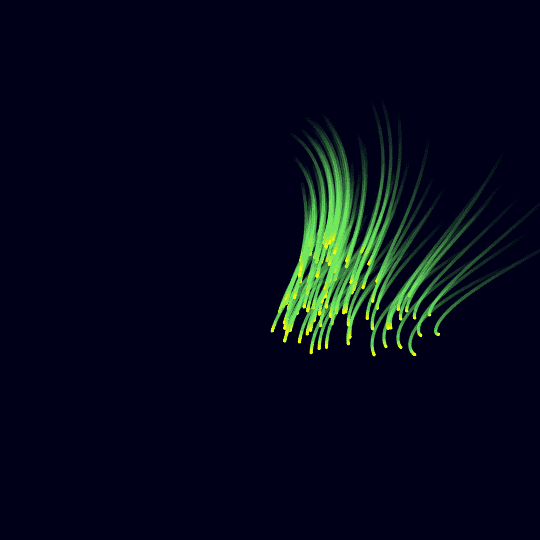 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||