Перцова Н.Н.
О рукописи Хлебникова «Слова разговоров»
Сопроводительная записка В. Молотилова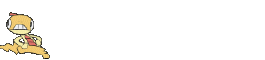
Искусство — суровый бич: оно разрушает семьи,
оно ломает жизни и душу. Трещиной раскола отделяет душу от другой и
труп привязывает к башне, где коршуны славы клюют когда-то живого человека.
В. Хлебников

редмет настоящей статьи — заметка из архива Велимира Хлебникова в Российской национальной библиотеке (РО РНБ, ф. 1087, № 26, фр. 1: 1), озаглавленная «Слова разговоров». На первый взгляд может показаться, что Хлебников, подобно Алексею Кручёных и под влиянием последнего, записывал для Романа Якобсона образчики устной речи (чем уже тогда интересовались и лингвисты), однако более внимательное чтение неразборчиво набросанного текста настраивает на иное его толкование.
Слова разговоров
вы изменились я думала вы друг‹ой›
1) Я была бы безумной, если бы вышла за вас зам‹уж›
Пишите если хотите.
Напишите как вы доехали.глупый Пум‹ик› глу-п-пый!
пришлите одного калмыка.занятно.
Будьте счастливы.
Но теперь это не‹возможно› а потом…
Я проводила бы вас но встречать приятнее чем прощаться.
(засмея‹лась›)
тогда я выберу ‹Ни›купрощайте Пумик
все мужчин‹ы› отвратит‹ельны›я изыска‹нна› я красив‹а›
в вас сл‹ишком› м‹ного› мужчиныКак‹ие› со‹впадения› Надя за Над‹у›
а подробности.
вы еще
вас общи‹пали› все‹го› а вы ср‹ам›итесь
почему вы срамитесь.
поступи‹те› в Университет.
Конец
Этот текст, имеющий номер 1 (то есть предполагалась запись и других разговоров), представляется передачей речи некой женщины с авторскими ремарками: засмеялась, Конец. В тексте упомянуто её имя: Нада — это Надежда Васильевна Николаева, с которой Хлебникова связывали близкие отношения и которой он доверил значительную часть своего архива; так, практически весь фонд Хлебникова в РНБ — это дар Надежды Васильевны. Именно она придумала для него прозвище «Пума», прижившееся и среди друзей поэта. Некоторые из фраз, записанных в левом столбце рукописи, произнесены Николаевой в минуту гнева и оскорбительны не только сами по себе, но и в контексте сложных отношений поэта с семьёй, побуждавшей его отказаться от богемного образа жизни и вернуться в университет, который он оставил в 1911 году. Легкомысленно-беспечные реплики из правого столбца (прежде всего, я изысканна, я красива), не вполне уместные рядом с колкостями и поучениями из левого, вероятно, передают словечки, характерные для обычной речи Надежды Васильевны. Их отзвуки слышатся в художественных текстах Хлебникова: эпизодическая Изанаги в «Ка» называет себя обожаемой, очаровательной (СП IV: 57); Дочь Выдры в рукописном сценическом варианте «Детей Выдры» обращается после венчания к своему избраннику со словами Прощайте, Выдрик (ИМЛИ, ф. 139, оп.1, № 6: 4 об.).
Как представляется, перед нами важный автобиографический документ, задающий начало конца отношений двух искренне привязанных друг к другу людей. Когда же происходил этот разговор? Для ответа на этот вопрос обратимся к тому, что известно о Николаевой и её отношениях с Хлебниковым.
Надежда Васильевна Николаева (в замужестве Новицкая) родилась 13 октября ст. ст. 1894 г. в Иркутской губернии, умерла 30 декабря 1979 г. в Ленинграде. Она была из обеспеченной семьи. Отец — инженер, мать по одним данным происходила из рода поэта-партизана Дениса Давыдова, а по другим была в родстве с К.П. Победоносцевым. В 1903 г. семья переехала в Москву. Николаева окончила классическую гимназию, занималась балетом, археологией и искусствознанием (в частности, Италией и древним Китаем), снималась в кино. С 1914 по 1916 г. училась в Археологическом институте, не закончила его по болезни. Уже с 1913 г. юная Надежда Васильевна начала жить самостоятельно, общаясь с художниками и поэтами-авангардистами — Гончаровой и Ларионовым, Бурлюками, Ле Дантю, Зданевичем и др. Участвовала как балерина в выступлениях футуристов, организованных Давидом Бурлюком. В 1913 – начале 1914 г. жила вместе с украинским художником Всеволодом Максимовичем (учеником Ивана Мясоедова), которого и похоронила в апреле 1914 г. после его самоубийства, имевшего большой общественный резонанс. Весной 1919 г. уехала с семьёй в Вологду, где получил работу её отец. Там в 1923 г. она познакомилась с рабочим, впоследствии агрономом, Мечиславом Ивановичем Новицким, вышла за него замуж и прожила с ним до его смерти в 1954 г. Начиная с середины 1920-х семья обосновалась в Ленинграде и Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны Новицкая сначала была в осаждённом Ленинграде, а позже работала переводчицей с немецкого в Ярославской области, куда поехала вслед за призванным в армию мужем. Всю жизнь бережно хранила и бесплатно передавала музеям и архивам наследие трёх безвременно ушедших друзей её молодости, доверивших ей своё творчество: художника Максимовича, поэта Хлебникова и лётчика и поэта Вячеслава Викторовича Михайлова, без вести пропавшего на фронте в конце Первой мировой войны.
В своих мемуарах современники редко упоминали об отношениях Николаевой и Хлебникова, причём, даже говоря о Надежде Васильевне, часто опускали её имя. Приведём выдержки из воспоминаний Д. Бурлюка и Д. Петровского:
С 1914 года живём в Михалеве под Москвой.
Витя в 1914 году и 1915 живал у меня в Михалеве летами; там было очень обстановочно, но голодно.
Его в Москву увезла к себе в 1914 году так называемая „Китайская Богородица”, происходившая из рода партизана Давыдова.
О ней хорошо знал художник Фёдоров из Ростова-на-Дону.
Мной она описана в романе моём «Лестница Иакова» (в рукописи).
(Бурлюк, 1994: 48)
Влюблялся Хлебников невероятное количество раз, но никогда не любил по-настоящему. Об одной очень интересной влюблённости Хлебникова пришлось бы говорить несколько больше — она отозвалась на его творчестве периода с 1914 по 1916 годы; следом этой влюблённости оставалось прозвище «Пума».
(Петровский, 1926: 29)
Он решил идти в гости к Н.В. Николаевой и оставил меня одного.
(Там же: 43; речь идёт о ноябре-декабре 1917 г.)
Столь же глухи сведения о Николаевой в подготовленной Н.И. Харджиевым книге (НП), в значительной мере опирающейся на хлебниковские рукописи, которые были предоставлены составителю именно ею. Так, в комментариях к поэме «Обед детьми», в публикации, названной по первой строке «Как быстро носятся лета», сообщается, с одной стороны, что поэма, „по свидетельству Н.В. Новицкой, написана летом 1914 г.”, с другой стороны, что строки Вот Нада. / Она себя звала „оно”. / Не надо / Тревожить то, что умерло давно. / Стоит любя с “зубною свечкой” „обращены к Н.В. Николаевой” (НП: 390–391), однако никаких указаний на то, что Новицкая и Николаева — одно и то же лицо, нет.
Впервые серьёзный анализ отношений Николаевой и Хлебникова (по документам, хранящимся в РНБ) был дан в статье Н.А. Зубковой (Зубкова: 1996), в этой статье приводятся также ценные сведения о Надежде Васильевне и её семье. Однако ряд недоступных исследовательнице материалов, прежде всего документов из недавно открытого при Амстердамском Музее Стеделийк фонда «Н.И. Харджиев — Л.В. Чага» (далее: Sted), заставляет частично пересмотреть некоторые выводы этой статьи, особенно касающиеся датировки тех или иных событий. В архиве Харджиева в (Sted) хранится достаточно представительный пласт документов, так или иначе связанных с Николаевой (приводимые ниже цитаты взяты из (Sted: box 17). Их знакомство относится к 1935 г., о чём свидетельствует следующая его запись:
Май 1935. Знакомство и встреча с Н.В. Николаевой. У неё был роман с Хлебниковым, который даже помышлял о женитьбе.
Харджиев передаёт свои впечатления о ней; в его оценках сквозит недоброжелательность, однако он не может не отметить её красоту и ум (подробнее см.: Перцова, 2002). Исследователь записывает воспоминания Надежды Васильевны о её жизни в 1913–1914 гг.: рассказы о приятелях (Гончаровой, Ларионове и др.) и о знакомстве с Хлебниковым и Маяковским, которое произошло в 1913 г. на вечере издателя В.В. Пошуканиса. Хлебников скучал в углу дивана; началу дружбы между молодыми людьми способствовала общность интересов: оба в то время интересовались древним востоком, Хлебников — Египтом, Николаева — Китаем. Летом 1914 г., после пережитой Надеждой Васильевной трагедии (как уже говорилось, в апреле погиб Максимович; по её рассказу, он „ложечкой съел морфий и уснул, через 2 дня умер в больнице”), она пригласила Хлебникова на подмосковную дачу, где жила вместе с семьёй (ср. выдержку из воспоминаний Бурлюка выше):
Он вместе со мной поехал на дачу, где жили мои родители, в Петровское-Разумовское.
Мы жили отдельно во втором этаже, под крышей. ‹...›
Здесь он узнал об объявлении войны Германии.
В воспоминаниях Николаевой об этом, быть может, самом счастливом в её жизни лете, много смешных и трогательных деталей: о том, почему она назвала его Пумой („Волосы Хлебникова были похожи на пушистую шерсть безгривого льва — пумы. Отсюда прозвище”), о его ревности к приезжающим к ней в гости поклонникам, о том, как, зная о её любви к лягушкам, он ранним утром собирал их в лесу, чтобы порадовать подругу при её пробуждении и т.д. Интересен рассказ об отношении Хлебникова к матери Надежды Васильевны, особенно, если вспомнить, что уже в начале следующего года поэт обратится к теме двойников в повести «Ка»:
Её мать (она ещё жива, но впала в детство) была полубезумная. Писала стихи, верила в приметы, рассказывала свои сны, видела двойников. Гость ушёл, а она сидит с его двойником у чайного стола и беседует. Хлебников относился к ней с любопытством и любил слушать её рассказы.
Память об этом дачном лете часто присутствует в стихах Хлебникова, обращённых к Николаевой: в них повторяются такие детали, как белые летние одежды; выгоревшие на солнце или распустившиеся длинные косы; обнажившееся смуглое плечо; близость воды и купание; сорванный ею цветок, приколотый к волосам или упавший на землю. Тогда же Хлебников нарисовал портрет Надежды Васильевны; передавая его фотокопию в РНБ, она написала на обороте следующие пояснения (Зубкова, 1996: 214):
Рисунок В. Хлебникова, сделанный в 1914 г. в Петровско-Разумовском (под Москвой), где Хлебников гостил на даче у меня, в нашей семье. Рисунок сделан с меня, в синей школьной тетради, где была поэма «Обед детьми» (изданная впервые Н.И. Харджиевым в 1940 г. в «Неизданном Хлеб.» под заглавием «Как быстро носятся лета!»). В настоящее время ни тетрадь, ни оригинал портрета не существует, она погибла при обстоятельствах, о которых не нахожу интересным сообщать.
Н. Новицкая. 21.VI.67.
Записанные Харджиевым воспоминания Николаевой, подробные, часто повторяющие с разными деталями одни и те же события, почему-то всегда останавливаются на времени начала войны, времени отъезда Хлебникова в Астрахань. О дальнейшем развитии событий можно судить на основании четырёх его писем к Надежде Васильевне, опубликованных в НП, дневниковых записей, фрагментарно представленных в СП, и писем жившего с 1910 по 1916 г. в Москве младшего брата Хлебникова Александра Владимировича к родным в Астрахань (Волга).
В конце августа 1914 г. Хлебников пишет Николаевой два письма, влюблённых и неуверенно-кокетливых; одно из них размером в спичечный коробок, второе также весьма причудливо, ср. следующее его описание в статье (Зубкова, 1996: 214):
На оборотной стороне ‹открытки с котятами› им начертаны две нотные строки, геометрическая фигура, два ажурных рисунка, поставлены вопросительные и восклицательные знаки, точки, кавычки ‹...›.
Затем случается весьма тяжёлое для Хлебникова событие: 31 августа или 7 сентября (дата не вполне ясна из-за небрежной публикации дневника поэта) в Астрахани происходит серьёзная ссора с родителями, в результате которой он изгоняется из отчего дома (СП V: 329) и едет в Петроград — естественно, через Москву. Обычно в Москве он останавливался у брата Александра, скорее всего, так было и на этот раз. Однако встреча братьев была нерадостной; в октябрьском письме к отцу Александр отзывается о брате с некоторым недовольством (Волга: 155), пропущенный публикаторами фрагмент письма, возможно, содержит какие-то более определённые сведения о причинах этого недовольства):
‹...› Я никем не был „огорчён”, а меньше всего Витей. Я знаю, что всё это объясняется плохим самочувствием, как духовным, так и физическим. Он к жизни был привязан одной футуристической идеей. Теперь, когда она блекнет и рвётся, он должен себя чувствовать плохо.
Отдалившись от семьи, Хлебников одновременно духовно сближается с Николаевой, о чём свидетельствует изменение тона его писем. Приехав в Петроград, он шлёт ей 7-го и 11-го октября два письма, резко отличающихся от августовских: в них появляются нотки родственности и уверенности в том, что, чуждый всем, в ней он найдёт понимание. Вот выдержка из второго письма (НП: 371):
Я устроился довольно скверно в Шувалове, около Петербурга. Там я имею удовольствие видеть каждый день Кручёных. Я доволен тишиной и озером около дачи; я дописываю статью и напечатаю; теперь я твёрдо знаю, что рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня.
Исследуя в 1915 г. ритмы своих отношений с женщинами (СП V: 331), Хлебников записывает две даты, относящиеся к 1914 г. и, по всей видимости, связанные с Николаевой: 24 июня и 28 сентября. Если первая дата может означать время физической близости или время его приезда в Петровское-Разумовское, то вторая, не исключено, время сватовства. На то, что сентябрьские дни, несмотря на конфликт с семьёй, не были безрадостными, может указывать и такая дневниковая запись (СП V: 329): 23 сентября чудный день, солнце, тепло…. В этот момент Надежда Васильевна — близкий для него человек. Поэтому, скорее всего, в этот приезд Хлебников и передал ей привезённые из дома рукописи, включая ранние, относящиеся к 1900-м гг., например, прозу «Еня Воейков» и лингвофилософский опыт создания значкового языка (обе рукописи были переданы ею в РНБ).
В конце 1914 г. Хлебников возвращается из Петрограда в Астрахань и в начале 1915 г. пишет повесть «Ка», где все основные героини в том или ином отношении напоминают Николаеву. Не случайно поэтому, что авторизованные гранки «Ка» со штампом типографии от 12 февраля 1916 г. оказались в архиве Николаевой (позже также были переданы ею в РНБ).
В начале лета 1915 г. он снова надолго приезжает в Москву. Он уже не живёт на даче Николаевых, не живёт он, вопреки мемуарам Д. Бурлюка, и на их даче в Михалеве. 11 июня он посылает матери свой адрес — станция Пушкино, деревня Акулова гора (СП V: 303); позднее Александр сообщает родителям о брате следующее (Волга: 156):
29.VI.1915
Витя приезжал ко мне. Выглядит он по-старому. Он поселился в дачной местности, недалеко от Бурлюка. Я ездил к нему на одно воскресенье. Мы бродили по лесу и у реки. Витя занимался рубкой деревьев моей шашкой. Расстались мы дружески.
22 июля 1915
Витя уехал в Петербург и не зашёл ко мне на прощание. Если он дал вам свой адрес, напишите мне его. В знак своей кротости Витя передал мне несколько своих книг и книгу Игоря Северянина.
Никаких отчётливых сведений о том, встречался ли Хлебников в это лето с Николаевой, мне найти не удалось. Однако ещё в начале осени она сильно интересует его: в коротком письме из Петрограда к В. Каменскому он дважды спрашивает о ней, прикрывая настойчивость вопросов шутливым наименованием гейша (НП: 380). Он собирается вернуться в Москву, но 12 сентября знакомится в Куоккале с баронессой Верой Александровной Будберг — близкой ко двору красавицей, невестой другого, сестрой милосердия, абсолютно равнодушной к поэту — которая в его глазах затмевает всех остальных женщин.
В ноябре Хлебников всё же, по-видимому, ненадолго посещает Москву (см. декабрьское письмо из Петрограда к Н. Асееву, в котором упоминается его переезд с Курского на Николаевский вокзал (СП V: 305), однако никаких сведений о встречах в это время с Николаевой не сохранилось. Определённо можно сказать, что они общались в следующий его приезд, когда он жил в Москве с января по конец марта 1916 г. Подтверждения можно найти в архиве Николаевой (как уже говорилось, именно ей он подарил гранки «Ка» с типографским штампом от 12 февраля) и в двух посвящённых ей стихотворениях Хлебникова, относящихся к этому времени: «Бегство от себя» (в самом названии приговор их отношениям: к ней — это значит „от себя”) и «Из ревности, из удали». Последнее стихотворение было записано Д. Петровским, по его свидетельству оно завершало черновой вариант «Бегства от себя». Это было время, когда приближалась служба поэта в армии. По закону, как ратник ополчения II-го разряда (к этому разряду относились те, кто ранее не служил в армии), возраст которого на момент начала войны составлял 28 лет, он подлежал призыву 25 марта 1916 г. (см.: Мамаев, 1996: 40). И действительно, уехав из Москвы в Астрахань, Хлебников уже в начале апреля был призван на военную службу.
В дальнейшем они встречались в Москве не раз. Стихи Хлебникова «Вчера я молвил» (апрель 1917 г.; НП: 275) дают основание для предположения, что он навещал её весной 1917 г. Приведённые выше воспоминания Петровского указывают на то, что он посещал её в ноябре–декабре 1917 г. О последней встрече, состоявшейся весной 1919 г., Новицкая рассказала в 1967 г. сотрудникам РНБ при передаче архивов Хлебникова и Михайлова: уезжая в Вологду, она зовёт Хлебникова с собой, но „он выбирает другой путь” (Зубкова, 1996: 222).
Материалы Хлебникова, которые он передавал ей в 1914–1916 гг., остались у неё. В дальнейшем они были разделены на три части. Одну часть рукописей Хлебникова Новицкая предоставляла, начиная со второй половины 1930-х гг., для публикации Харджиеву с условием, что после окончания работы над ними он передаст их в государственный архив по своему выбору. Это условие выполнено не было: в 1979 г. рукописи всё ещё находились у Харджиева (подробнее см.: Перцова: 2002), где они сейчас — можно только гадать. Вторая часть (228 листов) была в 1967 г. безвозмездно передана ею на вечное хранение в РНБ — (РО РНБ, ф. 1087). Третью часть Новицкая до своей смерти хранила у себя. Дальнейшая судьба этих рукописей неизвестна, можно отметить только, что оригиналы некоторых её личных бумаг, с которыми она сама ни в коем случае не рассталась бы, а именно, письмо от директора РНБ с благодарностью за желание передать библиотеке рукописи Хлебникова и расписка заведующего отделом рукописей о принятии их на хранение в библиотеку, почему-то оказались в (Sted).
Вернёмся к вопросу, поставленному в начале статьи. Когда произошёл разговор, слова которого записал Хлебников? Он не мог состояться ранее начала романа с Николаевой или позднее призыва поэта в армию, то есть самый широкий интервал — это время с лета 1914 по весну 1916 г. Ещё одно биографическое указание задано фразами Я проводила бы вас ‹...› и пришлите одного калмыка: разговор происходит непосредственно перед отъездом поэта из Москвы, уезжает он в Астрахань. Документальное подтверждение находят два таких случая. Во-первых, после начала войны с Германией, в конце июля – первой половине августа 1914, поэт отправляется домой после пребывания в Петровском-Разумовском. Однако сразу после совместной жизни на даче и перед первой после начала романа разлукой фраза Вы изменились ‹...› не могла быть ею сказана, поэтому этот вариант надо отвергнуть. Во-вторых, после трёхмесячного пребывания в Москве с января по март 1916 поэт уезжает домой, поскольку подошло время его призыва на военную службу. В это время их отношения уже далеко не безоблачны. Совсем недавно, осенью 1915-го, Хлебников обдумывал возможность брака с Верой Будберг, и Николаева не могла не почувствовать его охлаждения. Действительно, в обращённых к ней стихах 1916 г. сохранились свидетельства её ревности: Из ревности, из удали, / Но режут сарты. / Оттуда ли, / Но золотой пожар ты!. В то же время фраза Я была бы безумной, если бы вышла за вас замуж предполагает полную уверенность говорящей в своей единственности. Непосредственно перед призывом в армию был бы абсурдным и совет поступить в университет. Кроме того, на этот раз Хлебников снова уезжает после долгого пребывания в Москве и поэтому при прощании с ним снова неуместна реплика Вы изменились ‹...›. Итак, нам надо искать какую-то иную временнýю точку, которая отвечала бы следующим условиям: Хлебников и Николаева только что встретились после разлуки и расстаются вновь, так как он уезжает в Астрахань; он (ранее или только что) сделал ей предложение, и она совершенно уверена в его чувствах, то есть никаких соперниц пока нет; до его призыва в армию остаётся достаточно времени, чтобы успеть окончить университет. Это даёт более узкий интервал: после последнего (цитировавшегося выше) письма Хлебникова к Николаевой из Петрограда 11 октября 1914 г. и до знакомства с Будберг 12 сентября 1915 г. Поскольку никаких сведений о его отъезде из Москвы в Астрахань в этот период не сохранилось, нам придётся пользоваться лишь косвенными данными.
В этот период Хлебников посещал Астрахань единожды, возвращаясь из Петрограда в конце 1914 г.; путь его, естественно, лежит через Москву. Об этой поездке и первых неделях в Астрахани Хлебников сообщает в трёх письмах к М.В. Матюшину, выдержки из которых приводятся ниже (НП: 372–374).
Первое письмо
Вы помните, отчасти сожалея, отчасти довольный, в холодный мрачный день я оставил Невск, спасаясь от холода и стужи. Когда поезд тронулся, вы приветливо махали рукой. Я попал в мрачное общество; я выехал во вторник, приехал в субботу — итого 5 дней пути; один лишний день я сам себе навязал. После переправы через Волгу я обратился в кусок льда и стал смотреть на мир из царства теней. Таким я бродил по поезду, наводя ужас на живых; так моряки сворачивают паруса и спешат к берегу при виде обледеневшего Мёртвого голландца. Соседи шарахались в сторону, когда я приближался к ним; дети переставали плакать, кумушки шушукаться. Но вот снег исчез с полей, близка столица Го-Аспа.
Я занимаю у извозчика, даю носильщику и качу к себе; здесь чарующий приём, несколько овнов сжигаются в честь меня, возносятся свечи богам, курятся благовонные угли. Рой теней милых и проклинающих, я стою, голова кружится; тускло; смотрюсь в зеркало: вместо прекрасных живых зрачков с вдохновенной мыслью — тусклые дыры мертвеца. В каком-то невежественном мире я почувствовал себя уже казнённым. ‹...›
Оказывается, если бы не холод, то я мог бы не уезжать: мне было уготовано кое-какое (40 руб.) жалование, именно с 28 числа.
Второе письмо
Спасибо за письмо и за книжки. Я так развинчен, что с трудом поймал себя на том редком времени, когда могу написать письмо. Эти дни для меня важные, т.к. 15 декабря и 20 декабря должны быть морские большие, первой величины, бои.
Третье письмо
Начинаю повесть о моей ошибке. Я считал, что 15 будет большая битва. Её не было.
Попытаемся определить время отъезда Хлебникова из Петрограда домой. Первое и второе письма условно датированы Харджиевым декабрём 1914 г., третье имеет точную дату — 17 декабря 1914. Второе письмо написано, судя по содержащемуся в нём предсказанию морского боя 15 декабря, до этой даты. Первое, соответственно, несколько ранее. Из письма явствует, что основная причина, побудившая его покинуть Петроград — безденежье. В нём упоминается, что 28-го (судя по контексту, это 28 ноября) родители собирались выслать ему 40 руб. (своим жалованием Хлебников часто называл помощь из дома), и тогда он мог бы не уезжать. Приезд Хлебникова в Астрахань сделал высылку денег ненужной, то есть он должен был приехать домой незадолго до 28 ноября. Дорога, как он пишет, заняла 5 дней, со вторника по субботу. В 1914 г. ближайшие к этой дате субботы приходились на 15 и 22 ноября ст. ст. (Расчёты произведены с помощью программы, разработанной Л.И. Эрлихом, которому я глубоко признательна за эту справку. — Н.П.); соответственно, из Невска Хлебников выехал 11 или 18 ноября.
Содержание двух первых писем достаточно мрачно, в них говорится о каком-то глубоком кризисе, тяжелейшем настроении, которое вряд ли можно объяснить холодом в поезде и которого не было в момент отъезда из Петрограда. Одновременно сообщается, что он сам навязал себе один лишний день. Вероятно, этот день он провёл в Москве, рядом с Надеждой Васильевной, и именно тогда она могла наговорить ему то, что записал он в «Словах разговоров». Что могло так раздражать её? Представим себе этот день. Без копейки денег (в Астрахани занял у извозчика, чтобы заплатить носильщику) двадцатидевятилетний известный поэт (в 1914 г. у него выходит книга за книгой) возвращается на хлеба к родителям, с которыми незадолго до этого произошёл серьёзный конфликт (Как можно судить по письмам Александра Хлебникова в Астрахань, в конце октября родные пытались установить контакт с Велимиром. Видимо, их зов дошёл до него и мир был восстановлен — Н.П.). В то же время, менее одарённым общим знакомым удаётся кое-что зарабатывать на общем будетлянском деле, важную лепту в которое вносит именно он. Вся жизнь Надежды Васильевны говорит о её полном бескорыстии и преданности в дружбе и любви, кроме того, в те годы она была женщиной весьма обеспеченной. Вероятно, в его неумении и нежелании спуститься с облака она усмотрела угрозу их отношениям, почувствовала, что его любовь к ней вряд ли заставит его отказаться от предначертанного ему пути одинокого лицедея. В то же время, быть может, именно тяжёлый осадок от этого разговора стал помехой браку, который в какой-то момент был для Хлебникова делом решённым: в (НХ XI: 21) приводится выразительная дневниковая запись поэта:
!? Николаева-Хлебникова?! Да.
Отношения были надломлены, однако не прекратились и продолжались вплоть до 1919 г. В начале 1915 г. Хлебников пишет «Ка», где, как уже говорилось, чуть ли не в каждом женском образе сквозят черты Надежды Васильевны. Сама страничка со «Словами разговоров» перекочевала к Николаевой и была среди других рукописей передана ею в РНБ. То есть примирение, вероятно, произошло довольно скоро. Поскольку вплоть до лета 1915 г. видеться они не могли, она должна была написать ему письмо с извинениями. Николаева писала Хлебникову неоднократно, что подтверждает целый ряд его текстов: письмо к Каменскому от мая 1914 г. (НП: 369), цитата из её письма („Дорогой Витечка, пиши, не забывай меня”) в дневниковой записи начала сентября 1914 г. с пометкой Мы с Надочкой на ты (СП V: 329), письма к Николаевой с сообщением, что он перечитывает её письма, с ответами на её вопросы и просьбы (НП: 370–371). Последнее по времени упоминаемое им письмо относится как раз к ноябрю 1914 (V: 329):
Письма ко мне написаны 11–II–15 Беленсона,
29–XII–1914 Асеева
Кузьмина
1915 VIII–21 Бурлюк.
21–XI–1914 Николаева.
Почему в этих дневниковых заметках, написанных не ранее конца августа 1915 г., отмечено именно письмо от 21 ноября 1914? Чем-то оно должно было выделяться среди других писем Николаевой. Вероятно, в нём содержались те извинения и сожаления, без которых продолжение отношений вряд ли было бы возможно.
Обратимся к той части рукописной страницы со «Словами разговоров», которая следует за словом Конец. Несколько строчек по диагонали, скорее всего, приписанных позже, начинаются словами по приезде (по-видимому, в Астрахань). Две фразы из этой приписки (снова расположенные слева) могут быть продолжением воспоминаний о нравоучениях, которыми Надежда Васильевна осыпала его в Москве: достан‹ь›те часы и ‹до›печатайте 1-ый том. «1-ый том» — это, несомненно, изданная Давидом Бурлюком в 1914 г. книга Хлебникова «Творения. Т. I. 1906–1908». Упоминание о часах вызывает в памяти историю фамильных золотых часов, подаренных ему в 1911 г. двоюродным братом Борисом Лаврентьевичем Хлебниковым. В 1912 г., выпуская брошюру «Учитель и ученик», Хлебников отдал часы в заклад Бурлюкам за 20 руб., сообщив об этом дарителю. Последний выкупил часы, и они вернулись к поэту (см.: СП V: 295–296; Волга: 149–150). Конец часов печален: как-то Хлебников на спор вынес их из дома и оставил без присмотра на улице, где они и исчезли. Возможно, слова о часах относятся именно к этим часам и указывают на какой-то промежуточный этап их злоключений. Заканчивается приписка фразой Вот это приятно (‹в›ы изви‹ните›. Слова вы извините скорее угадываются, чем читаются, но так или иначе Надежда Васильевна не могла не обратиться с ними к Хлебникову, а он не мог не найти это приятным. Не исключена и цитатность записанных выше слов Когда-нибудь в Астрахань: если это выдержка из её письма, то, похоже, она размышляла о возможности самой его там навестить.
Если наше предположение правильно, и неосторожные слова были сказаны Николаевой в ноябре 1914 г., то это объясняет многое из того, что происходит в дальнейшем. Она не рассказывает Харджиеву об их отношениях после лета 1914 г. Хлебников, по всей видимости, после октября 1914 г. не пишет ей больше, хотя и справляется о ней у друзей. Его влюблённость в Веру Александровну Будберг во всём противоположна тому, что было прежде. Если сведения об отношениях с Николаевой приходится собирать буквально по крупицам, то о своих чувствах к Будберг он пишет прозу «Три Веры», рассказывает Н.Н. Евреинову. Николаева принадлежит к его кругу, Будберг с её прибалтийским замком и придворным отцом — к абсолютно иному. Николаева любит его и, как умеет, вникает в его дела, Будберг холодна, далека и безразлична. Иначе говоря, чисто умозрительная влюблённость в Веру Александровну, в перипетии которой оказался посвящённым известнейший театровед Евреинов, была, возможно, своего рода неосознанным театром чувств, относившим Хлебникова всё дальше от его Нады. Путь к ней становился бегством от себя.
В заключение приведу одно из стихотворений Хлебникова, посвящённых Николаевой, в котором он — странствующий Одиссей, она — царевна Навзикая (Sted, box 71: 36–36 об.):
НВН
Где, камень обегая, влага струи разрывает,
Навзикая,
Сидя на корточках, Моет чьи-то порты,
Присевшим муллой
[Скрюченным]
Виден памятник.
А на дороге цветок
Сорванный, вами ник.
Голубосерою клешнёй
Как древле схвачен,
Я оставил тебя, соноокий зверь.
————————
ЛитератураБурлюк, 1994 —
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения / Публ., предисл. и примеч. Н.А. Зубковой.
СПб.: Пушкинский фонд. 1994.
электронная версия указанной работы на ka2.ruВолга — Хлебников А.В. Письма к родным / Предисл. М. Митурича-Хлебникова, публ. и коммент. И. Ермаковой, Р. Дуганова // Волга. 1987. № 9. С. 138–158.
Зубкова, 1996 —
Зубкова Н.А. Надежда Новицкая и Велимир Хлебников // Рукописные памятники. Вып. 1. Публикации и исследования.
Спб.: Российская национальная библиотека, 1996. С. 213–224.
электронная версия указанной работы на ka2.ruМамаев, 1996 —
Мамаев А.А. Астрахань Велимира Хлебникова.
Астрахань: Изд. «Хаджи-Тархан». 1996.
НП —
Хлебников В. Неизданные произведения / Под ред. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Гос. изд. худож. лит. 1940.
НХ — Неизданный Хлебников. Вып. I–XXIV / Под ред. А. Крученых.
М.: Группа друзей Хлебникова. 1928–1933.
Перцова, 2002 —
Перцова Н.Н. Об амстердамских архивных материалах, связанных с В. Хлебниковым // Известия АН. Серия литературы и языка. 2002. Том 61, № 6. С. 22–28.
Петровский, 1926 —
Петровский Д. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М.: Акц. Издат. О-во «Огонек». 1926.
электронная версия указанной работы на ka2.ruСП —
Хлебников В. Собрание произведений / Под ред. Н. Степанова. Т. I–V.
Л.: Изд. писателей в Ленинграде. 1928–1933. (При ссылках на это издание указывается только номер тома).
Впервые напечатано:
Южное сияние, №16, 11.12.2017
Воспроизведено по:
https://litbook.ru/article/11016/
Изображение заимствовано:
Пауль Клее (1879–1940). Воздушный шар. 1926. Масло на чёрной загрунтованной доске. 32,5 × 33 см.
————————
Нада и нельзя, но хочется
Тучи меня закрывали
И закрывают сейчас.
В. Хлебников. Не чёртиком масленичным...
Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненье с ней.
Б. Пастернак. Памяти Рейснер.

ля начала оценим первое, пристрелочное истолкование попытки В.В. Хлебникова зажить своим домком:
31 августа 1914 г. Хлебников покидает Астрахань и, направляясь в Петербург, останавливается в Москве. По свидетельству Новицкой, в тот приезд он гостил у неё. Об этом она написала на обороте фотокопии со своего портрета работы Хлебникова. ‹...›
Хлебников и в этот раз пробыл в Москве недолго — по крайней мере, уже 19 сентября он был в Петербурге. Там он получает письмо от Н.В. Николаевой со словами: „Дорогой Витечка, пиши, не забывай меня”, что и отмечает в своём дневнике, с удовлетворением поясняя:
Я и Надочка на „ты”. Тем не менее, в двух письмах ко дню рождения Надежды Васильевны 7 и 10 октября он обращается к ней по-прежнему на “вы”, правда, во втором письме подписывается словом
любящий. Больше писем Хлебникова к Новицкой не было, хотя она не переставала ему писать. Во всяком случае, в дневнике есть помета о том, что 21 ноября 1914 г. он получил письмо от Николаевой. ‹...›
В 1915 г. Хлебников долго не появляется в Москве, но зато, приехав 10-го (предположительно) июня, остаётся там до конца июля. Тогда или чуть позже им были написаны стихи, посвящённые летним свиданиям с Николаевой. ‹...›
В начале 1916 г. Хлебников довольно долго пробыл в Москве. 17 марта он заносит в записную книжку:
видел мать Надежды Васильевны. Конечно, он встречается и с самой Надеждой Васильевной. ‹...› Среди рукописей Хлебникова, которые сохранила Н.В. Новицкая, имеется корректура повести «Ка железо-стеклянный дворец» с правкой Хлебникова и цензурным разрешением от 12 февраля 1916 г. Наверняка её передал Николаевой сам Хлебников, тем более, что он и раньше посылал ей свои произведения. Но ссора всё-таки была. ‹...›
Возможно, именно после этого выяснения отношений в дневнике Хлебникова появляется запись, где к Николаевой он примеривает фамилию Хлебникова:
!? Николаева-Хлебникова?! да. Заключительное
да явно свидетельствует о том, что Хлебников решил жениться на Николаевой. Возможно, этому помешало то, что в апреле 1916 г. он был призван в армию. ‹...›
Последний раз Хлебников и Николаева виделись весной 1919 г. Отец Надежды Васильевны получил работу в Вологде, за ним из голодной Москвы потянулись и домашние. Николаева предлагает Хлебникову ехать вместе, но он выбирает другой путь. Больше их жизненные пути не пересекались, но она сохранила всё то, что доверил ей поэт.
Напомним, что первым из исследователей доступ к имевшимся у Новицкой материалам получил Н.И. Харджиев. Задумав издать произведения Хлебникова, не вошедшие в пятитомное Собрание произведений, он обращается в 1935 г. к Новицкой с просьбой предоставить ему архив Хлебникова для работы. Не сразу и не вдруг соглашается Надежда Васильевна. Переговоры идут почти год; наконец, она передаёт ему всё, что имеет. От публикации ранних прозаических произведений Харджиев отказался сразу. А вот какие вещи из архива, принадлежавшего Новицкой, он обнародовал, в полном объёме установить невозможно, так как в «Неизданном Хлебникове» ссылок на принадлежность того или иного подлинника Новицкой нет, хотя в отношении других правообладателей имена приводятся. Находящийся в Отделе рукописей архив помочь не может, так как сама Новицкая говорила, что он был возвращен ей не полностью.
Н.А. Зубкова. Надежда Новицкая и Велимир Хлебников
Ни разу в яблочко. Огневой рубеж №2:
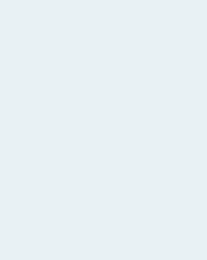
толь же глухи сведения о Николаевой в подготовленной Н.И. Харджиевым книге (
НП), в значительной мере опирающейся на хлебниковские рукописи, которые были предоставлены составителю именно ею. ‹...› никаких указаний на то, что Новицкая и Николаева — одно и то же лицо, нет.
Впервые серьёзный анализ отношений Николаевой и Хлебникова (по документам, хранящимся в РНБ) был дан в статье Н.А. Зубковой, где приводятся также ценные сведения о Надежде Васильевне и её семье. Однако ряд недоступных исследовательнице материалов, прежде всего документов из недавно открытого при Амстердамском Музее Стеделийк фонда «Н.И. Харджиев — Л.В. Чага» (далее: Sted), заставляет частично пересмотреть некоторые выводы этой статьи ‹...›
Харджиев передаёт свои впечатления о ней; в его оценках сквозит недоброжелательность, однако он не может не отметить её красоту и ум. Исследователь записывает воспоминания Надежды Васильевны о её жизни в 1913–1914 гг.: ‹...› она пригласила Хлебникова на подмосковную дачу, где жила вместе с семьёй. ‹...› „Он вместе со мной поехал на дачу, где жили мои родители, в Петровское-Разумовское. Мы жили отдельно во втором этаже, под крышей. ‹...› Здесь он узнал об объявлении войны Германии”. В воспоминаниях Николаевой об этом, быть может, самом счастливом в её жизни лете, много смешных и трогательных деталей: о том, почему она назвала его Пумой („Волосы Хлебникова были похожи на пушистую шерсть безгривого льва — пумы. Отсюда прозвище”), о его ревности к приезжающим к ней в гости поклонникам, о том, как, зная о её любви к лягушкам, он ранним утром собирал их в лесу, чтобы порадовать подругу при её пробуждении и т.д. ‹...›
Исследуя в 1915 г. ритмы своих отношений с женщинами (
СП V: 331), Хлебников записывает две даты, относящиеся к 1914 г. и, по всей видимости, связанные с Николаевой: 24 июня и 28 сентября. Если первая дата может означать время физической близости или время его приезда в Петровское-Разумовское, то вторая, не исключено, время сватовства. В этот момент Надежда Васильевна — близкий для него человек. Поэтому, скорее всего, в этот приезд Хлебников и передал ей привезённые из дома рукописи, включая ранние, относящиеся к 1900-м гг., например, прозу «Еня Воейков» и лингвофилософский опыт создания
значкового языка (обе рукописи были переданы ею в РНБ).
В конце 1914 г. Хлебников возвращается из Петрограда в Астрахань и в начале 1915 г. пишет повесть «Ка», где все основные героини в том или ином отношении напоминают Николаеву. Не случайно поэтому, что авторизованные гранки «Ка» со штампом типографии от 12 февраля 1916 г. оказались в архиве Николаевой (позже также были переданы ею в РНБ).‹...›
Новицкая рассказала в 1967 г. сотрудникам РНБ при передаче архивов Хлебникова и Михайлова: уезжая в Вологду, она зовёт Хлебникова с собой, но „он выбирает другой путь” (Зубкова, 1996: 222).
Материалы Хлебникова, которые он передавал ей в 1914–1916 гг., остались у неё. В дальнейшем они были разделены на три части. Одну часть рукописей Хлебникова Новицкая предоставляла, начиная со второй половины 1930-х гг., для публикации Харджиеву с условием, что после окончания работы над ними он передаст их в государственный архив по своему выбору. Это условие выполнено не было: в 1979 г. рукописи всё ещё находились у Харджиева (подробнее см.: Перцова: 2002), где они сейчас — можно только гадать. Вторая часть (228 листов) была в 1967 г. безвозмездно передана ею на вечное хранение в РНБ — (РО РНБ, ф. 1087). Третью часть Новицкая до своей смерти хранила у себя. Дальнейшая судьба этих рукописей неизвестна, можно отметить только, что оригиналы некоторых её личных бумаг, с которыми она сама ни в коем случае не рассталась бы, а именно, письмо от директора РНБ с благодарностью за желание передать библиотеке рукописи Хлебникова и расписка заведующего отделом рукописей о принятии их на хранение в библиотеку, почему-то оказались в (Sted).
Н.Н. Перцова. О рукописи Хлебникова «Слова разговоров».
Огневой рубеж №3:
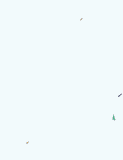
год 100-летия со дня рождения Мая Митурича-Хлебникова (1925–2008) уже самому не верится, что был его глазами в доме Дугановых-Шефтелевичей: хозяина пославший мя знал только понаслышке. Наслышка переводится известность Р.В. Дуганова (1940–1998) как особо доверенного лица Николая Ивановича Харджиева (1903–1996). Любимый ученик, наперсник, преемник и всё такое. И вот Митурич сообщает мне позывные Дуганова, созваниваемся, еду.
Моя наслышка о Дуганове ограничивалась перечнем литературы к словарной статье о Хлебникове в БСЭ; обе указанные работы он мне надписал; надписала свою «Поэзию Симадзаки Тосона» (
М.: МГУ им. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 1975. 207 с.) и Наталья Сергеевна. Приятно, что и говорить, но лично моя, шкурная, цель посещения состояла в другом: узнать, девственник Велимир Хлебников или не потянул, срезался (непорочную святость учёного мужа заповедал сэр Исаак Ньютон). И вот я для видимости покивал, где надо поддакнул, да и встрял наотмашь.
— Чтó вы, известны бурные романы, — улыбчиво пыхнул трубкой хозяин. Глубже копать я поостерёгся, и правильно сделал: представление о госте составилось благоприятное, предложена переписка.
Всё-таки надо угомонить особо въедливых: насчёт засланного казачка не художественный свист.
Милый Володя,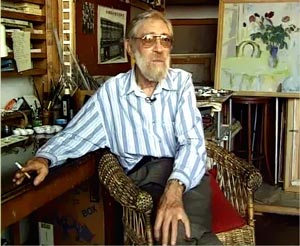
если всё сущее подвержено приливам и отливам — то естественно, если и переписка тоже.
Особенно когда всё так зыбко, уклончиво, что рассказывать — того и гляди сглазишь.
Не помню, писал ли о книжке В.П. Григорьева «Грамматика идеостиля» изд-ва «Наука». Очень интересная и задорная книжка.
А недавно я и познакомился — встречался с Григорьевым, Вяч. Ивановым, Лесневским и Дугановым. Говорили обо всём, но оказалось, что и учёные умы могут немногим больше, чем мы с тобою.
Даже кто-то из них говорил: „А вот есть такой Молотилов — может быть, он что-то может сделать…” Вот ведь какое дело. Так что дипломы — дипломами, а дело — делом. ‹...›
Привет М. Митурич
27 апреля 84.сличи с подлинником
Итак, в кои-то веки Молотилов проявил благоразумие, не приставил нож к горлу. А зря. Простой пример:
19 октября 1915 я сидел рядом с Верой. ‹...› На коленях её чёрная повязка, она грустна и строга. Она сидела против меня, заложив ногу за ногу, и ей показалось, что она неловко, она настойчиво показывала край юбки, откуда в чулках ноги... Колени её как-то неловко поставлены. ‹...›
Ленский — Грушницкий.
Онегин — Печорин.
Я не хочу быть Печориным и боюсь быть Грушницким.
Вера Лазаревская — Наташа Ростова Толстого.
Вера Будберг.... Лермонтова, но вообще русские писатели не дали равного ей образа.
26 я смотрел на кольца и с радостью заметил, что обручальные (золотые и тяжёлые). Неужто это последний сон и
последнее испытание?
Больше я никогда любить не буду! ‹...›
Евреинов сказал: Вера Александровна Хлебникова в (нрзб.) Вера Александровна Бэр — попытайтесь ухаживать; сказал, что всё возможно, не торопитесь.
Прощаясь, я воскликнул: „Итак, мы заговорщики”. „Да”, сказал он,
„не действуйте нахрапом, девушку нужно сломить, покорить; помните, что вы знакомы без году неделю, отделите от других сестёр, чуть что звоните по телефону, приходите в 6 часов вечера”. ‹...›
клянусь, я сыграю Антихриста, если это будет так. Не был ли я слишком Грушницким.
СП V: 331–334
Такие вот чаи вприглядку. Пару хлебниковских пометок о Надежде Николаевой обнародовал Н.Л. Степанов (1933); читателю она представлена танцовщицей в труппе Д. Бурлюка; этим Николай Леонидович и ограничился. Как выяснилось, оплошка сия нанесла человечеству несусветный урон: удосужься издатель пятитомника переговорить с Надой — все до единой хлебниковские рукописи ушли бы в печать как только, так сразу. Осели в РГАЛИ, на худой конец.
Но Степанова опередил Теодор Соломонович Гриц (1905–1959). Опередил и опередил: кто первый встал, того и тапки. Закавыка в другом: Теодор Соломонович навестил Наду опосредованно, через гонца. Через гонца и через гонца, кому какое дело. А такое, что смотря кого послать. Как вам понравится Робин Гуд? а Робин-Бобин Барабек? Между тем, порученец Теодора Соломоновича оказался... Ненасытней стяжателя свет не видывал!
Бывалый посетитель Хлебникова поля по знаку восклицания наверняка сообразил, о ком я. Николай Иванович Харджиев (1903–1996), да. Ко времени выстраивания доверительных отношений с Николаевой (Новицкой) этот проныра охмурил не только Грица. Простой пример:
Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. (Книжная лавка А.Ф. Смирдина) / Под ред. В.Б. Шкловского, Б.М. Эйхенбаума. М.: Федерация. 1929. 373 с.
Тренин В.В. Москва Нью-Йорк по воздуху. М.: Молодая гвардия. 1930. 32 с.
Тренин В.В., Харджиев Н.И. Повесть о механикусе Ползунове / Предисловие: Виктор Шкловский. М.: ОГИЗ, Молодая гвардия. 1931. 101 с.
Усиевич Е., Тренин В., Харджиев Н. Забытые статьи В.В. Маяковского 1913–1915 гг. // Литературное наследство. Т. 2. 1932. С. 117–164.
В. Тренин, Н. Харджиев. Ретушированный Хлебников // Литературный критик, 1933, №6. С. 142–150.
В. Тренин, Н. Харджиев. Маяковский и “сатириконская поэзия” // Литературный критик, 1934, №4.
В. Тренин, Н. Харджиев. Поэтика раннего Маяковского // Литературный критик, 1935, №4.
Тренин В. В “мастерской стиха” Маяковского. М.: Советский писатель. 1937. 212 с.
Тренин В., Харджиев Н. Огненная машина. М.: Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ. 1939. 80 с.
Их и в Союз писателей приняли одновременно, В. Тренина и Н. Харджиева (1940). Но у нас на дворе 1935-й; Теодор Соломонович, повторяю, только что заслал к Надежде Николаевой гонца. Пенять ему за опрометчивость глупо: даже А.Е. Кручёных (а он бы спроворил дело на ять, ср.: Неизданный Хлебников. Вып. I–XXIV / Под ред. А. Крученых. М.: Группа друзей Хлебникова. 1928–1933) понятия не имел, что у Нады Эльдорадо (а также копи царя Соломона и Клондайк: см. выше, о разделении архива натрое). Замечу опять-таки в скобках, что совместная с Трениным статейка «Ретушированный Хлебников» — единственная о ту пору верительная грамота Харджиева. Не то посольский подъячий, не то писарь, не то рында на подножке. Литературный недотыка, в общем.
Вдогонку этому лицу без определённых занятий поведаю, с чего бы Грицу так разлакомиться степановской танцовщицей. Танцовщицам дарят особняки, манто и бриллианты, а не рукописи, да?

орогой Давид Давидович!
Посылаю Вам номер «30 дней» с неизданными письмами Хлебникова.
Я сейчас заключил договор с изд. «Советский писатель» на книгу «Неизданный Хлебников» (здесь и ниже выделено мной. —
В.М.). Туда войдут стихи, статьи, проза, письма. Книга выйдет в начале 36 года. К книге я хочу приложить воспоминания о Хлебникове. Поэтому просьба к Вам — пришлите Ваши воспоминания. Можете писать их в какой угодно форме, хотя бы в форме письма ко мне.
Кроме того, у меня к Вам ряд вопросов: 1. Знал ли Хлебников французский язык, и как он относился к Рэмбо? 2. Не помните ли Вы его высказываний об Уитмэне и о Метерлинке? 3.
Что представляла собой Надя Николаева и как к ней относился Хлебников? Пришлите воспоминания возможно скорее. В связи с 50-летием со дня рождения Хл-кова их можно будет напечатать предварительно в журнале.
Кончаю большую статью о прозе Хлебникова и недели через две еду отдыхать к Васе Каменскому. У него новая усадьба, оранжереи, лодки. В Москве он почти не живёт.
Привет Марье Никифоровне. Жду Вашего письма и воспоминаний.
Всего доброго,
Т. Гриц.
10/VIII 35.
Евгений Деменок. Давид Бурлюк и Николай Харджиев. Фрагменты переписки
https://zerkalo-litart.com/?p=12727#_ftn10
И вот на запрос Теодора Соломоновича о Наде Николаевой Бурлюк отозвался, вследствие чего ответственный производитель работ по НХ незамедлительно, чтобы не пронюхал Степанов (Степашка, по-ихнему) шлёт Харджиева на разведку. Дело было на исходе лета 1935 года, см. дневниковую запись гонца.
Знающие о последствиях неизбежно вспомнят громокипящий вопль царя Бориса: „Гонца схватить!” Неосведомляне станут допытываться: и как же Теодор Соломонович переобулся с НХ на НП ? Всё так же: посредством законно используемых заручек.
Как видим, Теодор Соломонович Гриц — свой человек в ежемесячнике «30 дней» и более чем вхож в издательство «Советский писатель». Где по причинам, которые предстоит выяснить доброхотам из числа въедливых, договор с ним на «Неизданного Хлебникова» расторгают. Времена самые постные, но плохо вы знаете Тэди Грица: есть места, где он свой не покурить в одну пепельницу, а угоститься.
Каменка, 23 июля 1928. Любимец мой Количка,
Соня (
Софья Григорьевна Трущёва-Гриц, двоюродная сестра Каменского. — В.М.) ещё осенью вышла замуж за молодого учёного критика Теодора Гриц (еврей), и живут-поживают они в Москве. Гриц пишет сейчас книгу «Книжная лавка Смирдина» (товарный период литер. пушк. эпохи). Тэди Гриц очень славный парень. Ему 25–26 лет. Кончил бакинский университет (филолог). Печатается в журнале нашем «Леф». Полемизирует с профессорами лит-ры. Заработывает, как и все молодые учёные, слабо. В этом смысле я рад, что не являюсь молодым учёным.
Василий Каменский. „Мне пора быть с вами в Нью-Йорке…” Письма к Николаю Евреинову.
Публикация, вступительная заметка, подготовка текста и примечания О. Демидовой // Звезда, 1999, №7. Свояк свояка видит издалека: Василий Васильевич шлёт ГИЗу электропоцелуй, и дело в шляпе.
В. Молотилов. Заступиться за Парниса. 3. Отрицание отрицания
Продолжаю о преданнейшем ученике, наперснике и преемнике Н.И. Харджиева.

отом появился Айги, который поначалу казался очень преданным Николаю Ивановичу. Но все они совершали проступки и были недостойны быть человеком Харджиева. Теперь остаются Дуганов и Радзишевский, которые до последнего дня работают в “Литературке”. Николай Иванович был в восторге от Дуганова — „он замечательный”, но постепенно он начинал понимать, что настоящей остроты у Дуганова нет, пронзительности нет, и как текстолог он не вытягивает никак. А потом пошла критика Дуганова как личности — оказалось, что он живёт с очень нервной и богатой женой, и это подозрительно, и что это брак по расчёту. Очень ценил его ум, но по существу ему не нравилась его работа. Он недавно умер, Дуганов, и я вспомнила, как о нём отзывался в начальный период Николай Иванович — он считал его достойным преемником его работы по Хлебникову.
На фоне всех ревизий века. Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Эммой Герштейн
А теперь о том, каким образом Николай Иванович Харджиев выяснил, что преемник его хлебниковских наработок не вытягивает: ни остроты, ни пронзительности.
Археологи не имеют права хранить золото у себя дома. Золото сдают в Эрмитаж.
Захочешь полюбоваться — договаривайся с Пиотровским.
Никита Владимирович Анфимов хранил золото у себя дома.
Золотые трупики веток.Так называл Велимир Хлебников бумагу с письменами.
Бумагу с буквами Велимир Хлебников называл
простынями лжи.
Хранимые на Кубани рукописи Велимира Хлебникова долго ждали понимающих людей.
Их была горстка, знатоков. Зато каких.
Николай Иванович Харджиев один стоил синклита мудрецов и сейма проницателей.
Хрущёвская оттепель обманула надежды понимающих людей:
после карманного издания в 1960-м — молчок до элистинской книжицы в 1984-м.
Поэтому золото Кубани было условной пробы.
Смотря как условишься. Смотря с кем.
Государство не даст ломаного гроша, частное лицо — хорошие деньги.
Чтобы перепродать за очень хорошие деньги.
Это на родине Хлебников гонимый, в граде на холме — совсем даже наоборот.
Понимающих людей раздражал успех людей с очень хорошими деньгами.
— Хлебникова нельзя отдавать на откуп западным барыгам, — говорил Ю.М. Нагибин.
— Почему только западным, — возражал я почти вслух.
Никита Владимирович Анфимов был бессребреник.
Сколько стоит рукопись Хлебникова, его ничуть не занимало.
Облапошить такого — милое дело. Отдаст за спасибо.
Он так и поступил, когда за Хлебниковым пришли.
Поступил наилучшим образом. Нам, человечеству, крупно повезло.
Повезло наотмашь: золото Кубани увёз гонец, а не властелин.
И одарил этим золотом нас, человечество.
И властелин проклял его за глумление над правом первой ночи.
Он предполагал всласть натешиться, а потом ссыпать это золото в сундук: целее будет.
Сотни две таких сундуков властелин задумал переправить
в надёжное место, в Нидерланды.
Где всё окружено дамбами.
Это вам не Москва, третий Рим. Или второй, по мнению Гитлера, Китеж-град.
В. Молотилов. Золото Кубани.
Печатных изводов беседы (январь 1991) Ирины Врубель-Голубкиной с Харджиевым несколько, в наиболее полном читаем:
— Николай Иванович, а как вы пришли к Хлебникову?
— Я был лефовец, был связан с футуристами. Хлебников был для нас первым номером. Потом он очень плохо издан был. Я был занят текстологией, мне хотелось перевести его на русский язык. Он так искажён в пятитомнике, что там нет ни одного правильного текста. Моя цель была собрать неизданные тексты и дать установку для будущего полного собрания сочинений, которое, кстати, до сих пор не издано.

Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлёк в эту историю всё-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это всё спекуляция.
— Почему это происходит?
— Это требует адской текстологической работы, кроме меня её никто не в силах сделать. Я работаю над этим много лет, но мне не дали возможности издать. Издательства не шли на мои условия, хотели издать что-то для читателя, а я хотел, чтобы вся моя текстологическая работа была видна. У меня готова вся хлебниковская текстология. Вы видите все эти папки — это всё хлебниковская текстология. Не установлены правильные тексты, текстологическая работа требует громадного знания материала. Но я боюсь, что мне не суждено это увидеть изданным.
„Будущее уже настало”. Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Н.И.Харджиевым
https://zerkalo-litart.com/?p=3816
Никуда не годные, мелкие, пропитанные торгашеским духом книжонки к столетию Велимира Хлебникова почти все изданы Дугановым. Самая первая, кстати говоря, вышла с подачи В. Молотилова, см. выше.
Была, сказывал мне Май Митурич, заявка С.Ф. Бобкова (род. 1948 г.) на однотомник в «Художественной литературе». Неудача, при тогдашнем его всемогуществе, удивляет. За разъяснениями следует обратиться к аферисту Парнису: входил к нему Сергей Филиппович с предложением соучастия или побрезговал? Чудовище хламиздата уже покрывало позором полубездарного лингвиста Григорьева в «Советском писателе», напоминаю.
Кроме Ирины Врубель-Голубкиной (род. 1943), Николай Иванович Харджиев откровенничал с Варварой Арутчевой (1906–1991). Даже разрешил ей записать их беседу на ленту. Вот расшифровка любопытнейшего места.
В.А.: Он, наверное, не скрытный, а замкнутый был.
Н.Х. Ну, замкнутый. Но и какая-то скрытность была, вообще, почему же. Может, в какие-то периоды он и подозрительно относился к другим людям.
В.А.: Да?
Н.Х. Может быть, конечно, понимаете, и, конечно, он был очень замкнутый, одержим всё время тем процессом, который ни на минуту его не оставлял, понимаете, так что… об этом человеке мало можно написать, мало. Лучшее о себе он написал он сам, вообще, вся его биография в его произведениях. Вот там вы можете…
В.А.: Вот вы и проследите эту биографию в своей работе.
Н.Х. (усмехается): Да. У меня много материала всякого. Нет, у меня есть как раз и достовернейший… такой документальный биографический материал. Я, например, уже после своей работы над книгой… я… у меня писем много его, вероятно, тридцать пять неопубликованных писем.
В.А.: Да что вы говорите!
Н.Х. Да. Так что у меня… тот материал, который я потом собрал, его тоже… им можно заполнить тоже новый том неизданного Хлебникова.
В.А.: Ну а чего же вы этого не делаете?
Н.Х. Ну, а кто, никто не заключает договор. Абсолютное равнодушие!
В.А.: Нет, но если вы будете…
Н.Х. Равно-ду-шие! Вы думаете, я не пытался? Равнодушны все.
В.А.: Нет, вы хотите, наверное, все письма сразу опубликовать, а если по одному, по два письма?
Н.Х. Нет, я не хочу по одному, по два письма. Я хотел бы просто издать сборник, где бы это впервые было напечатано всё вообще.
В.А.: Сборник трудно.
Н.Х. Отбиваться мелкими публикациями — это я терпеть не могу, вообще. Это бессмысленно, ненужно, и, вообще, это чепуха какая-то. Нет. И тоже, кстати, трудно.
В.А.: Но тогда, по крайней мере…
Н.Х. Трудности из-за тома — это я ещё понимаю. Но трудность — переживать каждую публикацию — это не по мне вообще, нет. Это… я этим заниматься не буду.
Уже пора понять, что такое Хлебников, и пора понять, что моя работа нужна не мне, понимаете, и не вам лично, а она нужна просто… русской литературе, вероятно, как я подозреваю. Так вот, никто с этим не считается.
В.А.: Ну, хорошо…
Н.Х. Это смешно, что и сейчас, в 74-м году, может лежать неизданный Хлебников, понимаете, это просто курьёз, чистый курьёз, недомыслие просто! Во Франции, там каждого своего, даже второстепенного талантливого… уж так обсасывают… любой юбилей — не юбилей… все, понимаете… симпозиумы… Даже разговоры учёных на какую-нибудь тему тоже фиксируются и печатаются, вы можете себе представить! Вообще там… юбилеи, я смотрел, Сандрара, Аполлинера, старые там, Жерар де Нерваль, Лотреамон, Рембо — чудовищное количество изданий, статей, книг, заседаний научных, которые, значит, записаны, и так далее. Потоки просто! Такие портативные, но очень ёмкие такие, понимаете, в которые много материалов входит. Они это умеют делать. Это же просто… понимаете… ни один из этих поэтов… все эти поэты, даже вместе, вероятно, не стоят одного Хлебникова!
В.А.: Но они это могут обсасывать, потому что у них поэтов вот современных, нет такого грандиозного количества, как у нас. А эти все поэты хотят печататься.
Н.Х. Какие? А, ну, это да…
В.А.: Поэтому…
Н.Х. Это не то совсем, это не то. Это речь идёт уже о поэтической культуре. Они ими занимаются уже как классиками, так сказать, понимаете. Там и поэты идут…. Понимаете, Аполлинер — это же для них классик уже, такой основоположник новой… один из лидеров нового искусства и поэзии, так что… Нет, это не то совсем. Это классики. А Хлебников что, не классик?
В.А.: Вы раскроете Хлебникова всем.
Н.Х. То есть как?
В.А.: Ну, вы напишете…
Н.Х. Я делал же, вообще. Вот «Неизданный Хлебников» — там… это всё-таки был первый опыт критического издания Хлебникова, самый первый, так что… Там вот была попытка дать ключ к его вещам и правильно тексты опубликовать. Конечно, может быть, первый блин комом, но всё-таки это начало такой работы было. Сейчас бы я это, конечно, мог бы сделать гораздо лучше и обширнее… И вообще, мне хотелось бы всего Хлебникова издать.
В.А.: Ну, вы с кем пробовали заключать договорá?
Н.Х. Нет-нет, на полное собрание сочинений не будет никакого…
В.А.: Ну, на избранное.
Н.Х. Нет. Да, вот, в лучшем случае, однотомник.
В.А.: Ну, сделайте однотомник.
Н.Х. Но это немного, это всё-таки мало.
В.А.: Сделайте избранный однотомник.
Н.Х. Да, но это очень немного будет, вообще, всё-таки.
В.А.: Всё равно это лучше, чем ничего.
Н.Х. Хлебников же написал очень много, вообще, несмотря на то, что рано умер.
В.А.: Сколько ему лет было?
Н.Х. Вероятно… Даже не исполнилось тридцати семи, я думаю.
В.А.: Это критический возраст поэтов.
Н.Х. Да, он на тридцать седьмом году жизни умер. Нет, это не критический. Это случайно, конечно, совершенно, но, в общем-то… он был болен и вообще…
Из беседы Н.И. Харджиева и В.А. Арутчевой 31 января 1974, ОУИ НБ МГУ №357-359
https://oralhistory.ru/talks/orh-357-358-359/text
Итак, Николай Иванович заявляет (1974), что после выхода в свет «Неизданного Хлебникова» (1940) накоплено ровно столько же. Заявляет в добром уме и трезвой памяти, без нажима следователя НКВД. Никто. За язык. Не тянул. Простой, как мычание, вопрос: знал его лучший ученик, наперсник и преемник о тридцати пяти неведомых миру письмах и пр. и пр.?
И ещё, вдогонку: как воспринял поставивший Полное собрание сочинений Велимира Хлебникова целью жизни Р.В. Дуганов известие о переезде Харджиева в Нидерланды?
— Как светопреставление! — наперебой свидетельствуют М.С. Киктев (1943–2005), Н.Н. Перцова (1955–2015) и Е.Р. Арензон (1937–2022). — Заморозка в РГАЛИ его и подкосила...
Наверняка все тут знают, что за рубеж была переправлена только часть харджиевского собрания рукописей; это меньшее зло: получила же Наталья Николаевна к ним доступ.
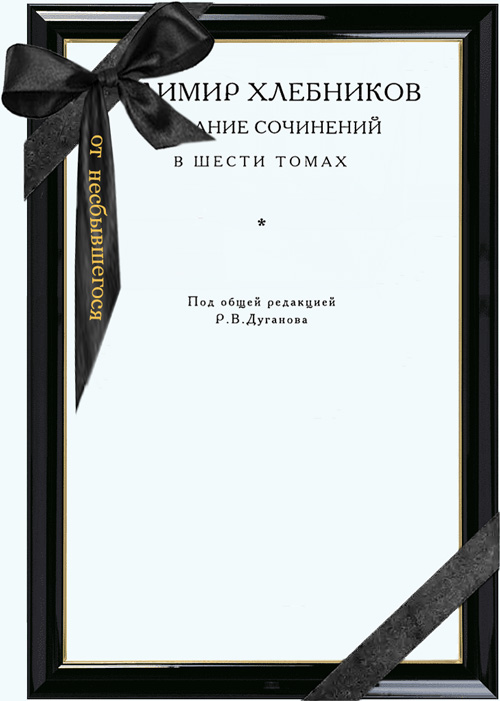
Преткновение в другом: как бы повёл себя сотрудник ИМЛИ РАН Дуганов Р.В. на экспертизе арестованного 22.02.1994 в аэропорту Шереметьево багажа?
Досмотр выявил рукописи сомнительной принадлежности: хозяин клади оказался подставным лицом. Для выяснения ценности задержанного на место прибывают работники Ленинской библиотеки, ценность удостоверяется, кладь изымают в пользу РГАЛИ, где новоявленные рукописи Велимира Хлебникова исследует победительный Дуганов. Победитель получает всё, а именно: десятки неизвестных произведений Хлебникова с приложением их вычитки.
Стало быть, и это не вопрос. Так ради чего, спрашивается, копья ломать? Ради справедливости. Справедливо ли подозрение, что убылые (включая переданное М.П. Митуричем-Хлебниковым государству собрание) рукописи будут преемником Харджиева опознаны? И порванное на глазах того же М.П. Митурича-Хлебникова обнаружится целёхоньким?
Отставить. События развивались куда более прихотливо. А именно: подставное лицо раскрывает имя нанимателя. Таковым оказывается годом ранее переселившийся в Нидерланды Николай Иванович Харджиев. Переселенец опровергает наветы простым, как мычание, доводом: в задерживаемом грузе письма ко мне или к Пушкину? Ко мне. Тайну переписки отменили? Не отменили. Нарушены правила вывоза? Уголовное преследование? И как не возбуждать? Дарственная? А дарственная с оговоркой? Записывайте: перед прочтением сжечь. Если без шуток? Если без шуток — опечатать на двадцать пять лет.
Наступает 2019 год. Пломбы сняты, сотрудники РГАЛИ приступают к работе. Двадцатью пятью годами позже сорванной экспертизы Дуганова. Человека одной, но пламенной страсти (трубку оставим злопыхателям). Он сделал себе имя; сколотил «Общество Велимира Хлебникова»; быт налажен как московские куранты; жена — прелесть что такое (до сих пор завидую). И вдруг узнаёт, что потаенные рукописи Хлебникова вне доступа на четверть века.
Они с Арензоном уже довели первый том ПСС до сдачи в набор, а теперь о полноте не приходится и мечтать.
Как это не приходится, плохо вы знаете Дуганова. Опечатник Хлебникова в добром уме и трезвой памяти. Простой пример: усыновил армянина. Армяне — древнего благоразумия люди, плохого не посоветуют:
— Вы, Николай Иванович, собрались переплюнуть Плюшкина? Так и так рукописи не выцарапать. Мы что, собаки на сене?
— Сказано двадцать пять лет без права переписки — сделано двадцать пять лет без права переписки, — сердится усыновитель. Сердится раз, сердится другой, на третий умирает от удара (обрезок водопроводной трубы я бы не исключал). Справляемся о годе смерти от удара: 1996. Справляемся насчёт убытия Романа Валентиновича Дуганова и Натальи Сергеевны Шефтелевич в Японию: 1996. Вспоминаем скорбный год на камне близ велимирянской Каабы: 1998.
Время подвести окончательный итог, подбить, как говорится, бабки. Одна из которых надвое сказала именно про письма Велимира Хлебникова к Наде.
Обратите внимание, статья Натальи Николаевны Перцовой издана посмертно, трудами её супруга, в 2017-м. А пломбы в РГАЛИ сняли два года спустя!
Наташа, вот когда посожалею...


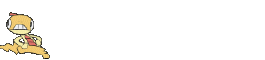
 редмет настоящей статьи — заметка из архива Велимира Хлебникова в Российской национальной библиотеке (РО РНБ, ф. 1087, № 26, фр. 1: 1), озаглавленная «Слова разговоров». На первый взгляд может показаться, что Хлебников, подобно Алексею Кручёных и под влиянием последнего, записывал для Романа Якобсона образчики устной речи (чем уже тогда интересовались и лингвисты), однако более внимательное чтение неразборчиво набросанного текста настраивает на иное его толкование.
редмет настоящей статьи — заметка из архива Велимира Хлебникова в Российской национальной библиотеке (РО РНБ, ф. 1087, № 26, фр. 1: 1), озаглавленная «Слова разговоров». На первый взгляд может показаться, что Хлебников, подобно Алексею Кручёных и под влиянием последнего, записывал для Романа Якобсона образчики устной речи (чем уже тогда интересовались и лингвисты), однако более внимательное чтение неразборчиво набросанного текста настраивает на иное его толкование. ля начала оценим первое, пристрелочное истолкование попытки В.В. Хлебникова зажить своим домком:
ля начала оценим первое, пристрелочное истолкование попытки В.В. Хлебникова зажить своим домком:
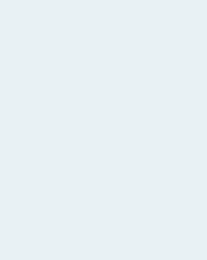 толь же глухи сведения о Николаевой в подготовленной Н.И. Харджиевым книге (НП), в значительной мере опирающейся на хлебниковские рукописи, которые были предоставлены составителю именно ею. ‹...› никаких указаний на то, что Новицкая и Николаева — одно и то же лицо, нет.
толь же глухи сведения о Николаевой в подготовленной Н.И. Харджиевым книге (НП), в значительной мере опирающейся на хлебниковские рукописи, которые были предоставлены составителю именно ею. ‹...› никаких указаний на то, что Новицкая и Николаева — одно и то же лицо, нет.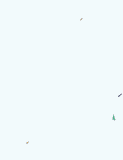 год 100-летия со дня рождения Мая Митурича-Хлебникова (1925–2008) уже самому не верится, что был его глазами в доме Дугановых-Шефтелевичей: хозяина пославший мя знал только понаслышке. Наслышка переводится известность Р.В. Дуганова (1940–1998) как особо доверенного лица Николая Ивановича Харджиева (1903–1996). Любимый ученик, наперсник, преемник и всё такое. И вот Митурич сообщает мне позывные Дуганова, созваниваемся, еду.
год 100-летия со дня рождения Мая Митурича-Хлебникова (1925–2008) уже самому не верится, что был его глазами в доме Дугановых-Шефтелевичей: хозяина пославший мя знал только понаслышке. Наслышка переводится известность Р.В. Дуганова (1940–1998) как особо доверенного лица Николая Ивановича Харджиева (1903–1996). Любимый ученик, наперсник, преемник и всё такое. И вот Митурич сообщает мне позывные Дуганова, созваниваемся, еду.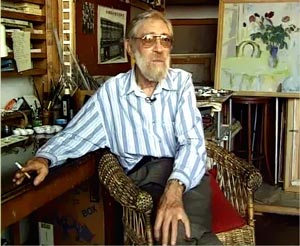 если всё сущее подвержено приливам и отливам — то естественно, если и переписка тоже.
если всё сущее подвержено приливам и отливам — то естественно, если и переписка тоже. орогой Давид Давидович!
орогой Давид Давидович! отом появился Айги, который поначалу казался очень преданным Николаю Ивановичу. Но все они совершали проступки и были недостойны быть человеком Харджиева. Теперь остаются Дуганов и Радзишевский, которые до последнего дня работают в “Литературке”. Николай Иванович был в восторге от Дуганова — „он замечательный”, но постепенно он начинал понимать, что настоящей остроты у Дуганова нет, пронзительности нет, и как текстолог он не вытягивает никак. А потом пошла критика Дуганова как личности — оказалось, что он живёт с очень нервной и богатой женой, и это подозрительно, и что это брак по расчёту. Очень ценил его ум, но по существу ему не нравилась его работа. Он недавно умер, Дуганов, и я вспомнила, как о нём отзывался в начальный период Николай Иванович — он считал его достойным преемником его работы по Хлебникову.
отом появился Айги, который поначалу казался очень преданным Николаю Ивановичу. Но все они совершали проступки и были недостойны быть человеком Харджиева. Теперь остаются Дуганов и Радзишевский, которые до последнего дня работают в “Литературке”. Николай Иванович был в восторге от Дуганова — „он замечательный”, но постепенно он начинал понимать, что настоящей остроты у Дуганова нет, пронзительности нет, и как текстолог он не вытягивает никак. А потом пошла критика Дуганова как личности — оказалось, что он живёт с очень нервной и богатой женой, и это подозрительно, и что это брак по расчёту. Очень ценил его ум, но по существу ему не нравилась его работа. Он недавно умер, Дуганов, и я вспомнила, как о нём отзывался в начальный период Николай Иванович — он считал его достойным преемником его работы по Хлебникову. Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлёк в эту историю всё-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это всё спекуляция.
Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлёк в эту историю всё-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это всё спекуляция.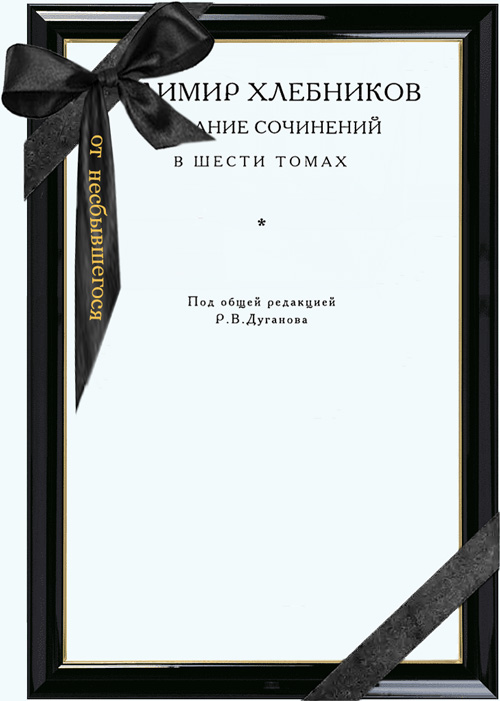 Преткновение в другом: как бы повёл себя сотрудник ИМЛИ РАН Дуганов Р.В. на экспертизе арестованного 22.02.1994 в аэропорту Шереметьево багажа?
Преткновение в другом: как бы повёл себя сотрудник ИМЛИ РАН Дуганов Р.В. на экспертизе арестованного 22.02.1994 в аэропорту Шереметьево багажа?