Н.А. Зубкова
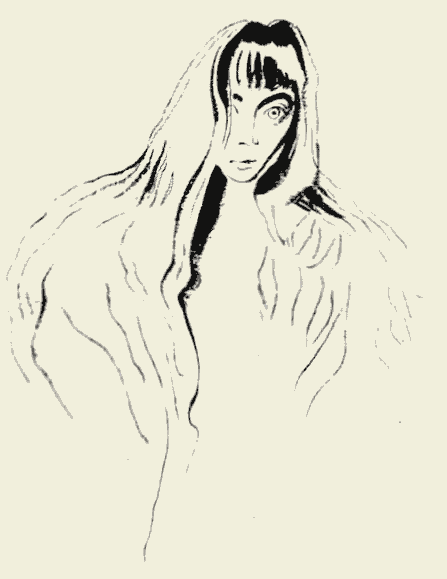
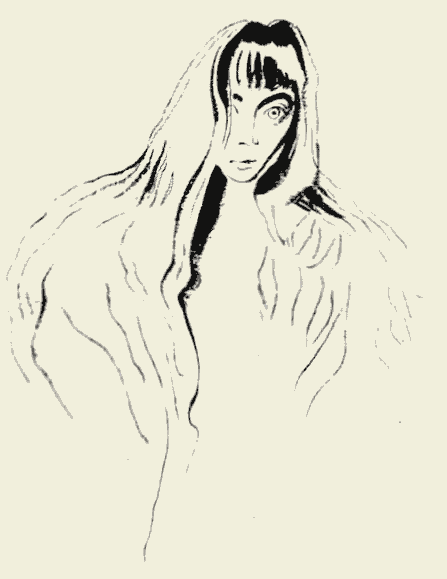
 1967 г. Надежда Васильевна Новицкая (урожд. Николаева) передала в Отдел рукописей ГПБ сохранённую ею часть архива Велимира Хлебникова. При передаче она поставила условие: исследовали могут пользоваться фондом только с её разрешения. Но такого разрешения не последовало, и вплоть до 1980 г. архив Хлебникова в ГПБ был закрыт для читателей. Можно понять Н.В. Новицкую, которая опасалась бестактного вторжения в свою личную жизнь, но факт остается фактом: многие вопросы, касающиеся фонда В.В. Хлебникова, а также её самой, остаются невыясненными.
1967 г. Надежда Васильевна Новицкая (урожд. Николаева) передала в Отдел рукописей ГПБ сохранённую ею часть архива Велимира Хлебникова. При передаче она поставила условие: исследовали могут пользоваться фондом только с её разрешения. Но такого разрешения не последовало, и вплоть до 1980 г. архив Хлебникова в ГПБ был закрыт для читателей. Можно понять Н.В. Новицкую, которая опасалась бестактного вторжения в свою личную жизнь, но факт остается фактом: многие вопросы, касающиеся фонда В.В. Хлебникова, а также её самой, остаются невыясненными.
„Китайская Богородица”, по Бурлюку, и „Китайская Мадонна”, по Хлебникову, — это Николаева, которую называли так за её увлечение китайским искусством и археологией. Известно, что Хлебников заезжал в Михалево в марте 1914 г. и пробыл в Москве 10 дней. Возможно, тогда и увезла его к себе из Михалева Надежда Васильевна, но скорее всего это случилось в следующий приезд Хлебникова в Москву. Как бы то ни было, именно после этого пребывания Хлебникова в Москве между ними завязывается переписка. Но сначала мы находим упоминание о Надежде Васильевне в письме Хлебникова к В. Каменскому в мае 1914 г. из Астрахани:
В августе того же года, вероятно, когда уже осложнились отношения с родителями, и Хлебников собирался покинуть Астрахань, он пишет Николаевой два письма, они опубликованы в «Неизданных произведениях». Но письма интересны не только содержанием, но и внешним видом. Первое, от 25 августа, коротенькое:
Второе письмо выглядит тоже необычно (датировано по штемпелю 29 августа 1914 г.): размером с почтовую марку и в маленьком самодельном конверте.6![]()
31 августа 1914 г. Хлебников покидает Астрахань и, направляясь в Петербург, останавливается в Москве. По свидетельству Новицкой, в тот приезд он гостил у неё. Об этом она написала на обороте фотокопии со своего портрета работы Хлебникова.7![]()
Учитывая сказанное выше, дату можно уточнить: начало – середина сентября 1914 г. В поэме «Как быстро носятся лета!» или, по Новицкой, «Обед детьми», есть строки, посвящённые самой Надежде Васильевне, говорящие о характере её отношения к Хлебникову, но пока ещё ничего — или почти ничего — о его отношении к ней:
Хлебников и в этот раз пробыл в Москве недолго — по крайней мере, уже 19 сентября он был в Петербурге. Там он получает письмо от Н.В. Николаевой со словами: „Дорогой Витечка, пиши, не забывай меня”, что и отмечает в своём дневнике, с удовлетворением поясняя: Я и Надочка на „ты”.9![]()
![]()
![]()
В связи с этим обратим внимание на одну особенность хлебниковской любовной лирики. У поэта было много увлечений, но его героинь нельзя спутать. Каждой из этих женщин сопутствует некий знак-символ, обособляющий её от всех других. Где бы мы ни встретили серые жемчужные глаза и женщину-охотницу, можно не сомневаться, что это В.А. Будберг; в описании М.М. Синяковой-Уречиной непременно присутствует что-либо, связанное с мёдом и пчёлами. Для Николаевой таким знаком стало упоминание о ногтях. Заметив её особую о них заботу, Хлебников потом неоднократно будет варьировать эту деталь в своих произведениях. Иногда это, как в статье «Закон множества царил...»12![]()
![]()
В 1915 г. Хлебников долго не появляется в Москве, но зато, приехав 10-го (предположительно) июня, остаётся там до конца июля. Тогда или чуть позже им были написаны стихи, посвящённые летним свиданиям с Николаевой. В переписке Н.И. Харджиева с Новицкой они названы «Китайская Мадонна».14![]()
Стихотворение это, в сущности, — объяснение в любви. Приведём здесь некоторые наиболее выразительные четверостишия:
Трудно придумать более ёмкое сравнение, чем Австрии окраина. Русские войска преодолели Карпаты, и Австрия в первой половине 1915 г. находилась накануне краха. Население, естественно, было в панике и растерянности. Сходное состояние, вероятно, отразилось и во взгляде Николаевой после мятежного поцелуя.
Двенадцатое, заключительное, четверостишие таково:
Если это не предложение, то что же? По-видимому, это литературный отзвук тех взаимоотношений между Хлебниковым и Николаевой, которые давали ей потом право называть его своим женихом.
В конце июля 1915 г. Хлебников уезжает в Петербург. Известно сентябрьское письмо его к Каменскому, в котором он справляется о Надежде Васильевне:15![]()
Здесь вопрос о Николаевой повторен дважды, так как Гейша — та же Николаева. Письмо, вероятно, написано в первой половине сентября, потому что со второй половины сентября 1915 г. Хлебникова интересует только одна женщина — баронесса Вера Александровна Будберг. Страстная любовь к ней оставила заметный след в его творчестве и подарила нам восхитительные строки
Но это была безответная любовь, знакомство с Будбергами длилось недолго: сентябрь–октябрь 1915 г.
Отразилось ли это на отношениях с Н.В. Николаевой? Безусловно, хотя документальных свидетельств этому нет. Но не почувствовать охлаждения Хлебникова Николаева не могла, и в 1916 г. происходит её сближение с молодым поэтом Вячеслав Викторовичем Михайловым. По её словам, он был одним из участников группы поэтов, сплотившейся в 1912–1914 гг. вокруг Хлебникова. Известно о нём крайне мало. Из бумаг, хранящихся в Отделе рукописей, следует, что в 1914 г. он учился в Авиационном военном училище, в 1916 г. служил в 29-м авиационном отряде в Двинске, участвовал в воздушных боях с немцами, и в апреле 1916 г. при посадке самолёта получил сильный ожог лица. У него были серьёзные намерения в отношении Н.В. Николаевой, но Михайлова поглотила война или революция — неизвестно. Новицкая всю жизнь хранила его стихи и, передавая в 1967 г. в Отдел рукописей архив Хлебникова, поставила непременным условием передачу также и рукописей В.В. Михайлова. Но изложенное выше не значит, что прекратились всякие отношения между В.В. Хлебниковым и Н.В. Николаевой. Для Николаевой Хлебников — не только любимый человек, но и великий поэт. К тому же она умела быть реалистичной.
В начале 1916 г. Хлебников довольно долго пробыл в Москве. 17 марта он заносит в записную книжку: видел мать Надежды Васильевны.16![]()
![]()
Первое четверостишие — вариант стихов 1915 г., о которых сказано выше.
Возможно, тогда же было написано и второе стихотворение. Во всяком случае, в нём речь идёт о лете 1915 г. На это указывает мотылька прилёт дружка, сжигающий разум золотой загар плеча Н.В. Николаевой (так как именно с ней Хлебников гуляет по вечерней Москве) и даже маленькая, не прикрывающая головы шляпка. Об этой шляпке Хлебников сообщает иносказательно: На волосах чернеет вёдрышко, а затем, как бы спохватившись, что его неправильно поймут, уточняет: конечно шёлка. В стихотворении даже указано место, где находится поэт со своей спутницей, и время происходящего. Это Тверская площадь, недалеко от которой (в Кривоарбатском переулке) жила Н.В. Николаева. Здесь в 1912 г. был установлен памятник генералу Скобелеву. Отсюда даже в нынешней шумной Москве можно услышать бой часов Спасской башни, а в 1915 г., да ещё в 12 часов ночи (падал сумрака мешок), Хлебников, несомненно, слышит именно эти часы. Заметим кстати, нет ли здесь опечатки. Возможно, в рукописи не Скобелеву, а Скобелева:
Не случайно около этого памятника ведётся разговор (лепет: вероятно, занятый обликом своей спутницы, он её почти не слушает) о Самарканде: Скобелев не только герой Плевны, но и завоеватель Ферганы.
А вот третье стихотворение цикла создано в первой половине 1916 г., и описывается здесь ссора. Вполне возможно, Новицкая, почувствовав охлаждение, потребовала у Хлебникова объяснения. Она гневается:
Заметим в скобках, что глаза у Новицкой были зелёные, но чёрными они Хлебникову тогда показались неспроста. Слышны злые, резкие слова:
Символично название цикла «Бегство от себя». Здесь есть о чём задуматься, но то, что Надежда Васильевна Новицкая стала частью жизни Хлебникова, сомнению не подлежит.
Во второй половине 1916 г. в творчество Хлебникова врывается образ Марии Михайловны Синяковой-Уречиной. Хочется отметить одну особенность. Как правило, подробности облика одной женщины при описании другой Хлебников не использует, здесь же повторы очевидны: загар плеча Н.В. Николаевой и смуглое плечо Синяковой-Уречиной в «Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова...». У той и другой косы: И косы падайте тесней (Николаева), И косы падали вечерней голубиней в том же, где и смуглое плечо, стихотворении или жмут, жгут меня медные косы в стихотворении «Ласок» (Синякова-Уречина). Возможно, это случайные совпадения, обусловленные временем написания (лето) и сходством каких-то черт внешнего облика; с другой стороны, Хлебников, по-видимому, действительно усматривает нечто общее между ними. Во всяком случае, летом 1918 г. он посвящает М.М. Синяковой-Уречиной стихотворение «Харьковское оно», т.е. именует её именно так, как называла себя Н.В. Новицкая.
Что оно не забыто, следует из стихотворения «Вчера я молвил: „Гуля, гуля!”...» (апрель 1917). Приводим вариант, опубликованный Н.И. Харджиевым:19![]()
Приручению войн сопутствует описание встречи с Надеждой Васильевной Николаевой: по данным Харджиева, у неё в квартире жил ручной уж. Любопытно, что Хлебников упоминает чёрные чоботы. Казалось бы, оно должно быть босым, ведь в «Харьковском оно» нога качает стременами, желтея смугло и босая.
Последний раз Хлебников и Николаева виделись весной 1919 г. Отец Надежды Васильевны получил работу в Вологде, за ним из голодной Москвы потянулись и домашние. Николаева предлагает Хлебникову ехать вместе, но он выбирает другой путь. Больше их жизненные пути не пересекались, но она сохранила всё то, что доверил ей поэт.
Напомним, что первым из исследователей доступ к имевшимся у Новицкой материалам получил Н.И. Харджиев. Задумав издать произведения Хлебникова, не вошедшие в пятитомное собрание его сочинений, он обращается в 1935 г. к Новицкой с просьбой предоставить ему архив Хлебникова для работы. Не сразу и не вдруг соглашается Надежда Васильевна. Переговоры идут почти год; наконец, она передаёт ему всё, что имеет. От публикации ранних прозаических произведений Харджиев отказался сразу. А вот какие вещи из архива, принадлежавшего Новицкой, он обнародовал, в полном объёме установить невозможно, так как в «Неизданном Хлебникове» ссылок на принадлежность того или иного подлинника Новицкой нет, хотя в отношении других правообладателей имена приводятся. Находящийся в Отделе рукописей архив помочь не может, так как сама Новицкая говорила, что он был возвращен ей не полностью. Просматривая «Неизданные произведения», находим комментарий Н.И. Харджиева:
Вопрос установления первоначального владельца рукописей не праздный. Такие сведения помогают в комментировании, датировке произведения, указывают на характер взаимоотношений с теми или иными людьми. Хотелось бы иметь ясность и в отношении Новицкой.
Но это, по-видимому, невозможно. Всё, что наполняло жизнь Николаевой-Новицкой, особенно в интересующие нас 1914–1919 гг., ушло вместе с ней. Ни воспоминаний, ни переписки — не осталось ничего. К сожалению, ничего, кроме воссоздания хронологической канвы её жизни по документам ЗАГСа, паспортного стола и анкетам, хранящимся в ЦГАЛИ Санкт-Петербурга, пока не удалось.
Надежда Васильевна Николаева родилась 13 октября 1894 г. в деревне Усулье Иркутской губернии. Отец — Николаев Василий Фронтасьевич, родился в 1861 г., был техником по изысканиям и строительству в Министерстве путей сообщения. В Иркутской губернии семья проживала до 1903 г., затем вернулась в Москву. Мать Надежды Васильевны — Николаева Екатерина Николаевна, 1871 года рождения, коренная москвичка, дочь генерала, девичья фамилия Давыдова. Вероятно, именно поэтому Бурлюк во «Фрагментах...» и написал, что Николаева из рода партизана Давыдова, сама же Н.В. Новицкая говорила, что они по матери состояли в родстве с К.П. Победоносцевым. Н.В. Николаева окончила классическую гимназию Фишер. В 1913–1914 гг. — работа в Москве на кинопроизводстве в качестве актрисы. С 1914 по 1916 гг. училась в Археологическом институте, но закончила только два курса (Институт был трёхгодичный). „Не окончила, — пишет она в одной из анкет, — по случаю воспаления мозга”.21![]()
В 1919 г. семья Николаевых уезжает в Вологду. Здесь в 1923 г. Надежда Васильевна Николаевна знакомится с плотником по ремонту вагонов Мечиславом Ивановичем Новицким, уроженцем Двинска, за которого и выходит замуж. В 1925 г. Новицкие перебираются в Ленинград, куда затем переезжает и вся семья Николаевых. Новицкий устраивается шабровщиком на завод «Красный выборжец», и фактически на его иждивении оказываются, кроме Надежды Васильевны, её мать и две сестры — Ольга и Екатерина. Отец в это время находился на постройке Усть-Каменогорской железной дороги. Брат Лев служил на флоте. В 1925 г. чета Новицких поступает в Техникум экранного искусства. Но в том же году техникум был упразднён, и Новицкая с сёстрами поступает на Высшие курсы искусствоведения. Курсы эти известны с лучшей стороны, там учились Ираклий Луарсабович Андроников, Лидия Корнеевна Чуковская и сестра Дмитрия Дмитрия Шостаковича. Неизвестно, где учился М.И. Новицкий после неудачи с кинотехникумом. Но в дальнейшем он трудился агрономом в Ленинградской области. Надежда Васильевна не работала.
С началом войны М.И. Новицкий уходит в армию. Новицкая остаётся в Ленинграде с матерью. Отец умер в июне 1940 г.; в ноябре 1942 г. умирает мать. Новицкая уезжает к мужу и работает переводчицей в лагерях военнопленных немцев. В Ленинград она вернулась с мужем в мае 1946 г., в 1954 г. в возрасте 58 лет он скончался. Новицкая пережила его на 25 лет. Она скончалась 30 декабря 1979 г. Похоронена на станции Романовка Финляндской железной дороги.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 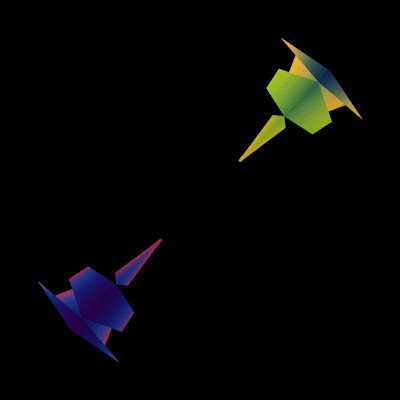 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||