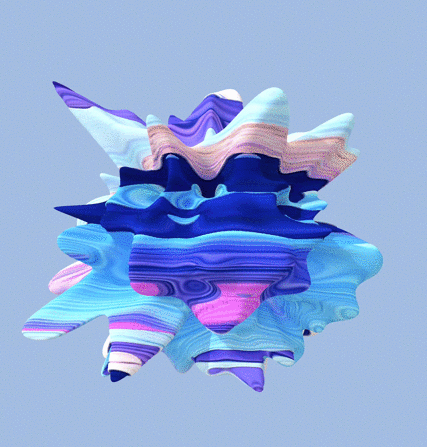Киктев М.С.
Хлебниковская Азбука в контексте революции и гражданской войны
Замечания В.Я. Мордерер 
Эр, Ка, Эль и Гэ —
Воины азбуки —
Были действующими лицами этих лет,
Богатырями дней, —
говорит Хлебников в «Зангези» (III, с. 330; Тв, с. 479).
1
События революции и гражданской войны осмысляются им как
страшная рубка двух старост Азбуки — Эль и Ка (ЦГАЛИ, ед. хр. 117, л. 2 об.), но в ином случае старостами могут оказаться и другие
буквы.
Дикой схваткой двух букв,
Чей бой был мятежен,
Азбуки боем кулачным
Кончились сельской России
Молитвы, плач их, —
говорит он в поэме «Берег невольников» (НП, с. 61; Тв, с. 340). И если в последнем случае речь идет о борьбе “бэ” и “же” — о том, как жратва чугуна, пушечное мясо мировой войны, превращается в братву мировой революции, — то борьба Ка и Эль гораздо шире отдельного частного образа и не может быть истолкована так конкретно и однозначно.
Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка | каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя (V, с. 236–237; Тв, с. 628–629; ПС, с. 223–224), — писал Хлебников в статье «Наша основа» (1919, изд. в 1920 г.), завершающей работу над азбукой понятий | азбукой ума, или просто азбукой. Но почему и в каком смысле буквы | согласные звуки или даже стоящие за ними понятия или образы оказываются воинами и выступают действующими лицами этих лет | богатырями дней? Не уяснив такой их актуализации, не понять, по-видимому, и самой по себе азбуки.
Работа над ней оставалась одним из основных направлений творчества Хлебникова почти на всем его протяжении, причем с самого начала была органически связана с другим магистральным направлением интересов поэта — размышлениями о природе времени и исследованием его законов. В 1920 г. накопившееся количество перешло в новое качество: статья «Наша основа» действительно подводит итог утверждению азбуки, а вместе с тем, она обозначила рубеж, за которым хлебниковские образы-звуки вошли в некое новое измерение, становясь каждый особым “миром” или носителем своей “мировой истины”. Подобно этому хронологические изыскания Хлебникова после полосы числа и установления чистых законов времени в 1920 г.2 стали складываться в «Доски судьбы»; но вот каким был в черновиках поэта едва ли не первый образ будущих «Досок судьбы» (он же — едва ли не первый образ и будущего эпоса о Зангези):
стали складываться в «Доски судьбы»; но вот каким был в черновиках поэта едва ли не первый образ будущих «Досок судьбы» (он же — едва ли не первый образ и будущего эпоса о Зангези):
Зачем мне летописи, дневники свобод?
Лучше вытру доску для письмен
И поставлю Ка и Эль.
(ЦГАЛИ, ед. хр. 80, л. 36 — ноябрь 1920 г.)
1. Приведенный набросок есть, по-видимому, самый ранний текст, в котором Ка и Эль стоят рядом как антагонисты и ведущие силы или герои исторического процесса,3 причем образ Эль к концу 1920 г. уже был одним из важнейших символов в поэзии Хлебникова.
причем образ Эль к концу 1920 г. уже был одним из важнейших символов в поэзии Хлебникова.
Эль, это солнышко ласки и лени, любви!
В “улье людей” ты дважды звучишь!
Тебе поклонились народы
После великой войны, —
так раскрывается он в «Зангези» (III, с. 325; Тв, с. 478).
Л — движение без власти большей силы свободы — писал Хлебников еще в 1913 г, (V, с. 189). В «Нашей основе» это определение развивается следующим образом:
Возьмём пловца на лодке: его вес распределяется на широкую поверхность лодки. Точка приложения силы разливается на широкую площадь, и тяжесть делается тем слабее, чем шире эта площадь. Пловец делается легким. Поэтому Л можно определить как уменьшение силы в каждой точке, вызванное ростом поля ее приложения. Падающее тело останавливается, опираясь на достаточно большую поверхность. В общественном строе такому сдвигу отвечает сдвиг от думской России к советской России, так как новым строем вес власти разлит на несравненно более широкую площадь носителей власти: пловец-государство — на лодку широкого народовластья.V, с. 237; Тв, с. 629; ПС, с. 224
4
Одновременно с «Ладомиром», в начале 1920 г., Хлебников слагает гимн — «Слово о Эль» (III, с. 70–72; Тв, с. 120–122) и затем вновь возвращается к нему уже в конце 1921 г. — в «Гроссбухе» (ЦГАЛИ, ед. хр. 64, л.10 об.; В, с.106–108); в последнем варианте читаем:
Мы любим, Л широким сделав,
И те, кто любят, — это люди.
Точки отвесной удар
В ширину поперечную — это старинное Эль,
Ляли и лели — легкие боги из облака лени.
Эль — это воля высот
Стать шириной,
Парить, — широкое не тонет.
Кроме старинного Эль, мы встречаем в «Гроссбухе» (л. 78 об.) и выражение Эль этих лет (ср. в «Зангези» действующие лица этих лет):
Могила царей Урал
Где кровью царей
Руки свои замарал
Эль этих лет
Крикнув ура.5
В поэме «Царапина по небу», работа над которой была начата одновременно с «Ладомиром», Эль любви, лебедя, лелеки ассоциируется с именами Лаотзы, Лассаля, Ленина, // Луначарского, Либкнехта (III, с. 84).
И тщетно Ка несло оковы во время драки Гэ и Эр, — говорит Хлебников в «Зангези», имея в виду Гэ Германии | Гэ Гогенцоллернов и Эр России | Эр Рюриковичей | Эр Романовых (Здесь Г и Р древнее, чем станы. Это не есть игра случая. “Рок” имеет двойное значение судьбы и языка. Первый звук в отличие от других есть проволока, русло токов судьбы, — писал он еще накануне войны — V, с. 192), и продолжает:
Гэ пало, срубленное Эр.
И Эр в ногах у Эля!
(III, с. 330; Тв, с. 480)
Сложнее с образом Ка. Его превращение в конце 1920 г. в один из главных хлебниковских символов может показаться совершенно неожиданным. Между тем по количеству упоминаний К в трактующих азбуку текстах до середины 1920 г. и по разработанности и устойчивости его определений эта “буква” разделяет с Л первое место. Более того, К в материалах по азбуке появляется даже раньше, чем Л, — еще в конце 1900-х гг. (см. ниже), тогда как Л — лишь в начале 1912 г. (НП, с. 325–327).
К ассоциируется у Хлебникова со смертью | лишением свободы | малоподвижностью | исчезновением движения (V, с. 205). К — переход сил движения в силы сцепления. Камень, закованный, ключ, покой, койка, кол, кольца (V, с. 207). И как не похожа на проникнутое пафосом определение Эль сухая фраза «Нашей основы»: Значение К — неподвижная точка, прикрепляющая сеть подвижных (V, с. 236; Тв, с. 628; Пс, с. 224).
По-видимому, впервые, хотя еще и не прямо, Ка актуализируется в качестве символа в стихотворении «Поэтические убеждения» (1919 или 1920 г.) — в строках:
И кулака не боюсь Небесной Чеки
(ЦГАЛИ, ед. хр. 55, л.11; V, с. 108)
Реальная аббревиатура, ставшая известнейшим неологизмом современности, осмысляется и метафоризируется здесь в категориях азбуки понятий — как сочетание именно хлебниковских Че и Ка, т.е. как вместилище Ка: Ч — оболочка. Поверхность, пустая внутри, налитая или обнимающая другой объем. Череп, чаша, чара, чулок, чрен, чоботы, черевика, черепаха, чехол, чахотка (V, с. 207); Че — полый объем, пустота которого заполнена другим телом («Зангези» — III, с. 333; Тв, с. 481). Этому Ка Чеки противостоит в стихотворении «Поэтические убеждения» хлебниковское Пэ (оно объединяет действие огня — см. ниже; оно есть движение, рожденное разностью давлений | бурный рост объема | Перун, парень, пламя, пар, порох, пыл, песни и сам пламенный Пушкин | П по значению обратно К — V, с. 208, 217, 210):
В Че божество мое Пэ
Оттуда пролью свое Эль
Лени покоя на путь пересекающей площади
Прыгать вином
В Че бога пустом, на блюде
Серебряном кованом.
(ЦГАЛИ, ед. хр. 55, л. 12 об.; V, с. 109)
Так возникает у Хлебникова метафора божественного взрыва, который практически одновременно становится в «Ладомире» „ключевым образом поэмы”.6
Кроме «Председателя чеки»,7 непосредственно теме чеки посвящено еще одно стихотворение «Гроссбуха», также выросшее из харьковских впечатлений 1919–1920 гг.; оно открывается строками:
непосредственно теме чеки посвящено еще одно стихотворение «Гроссбуха», также выросшее из харьковских впечатлений 1919–1920 гг.; оно открывается строками:
В море мора,
В море мора
Точно чайка
Чрезвычайка
(ЦГАЛИ, ед. хр. 64, л. 31об.)
Как прямой ответ на эти строки звучит стих «Зангези»:
Это Эль строит морю мора мол, а смерти — смелые мели.III, с. 329; Тв, с. 479; вспомним: И Эр в ногах у Эля!8
В стихотворении «В море мора!..» поэт говорит:
Годы, годы
Мы мечтали о свободе,
И свидетель наши дети:
Разве эти
Смерть и цепи
Победителя венок?
(Смерть и цепи — прямые атрибуты Ка)
Одним из первых в революционном лагере Хлебников увидел противоречия и опасность в развитии революции — увидел в ней не одно, а два начала: вперед и назад. В декабре 1920 г. в Баку в случайном коллективном сборнике он опубликовал стихотворение, которое переписал потом в «Гроссбухе» (ЦГАЛИ, ед. хр. 64, л. 8 об.; III, с. 102):
Воет судьба у-лю-лю.
Это слез милосердия дождь.
Это сто непреклонных Малют,
А за ними возвышенный вождь. ‹...›
Здесь мы и встречаем слова: Это сразились вперед и назад. Вариант этого стихотворения (ЦГАЛИ, ед. хр. 43, л. 6) содержит строки:
Рот человечества, так говорю
От имени тела —
прямо предвосхищающие строки ахматовского «Реквиема»:
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ ‹...›
Таким образом, только пройдя через метафоризацию чеки в «Поэтических убеждениях», Ка, которое исходно противостояло П, становится антагонистом Эль. Новый материал оно начинает вбирать в себя в процессе подготовки «Досок судьбы» с конца 1920 г. Анализируя ход мировой свободы (ЦГАЛИ, ед. хр. 82, л. 33), Хлебников опирался на летопись 1917–20 г. (ДС, с. 4). Среди его записей рубежа 1920–1921 гг. есть следующие: 7-8 11.1917. Захват власти буквой Эль во имя мира. Ленин (ЦГАЛИ, ед. хр. 87, л. 20); 5 авг. 1917. Арест Троцкого и Луначарского властью К (там же, ед. хр. 85, л. 32). В одном черновике с приведенным выше наброском о доске для письмен читаем запись, которая может пролить свет на символику противостояния Ка и Эль: Ленин – Каледин (там же, ед. хр. 80, л. 39).
В большей степени, чем кто-либо еще из генералов контрреволюции, А.М. Каледин мог иметь для Хлебникова символическое значение. Боевой генерал и атаман Войска Донского, провозгласивший независимость Донской области и пытавшийся опереться прежде всего на казачество (в этом качестве он объективно оказывается для Хлебникова своеобразным противо-Разиным, именно Разиным наоборот), командир первых отрядов Добровольческой армии и непосредственный предшественник Корнилова и Деникина, он раньше других понял безнадежность борьбы („Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно”) и 29 января 1918 г. застрелился. Его стремительный путь к финалу — всего два месяца с декабря 1917 по январь 1918 г. — с особой наглядностью подчеркивал обреченность контрреволюции. Прямые ссылки на судьбу Каледина обрамляют Плоскость VII «Зангези», открывая и закрывая рассказ про наше страшное время словами Азбуки, где с темы Каледина Хлебников начинает:
Богатый плакал, смеялся кто беден,
Когда пулю в себя бросил Каледин, —
(III, с. 325; Тв, с. 477);
и затем возвращается к ней — уже как к теме Ка:
И крася облако судьбы собой,
Давая берег новый руслу человеческих смертей
Последним ходом в проигрыше —
Дуло у виска, идет бледнея Ка.
(III, с. 329; Тв, с. 479)
Оформление хлебниковского символа происходит буквально у нас на глазах — происходит превращение его именно в слово (слово Азбуки). Однако речь до сих пор шла лишь о внешней стороне дела — о влиянии на оформление символа внешних событий. Но есть другая, внутренняя сторона. Уже история Ка показывает, что хлебниковская символика несводима к однозначным прямолинейным истолкованиям и менее всего является иллюстрацией или обобщением неких “реальных прототипов”. Дело вовсе не в “совпадениях букв”. Поэтому посмотрим пристальнее, что лежит в основе этих символов — какие обобщения выражаются или обозначаются ими, что именно в них обобщено, и не менее важный вопрос — в каких категориях осуществляются обобщения.
2. Первые образы будущей азбуки появляются у Хлебникова в рабочей тетради еще конца 1900-х гг. (ЦГАЛИ, ед. хр. 63): Слова, выражающие крайнюю точку, острие, начинаются с К (л. 9 об.), Ч объединяет слова, означающие 1) быть вместилищем чего либо, 2) обладать властью над чем-то, 3) быть средой (л. 10 об.), Б — начало радости, ГЛ — лишённый обычного. Глаз — без кожи. Голый. Голод без пищи | Т объединяет уменьшение объема | П объединяет действие огня (л. 11 об.), Б объединяет начало благ жизни (л. 12), Г — корень подневольного падения (л. 15 об.). Этот период принято называть у поэта “словотворческим”. Тем примечательнее, что первые образы азбуки возникают как будто без прямой связи с словотворческими опытами. Последние заполняют, например, обе тетради того же времени, собранные в ед. хр. 60 (ЦГАЛИ), а в ед. хр. 63 представлены сравнительно редко; так же и в статье «Наша основа» утверждение азбуки дано в разделе «Заумный язык», а не в предшествующем ему разделе «Словотворчество».
До азбуки еще далеко. Единственное, что объединяет эти разрозненные и разнородные определения букв, — запись на л. 10, вокруг которой они рассыпаны: Слова как токи от ассоциативных с звуком центров.9 Она закрепляет, по-видимому, принцип, лежащий в их основе, и состоит он в том, что слова возводятся непосредственно к звукам, которые обособляются и абсолютизируются в качестве носителей неких значений, минуя уровень корневой системы и морфологии языка. Поименно корневая система и морфология, как бы игнорируемые здесь, выступают на первый план и актуализируются, оживляются в словотворческих построениях Хлебникова, опирающихся как раз на законы языка (V, с. 234; Тв, с. 627; ПС, с. 222), — вот что исходно разводит в стороны разработку азбуки и словотворчество, как разные и уравновешивающие друг друга направления ранних исканий поэта.10
Она закрепляет, по-видимому, принцип, лежащий в их основе, и состоит он в том, что слова возводятся непосредственно к звукам, которые обособляются и абсолютизируются в качестве носителей неких значений, минуя уровень корневой системы и морфологии языка. Поименно корневая система и морфология, как бы игнорируемые здесь, выступают на первый план и актуализируются, оживляются в словотворческих построениях Хлебникова, опирающихся как раз на законы языка (V, с. 234; Тв, с. 627; ПС, с. 222), — вот что исходно разводит в стороны разработку азбуки и словотворчество, как разные и уравновешивающие друг друга направления ранних исканий поэта.10 В той же рабочей тетради встречаем запись, стоящую особняком (л. 14 об.): Битвы звуков. Где происходят эти битвы и что охватывают? Пока, по-видимому, им еще нет места, иначе как в словах, внутри слов — в токах от ассоциативных с звуком центров, где вытесняя и замещая друг друга, звуки утверждают новые смыслы (см. выше, как пример, морю мора мол, а смерти — смелые мели).
В той же рабочей тетради встречаем запись, стоящую особняком (л. 14 об.): Битвы звуков. Где происходят эти битвы и что охватывают? Пока, по-видимому, им еще нет места, иначе как в словах, внутри слов — в токах от ассоциативных с звуком центров, где вытесняя и замещая друг друга, звуки утверждают новые смыслы (см. выше, как пример, морю мора мол, а смерти — смелые мели).
Смыкаются разработка азбуки и словотворчество на следующем этапе — в набросках незавершенной статьи 1912–1913 гг. «Учение о наималах языка» (ГПБ, ед. хр. 25). Статья задумана как исследование: Задачей этого исследования будет нахождение простов языка, наименьших звучащих единиц, имеющих смысл, и проведение законов сложения этих единиц в числа языка (л. об.), — но представляет собой, по существу, манифест. Наимал слуха есть и наимал ума (л. об.) — таков главный тезис Хлебникова, и самое интересное заключается в том, что в ходе его утверждения и развертывания этот тезис оказывается обратимым. Не только звук есть смысл, но и смысл есть звук. Простейший носитель смысла (самый скорый умоносец) есть то же, что и простейший звукодержец, носитель звука — звучарь (л. об.). Носитель смысла и носитель звука тождественны. Понятно, что носителем смысла выступает звук, но что такое носитель звука? Очевидно, хлебниковским звучарем в этом контексте может быть только смысл. Наименьшие звучащие единицы, имеющие смысл оказываются именно тем, что много позже, уже в 1920 или 1921 г., Хлебников однажды назвал мыслительными единицами в оболочке звуков (ЦГАЛИ, ед. хр. 117, л. 6); они неподвижны (там же), т.е. неизменно тождественны себе, тогда как подвижными и переменчивыми оказываются распыляемые на эти единицы слова.
Остановимся на неологизме звукодержец. С одной стороны, он буквально значит “носитель звука”, а с другой — образованный по аналогии с ‘самодержец’, он, несомненно, есть шаг к постулированию хлебниковского самовитого слова. Примечательно, что при преимущественном, как кажется, внимании к „звукам” самодержцами у Хлебникова оказываются именно смыслы; к понятию звука-умоносца нам еще придется вернуться. В подготовительных материалах к статье «Учение о наималах языка» эти самодержцы | звучари прямо названы особями (ГПБ, ед. хр. 26, фрагм. 4, л. 1 об.). Вот в каком качестве они ведут свои битвы — пока еще только в словах.11
Значений конкретных букв Хлебников не касается здесь вовсе. Это объясняется, вероятно, тем, что практически одновременно, в другой рукописи, также оставшейся незавершенной («Значковый язык» — ГПБ, ед. хр. 24), он пытается разработать систему как раз неких абстрактных значений (понятий и отношений между ними), которые и выражались впоследствии буквами его азбуки. Именно здесь высказана мысль о том, чтобы свести все понятия к немногим чисто геометрическим операциям на логическом поле (л. 16), как и мысль о творчестве новых понятий (узлов и точек мысли, ее поворотов, внезапных изгибов и ценных, красивых движений) (л. 12). В целом, эта работа несет явное отражение идей символической логики (см., в особенности, л.14 об.). Для выражения понятий поэт предлагает ввести особые значки (откуда и идет заглавие рукописи); по его мысли, они должны составить в будущем письменный язык всех народов (л.14 об.). Так впервые появляется у Хлебникова прообраз его мирового, или звездного, языка, который, однако, в последующие годы осуществлялся поэтом на основе не значков, а именно азбуки. По отношению к звукам этот значковый или письменный язык оказывается именно Немым языком: очень возможно, это его название появилось даже раньше, чем вынесенное в итоге на обложку (ср. лл. 2 об. и 3 об.). По существу, здесь мы впервые сталкиваемся с идеей той множественности языков, систематизацию которой Хлебников намечал впоследствии в «Гроссбухе».12
Замысел Значкового языка разработан и детализирован еще в меньшей степени, чем «Учение о наималах языка». Но примечательна очень своеобразная закономерность (своего рода “дихотомичность” мышления, “концептуальная бинарность”), состоящая в том, что в ходе работы интересы писателя разветвляются на каждом этапе в двух направлениях, как бы отталкивающихся друг от друга. Мы проследили два этапа: сначала семантизация звуков возникла в противостоянии словотворчеству и так же затем утверждение самой идеи образов-звуков происходит в противостоянии немому языку понятий, которые позже выражаются ими. То, что в итоге слито воедино, исходно предстает как противоположные устремления, как будто не предполагающие их последующего синтеза. Возможно, более глубокое проникновение в материал покажет, что подобным же образом и постоянное сопутствие друг другу, пересечение друг с другом разработки азбуки и исследования законов времени есть лишь частный, особый случай такого разветвления интересов в двух направлениях, их “дихотомичности”.
При этом бросается в глаза удивительная устойчивость у Хлебникова ряда мотивов, образов, тем, которые могут показаться случайными или побочными, но всякий раз возникая по-новому, оказываются, по существу, сквозными. Так в статье «Учение о наималах языка» от размышлений о грубой и нежной азбуке, в которой грубый и нежный звук образуют пару (Ер и ерь и нежные гласные позволяют рядом с грубым рядом звуков поставить нежный ряд — ГПБ, ед. хр. 25, л. 2), — протягивается нить к двум стихотворениям, записанным в «Гроссбухе» осенью 1921 г. рядом, параллельными столбцами (ЦГАЛИ, ед. хр. 64, л. 57 об.), — Грубый язык и Нежный язык (см.: V, с. 75).
С заглавием «Немой язык» перекликается в другой рукописи того же времени (ГПБ, ед. хр. 29, фрагм. 3, л. 2 об.) стоящая особняком, тоже, вероятно, как неосуществленное заглавие, запись: Рыбье слово; она зачеркнута, и Хлебников написал под ней: Вопль рыбы. Пока это только наброски, однако семь лет спустя в одной из бакинских тетрадей рубежа 1920–1921 гг. заглавие «Рыбья речь» появляется над записью о законах времени, в которой поэт говорит как раз о немом слове устанавливаемых им закономерностей (ЦГАЛИ, ед. хр. 91, л. 11).13 В ином плане идея “немоты” повернута в гл 16 «Трубы Гуль-муллы»: Плетусь, ученье мое давит мне плечи. / Проповедь немая, нет учеников (СПДП, с. 221; Тв, с. 356). В конце долгого пути от значкового языка „проповедь немая” сохраняет, по-видимому, свои прежние ассоциации: только на их основе здесь происходит обратная метафоризация эпитета и образ переводится в непосредственно-бытовой план (нет учеников). То, что эти прежние ассоциации очень глубоки, показывает гораздо более сложная ситуация в поэме «Ночной обыск», где бог (иконописный лик бога), когда его хочет победить и сокрушить один из моряков, возвещает пожар:
В ином плане идея “немоты” повернута в гл 16 «Трубы Гуль-муллы»: Плетусь, ученье мое давит мне плечи. / Проповедь немая, нет учеников (СПДП, с. 221; Тв, с. 356). В конце долгого пути от значкового языка „проповедь немая” сохраняет, по-видимому, свои прежние ассоциации: только на их основе здесь происходит обратная метафоризация эпитета и образ переводится в непосредственно-бытовой план (нет учеников). То, что эти прежние ассоциации очень глубоки, показывает гораздо более сложная ситуация в поэме «Ночной обыск», где бог (иконописный лик бога), когда его хочет победить и сокрушить один из моряков, возвещает пожар:
Он шевелит устами
И слово произнес… из рыбьей речи.(1, с. 273; Тв. с. 329)14
Идея “немоты” в самых разных ее отражениях и преломлениях очень существенна для понимания азбуки. Можно сказать, азбука родилась не столько из первых определений букв, сколько из преодоления “немоты” значкового языка. Проблема освобождения от “немоты”, и отнюдь не только от “немоты” человека (ср. „Улица корчится безъязыкая” Маяковского), — проблема речи (песни) немизн, изречения немотствующего оставалась одной из центральных для Хлебникова. Те же чисто геометрические операции на логическом поле слишком для него значительны — как смыслы, — чтобы не обрести звук, а обретая звук, они перестают быть схемой и обретают жизнь. С другой стороны, мы уже видели, что грубый язык и нежный язык были постулированы как некие объективные (и еще совершенно абстрактные) возможности или категории речи задолго до того, как встретили свой предмет и были реализованы в этой функции. В строящих азбуку статьях 1913–1916 гг, (они составляют третий этап ее разработки) буквы и идеи неосуществленных значков — звуки и понятия — идут навстречу друг другу.15
3. Хлебниковские буквы обобщают, прежде всего, конкретные слова. Значение четырнадцати таких букв поэт специально формулирует в статье 1916 г. «Перечень. Азбука ума» (V, с. 207–209). По своему содержанию она непосредственно предшествует «Нашей основе» (в ее филологической части), но без того осмысления метода в целом, которое определило пафос последней и действительно превращает ее в манифест. На первом плане в «Перечне» именно представление материала, а не истолкование утверждаемого принципа. Девятнадцать буквенных гнезд (некоторые гнезда дублируют друг друга) охватывают здесь в общей сложности более ста шестидесяти слов, но более ста из них — слова, в тех или иных контекстах выступающие у Хлебникова ключевыми. В пяти самых больших гнездах, охватывающих без малого половину материала, доля последних колеблется от 74 до 92 процентов.
Вопрос о произвольном подборе “объединяемых” начальными буквами слов снимается, таким образом, сразу же. Хлебников, как ни широки его построения и выводы в «Нашей основе», оперирует не внешним и нейтральным общеязыковым материалом, а материалом собственного творчества, или, наоборот, можно сказать, весь язык он делает своим творчеством. Поэтому каждый согласный звук скрывает за собой не просто некоторый образ, но образ, накопленный его работой, причем уже в подготовительных материалах к статье «Ученье о наималах языка» эта работа получила вполне осознанную направленность: Я буду думать, как бы не существовало других языков, кроме русского (ГПБ, ед. хр. 26, фрагм. 4, л. 1 об.). Но ситуация вместе с тем сложнее: образы поэта восходят и не только к его творчеству и работает он не просто с русским языком как таковым; реальность всегда шире и неожиданнее собственных деклараций автора или выводов исследователя. Вот характерный пример, В России начинается с Б мятеж ради мятежа, — писал Хлебников в 1913 г. (V, с. 191–192), и едва ли можно понять эти слова, не прочитав в них отражение пушкинского — „русский бунт, бессмысленный и беспощадный”. Очень хорошо виден здесь самый принцип ведущего к азбуке мышления: исходной данностью для поэта выступает не та или иная реальность сама по себе, но именно реальность, выраженная или зафиксированная в слове. Так называемая словесная предметность раскрывается здесь не как то, что лежит в основе словесного образа — выражается им, но, прежде всего, как то, что возникает в качестве его результата — что порождается им.
Четко выделяются два типа определений хлебниковских букв. В одном из них само обобщение (понятие) предстает как некий чувственный образ, отражающий личное эмоциональное переживание обобщаемого и имеющий оценочный смысл. Таковы, например, самые ранние определения Б (см. выше) как начала радости (Б объединяет начало благ жизни), определение З в «Перечне»: З созвучное колебание отдаленных струн. Разделенные дрожания одного происхождения и числа колебаний. Отражение. Зеркало, зой (эхо), зыбь (отраженная буря), змей, двигающийся отражаясь. Звать, звезды, зорька, заря, зарница (отражение молнии), зень, зрак, озеро, зуд — боль без причины, отраженная (V, с. 207) или одно из ранних определений К: К начинает слова или около смерти: колоть, (по)койник, койка, конец, кукла (безжизненный, как кукла) — или слова лишения свободы: ковать, кузня, ключ, кол, кольца, корень, закон, князь, круг, — или малоподвижных вещей: кость, кладь, колода, кол, камень, кот (привыкающий к месту) (V, с. 205).
Другой тип — определения, лишенные непосредственной чувственной реальности и выдержанные в категориях, которые можно охарактеризовать как физико-геометрические. Вот здесь и сказываются, по-видимому, идеи «Значкового языка». Эти идеи существуют как бы в единой системе пространственно-силовых координат; в них преобладают такие выражения (по существу, термины), как точка | прямая | направление | пересечение | угол | ось | плоскость | поверхность | площадь | объем | тело | часть | целое | уменьшение | увеличение | сила | вес | давление | движение | положение | покой и т.д. Таковы определение в «Перечне» С как движение посланных неподвижной точкой нескольких точек, под узким углом и в одном направлении. Солнце, сиять (лучи), сыновья, сой (потомство неподвижного предка), семья, семя, сол (луч правителя) (V, с. 207), позднее определение Б как встречи двух точек, движущихся по прямой с разных сторон. Борьба их, поворот одной точки от ударов другой (V, с. 218; Тв, с. 622; ПС, с. 211) и многие, многие другие. Эти физико-геометрические или пространственно-силовые определения открывают в языке для поэта целые пласты новых значений и смыслов. Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру, — заключает Хлебников в «Зангези» (III, с. 333; Тв, с. 481).
В целом, определения последнего типа количественно преобладают в поздних текстах, хотя достаточно широко представлены и в ранних; встречаются и смешения обоих типов. Важна тенденция, проявляющаяся в движении, например, от раннего определения Л как движения без власти большей силы свободы к его геометрической интерпретации (переход движения из движения по черте в движение по площади — см. выше) или от ранней отрывочней характеристики: П объединяет действие огня — к развернутому физико-геометрическому определению в «Перечне»: П — движение, рожденное разностью давлений: порох, пушка, пить, пустой. Переход вещества из насыщенного силой давления в ненасыщенное, пустое, из сжатого состояния в рассеянное. Пена, пузырь, прах, пыль. П по значению обратно К. Кузнец сковывает, печь, пушка порох, пыль, пена, пузырь, пуля — рассеивают прежде собранное вещество. При П мы имеем свободные в одном измерении пути для движения вещества от сильного давления в слабое (V, с. 208).
Вопрос о том, во что превращается здесь логическое поле «Значкового языка», или о физико-геометрической картине мира, которую составят определенные буквы, будучи сведены воедино и систематизированы, требует специального рассмотрения. Будем помнить, однако, что хлебниковские звуки — это с самого начала самостоятельные особи, самодержцы-звучари, участники битв, т.е. некие самостоятельные субъекты взаимных действий; поэт слышит в них и звериные голоса (V, с. 106), так что в субъективности их явственно проступает объективное природное начало, очень существенное и дорогое для Хлебникова. Когда такой образ-звук, особь с ее звериным голосом, включается в систему физико-геометрических координат и отношений, он сразу же приобретает характер иной, совершенно новой для него абстракции и, как кажется, не может не вступить с самим собой в серьезнейшее противоречие. С одной стороны, подобно математическому, хлебниковский “буквенный” символ должен бы стать теперь чистой условностью, обозначающей некое понятие, не имея в принципе непосредственной общности с обозначаемым. Но, с другой, он по-прежнему остается порождением чисто словесным (продолжая жизнь слова в нем самом, которая, по Хлебникову, есть сущность поэзии — ЦГАЛИ, ед. хр. 60, лл. 63, 53) и функционирует именно как слово (имя). Не утрачивает он и своей субъективности с объективно-природным началом в ней: в математическом символе, в отличие от хлебниковского, не услышать собственного голоса. Сама система вырастает на основе уже установившихся значений букв и подчиняется им, а не предустановленные отношения дают содержание системе и требуют внешних обозначений. Ведь и при чисто геометрических операциях каждое из выводимых и определяемых Хлебниковым понятий само по себе менее всего умозрительно и неизбежно сохраняет свой чувственный облик и эмоционально-оценочный смысл или лишается всякого содержания.
В результате в противоречие с собой вступают не символы, а система, которая и оказывается в конце концов именно Азбукой. В замысле свести все понятия к немногим чисто геометрическим операциям на логическом поле можно видеть отражение идей символической логики или ее утопический образ, но характерно, что искомые операции Хлебников определил как именно геометрические, т.е. наиболее наглядные и конкретно-предметные из математических.16 Логическое поле в своей непосредственной данности оказывается именно пространственно-силовым и, как ни парадоксально, физико-геометрические характеристики только усиливают в хлебниковских образах-звуках их объективное природное начало и создают всеохватывающий вселенский размах стоящих за ним обобщений. Уже не просто звериные голоса в битвах звуков, но действительно Пространство звучит через Азбуку («Зангези» — III, с. 325; Тв, с. 477), причем актуализируется и осмысляется оно отнюдь не как абстрактная категория, а как непосредственная реальность мира, определяемая прежде всего его движением и потому необходимо включающая в себя также и время (см. примеч. 16) — равно время космоса и время истории.
Логическое поле в своей непосредственной данности оказывается именно пространственно-силовым и, как ни парадоксально, физико-геометрические характеристики только усиливают в хлебниковских образах-звуках их объективное природное начало и создают всеохватывающий вселенский размах стоящих за ним обобщений. Уже не просто звериные голоса в битвах звуков, но действительно Пространство звучит через Азбуку («Зангези» — III, с. 325; Тв, с. 477), причем актуализируется и осмысляется оно отнюдь не как абстрактная категория, а как непосредственная реальность мира, определяемая прежде всего его движением и потому необходимо включающая в себя также и время (см. примеч. 16) — равно время космоса и время истории.
Те же Ка и Эль предстают в этом контексте как действительно космического масштаба мифологические образы или существа, персонифицирующие некие объективные силы мироздания. Когда события революции и гражданской войны осмысляются как страшная рубка двух старост Азбуки, прежние битвы звуков отодвигаются на задний план и дело уже совсем не в том, что за каждым из них скрыт некоторый пространственный образ (ЦГАЛИ, ед. хр. 93, л. 4) или особый пространственный мир (там же, ед. хр. 84, л. 6 об.); речь идет теперь отнюдь не об абстрактных пространственно-силовых отношениях, и бьются отнюдь не сами по себе звуки. Вот здесь и сказывается исходный эмоционально-оценочный смысл хлебниковских символов. Подобно языческим божествам, хлебниковские понятия (мыслительные единицы) раскрываются как обобщенные представления неких явлений и сил природы (единого и цельного космоса, включающего в себя и человеческий мир), сформулированные не в теоретическо-понятийной форме, а в чувственном образе. Самое интересное, что такое понимание находит не только прямое подтверждение, но и развитие в хлебниковских текстах. Боги как обожествленная азбука, — дважды, по двум разным поводам, записал он летом 1920 г. (там же, ед. хр. 89, лл. 5 об. и 64 об.); третья запись (примерно того же времени) дает развернутую конкретизацию этой мысли:
Любопытно, что боги родились из обожествленной азбуки.
Боги как божественная азбука.
Значение Пэ — рост пустоты, разделяющей пару точек.
Богом пустоты, поля был Пан.
Липа у пруссов посвящена богу Лиго. Он был богом весны и веселья. У литовцев липа посвящена Лаймо, у славян липа была зеленым жертвенником Ладо, лелю, Ляле: богам и богиням радости и веселья. Леший, лес, лист, липа. Короче, липа посвящена тремя народами звуку Эль, ставшему богом.
Бог липы Эль раньше просто был звуком азбуки.
Перун родствен напору, толкающая точку сила.
Кали, индусская богиня смерти, исходит из обожествленного звука Ка, начало покоя, остановки движения.
Кек богиня земли египтян, родственно камню.
Гех — огонь, от Го — подыматься вверх, гореть.
Венера богиня вихря любви, венков сердца.
Либитина этрусков богиня Эль.
там же, ед. хр. 86, л. 22 об.
Мы видим, что богами (хотя в этом качестве еще и не антагонистами) Ка и Эль стали раньше, чем действующими лицами этих лет. Отдаленные предпосылки обожествления азбуки прочитываются уже в словотворческих построениях «Учения о наималах языка»: как за звукодержцем стоит самодержец, так и носитель смысла | умоносец, по-видимому, имеет за собой в качестве исходной модели слово ‘богоносец’. Если так, то нелишне подчеркнуть конкретность этого раннего словотворческого образа, отражающую, надо думать, конкретность (наглядность, своего рода “иконичность”) актуализируемых в азбуке “смыслов”: ‘богоносец’, по Далю, это не только „содержащий в себе Бога”, но тот, кто „с иконою на груди”, „кто носит икону о святой неделе и вообще при крестных ходах”; вспомним образ иконописного лика в «Ночном обыске».17
Уже под непосредственным влиянием Съезда народов Востока в сентябре 1920 г. в Баку Хлебников обращается к смуглым сынам Египта (Смуглые, присоединяйтесь к нам, белым!): Вы, создавшие имена богов странной красоты, звукового богатства и простоты, обожествив звуки мировой азбуки, сделав каждый звук азбуки богом, с его душой — мировой истиной этого звука — таково происхождение ваших первых богов ‹...› (там же, ед. хр. 89, лл. 61 об.–62), — и эти слова в гораздо большей степени и в самую первую очередь относятся не к древнеегипетским, а к его собственным богам.
Здесь возникает, однако, очень существенный и интересный вопрос: если звуки (и стоящие за ними понятия) суть именно боги, то что же есть тогда ум в хлебниковской азбуке ума (азбуке понятий)? Другими словами, если каждый звук азбуки это бог, с его душой — мировой истиной этого звука, то как соотносятся эти мировые истины, которые должны быть, очевидно, так же объективны, как и мир, с мыслительными единицами в оболочке звуков, принадлежащими, насколько можно судить, исключительно сознанию субъекта? Мы подходим здесь к проблеме единства субъекта и объекта, субъектно-объектного тождества.
С одной стороны, несомненно, здесь имеется в виду ум в обычном обиходном смысле — способность человека мыслить, т.е. ум субъекта (индивида или коллектива), носителя данного языка, звуки | буквы | имена которого выступают мыслительными единицами. Но с другой стороны, так же несомненно, что это есть и нечто иное, совершенно объективное и безотносительное к тому или иному субъекту. В контексте обожествленной азбуки это есть именно ум богов — некий общемировой порядок или строй, объективная логика мироздания, определяющая самые общие закономерности бытия и сводящая воедино мировые истины всех богов, — широкая дорога единого мирового разума (ЦГАЛИ, ед. хр. 71, л. 5; ср.: ДС, с. 40, — где последние три слова издателями опущены). Этот объективный мировой ум, управляющий понятиями (которые как бы летят с разных сторон, каждое — в свою точку рассудка — рассудка субъекта), не может не быть по-своему тождествен тому, что Хлебников так искал в это же время, — законам чистого времени | чистым законам времени; азбука и законы суть разные ипостаси одного начала и дополняют друг друга. Изучать время, по Хлебникову, значит переселяться в мозг богов (ЦГАЛИ, ед. хр. 83, л. 20 об. — февраль–март 1921 г.), счет чисел, счет времени — вот очи бога (там же, л. 4 об.). Не случайно именно на протяжении полосы числа звуки азбуки стали превращаться в богов, и только на этой основе (а не просто в ходе переломных событий революции и гражданской войны, как и не в результате “совпадений букв”) они стали действующими лицами и богатырями дней; эти лета и дни, в которых буквы выступают воинами, суть, по-видимому, не что иное, как осуществление времени (действия мозга богов) в пределах данного конкретного “пространства”. В соотношении законов и азбуки намечается, таким образом, определенный масштаб. Создается впечатление, что именно буквами „законы времени” осуществляют преднаписание событий (ЦГАЛИ, ед. хр. 92, л. 3 об.). Мир открывается как доска для письмен | летописи и дневники действительно не нужны.
При этом есть плоскость, в которой законы и азбука сопоставимы самым непосредственным образом. Подобно азбуке, „законы времени” для Хлебникова звучат (там же, ед. хр. 60, л.70–71 — начало 1900-х гг.), тайну времени он слышит (там же, ед. хр. 82, л. 43 — ноябрь 1920 г.), в действии этих законов он различает основной звук и служебные | звук-начальник и звучную дружину (там же, л. 21). Подобно азбуке, хлебниковские числа (первые три числа) также приближаются к обожествлению (хотя этот процесс едва намечен): Óдин, Тор германцев — трепет звука одного и трех, единицы и тройки ‹...› Перун — Первый (там же, ед. хр. 83, л. 32 об.), число Два, которое так похоже на латинское deus (там же, ед. хр. 77, л. 47 об. — декабрь 1920 г.). Подобно Ка и Эль, среди чисел есть свои „старосты”: Чтобы осторожно полуобнажить тайну, нам нужно понять мир как поприще борьбы 3 и 2 (там же, л. 45).
Соотношение законов и азбуки требует особого рассмотрения. Предварительно его можно определить как соотношение мозга и ума. Только благодаря этому уму в азбуке может осуществиться и быть прочитана цельная мифологическая система, дающая, если воспользоваться замечательным выражением, возводимым к А.С. Грибоедову, „философию природы в лицах, роман нравственного мира“,18 пусть и в лицах (особях) чрезвычайно неожиданных и своеобразных, — роман, развертывающийся не на страницах книги, а непосредственно в окружающей реальности, или, наоборот, всю вселенную (как доску для письмен) превращающий в Единую книгу (Читеж-град).
пусть и в лицах (особях) чрезвычайно неожиданных и своеобразных, — роман, развертывающийся не на страницах книги, а непосредственно в окружающей реальности, или, наоборот, всю вселенную (как доску для письмен) превращающий в Единую книгу (Читеж-град).
И, в то же время, здесь имеется в виду все-таки субъективный человеческий ум, а не что-то другое, и не только потому, что сама по себе азбука отнюдь не божественна, а именно обожествлена; ведь именно люди создали имена богов, сделав каждый звук азбуки богом. Дело прежде всего в том, что за этим объективным мировым умом (единым мировым разумом) у Хлебникова, насколько можно судить, нет личности какого-либо высшего субъекта — единого бога монотеизма или верховного божества языческого пантеона. Сам по себе этот объективный мировой ум абсолютно безличен: души | истины | голоса принадлежат только отдельным богам, — и существует он, по-видимому, только в их взаимодействии. Единственной личностью, способной свести в себе целое, остается, таким образом, личность человеческого субъекта, и речь идет поэтому не просто об осознании мира человеком или об отражении мира в субъективном мышлении, адекватном или неадекватном, но об объективном акте самосознания и самоизречения мира в человеческом разуме и языке. К так понимаемому человеческому уму (он же — ум мира) и обращен уже в 1922 г. хлебниковский благовест в «Зангези» — большой набат в разум, в колокол ума (III, с. 334; Тв, с. 482).19 Без понимания этого сказанное поэтом действительно остается немой проповедью. Проблема освобождения от “немоты” раскрывается здесь в одном из важнейших ее аспектов. Если законы времени открывают очи бога, причем открывают их именно в человеке, точнее — в единстве человека и мира, в Очимире (I, с. 294; Тв, с. 371; см. также выше, примеч. 17), то подобным же образом азбука оказывается одним из важнейших путей изречения немизн и преодоления исходной “немоты” мироздания. Эволюция азбуки и ее новое осмысление с 1920 г. по-своему завершают работу, которая шла у Хлебникова с самого начала его творчества и сама по себе гораздо шире одной только азбуки. И не в нас ли воскликнула земля: „О, дайте мне уста! Уста дайте мне!” И дали ли мы ей уста? — писал он еще в 1908 г. (НП, с. 322; Тв, с. 579; ПС, с. 151). Выразительно заглавие одного из ранних хлебниковских фрагментов — «Юноша Я-Мир» (IV, с. 35; ПС, с. 55); вспомним и «Песнь Мирязя», как можно вспомнить и утверждение я Азии в «Письме двум японцам» (V, с. 155; Тв, с. 604–605; ПС, с. 202).
Без понимания этого сказанное поэтом действительно остается немой проповедью. Проблема освобождения от “немоты” раскрывается здесь в одном из важнейших ее аспектов. Если законы времени открывают очи бога, причем открывают их именно в человеке, точнее — в единстве человека и мира, в Очимире (I, с. 294; Тв, с. 371; см. также выше, примеч. 17), то подобным же образом азбука оказывается одним из важнейших путей изречения немизн и преодоления исходной “немоты” мироздания. Эволюция азбуки и ее новое осмысление с 1920 г. по-своему завершают работу, которая шла у Хлебникова с самого начала его творчества и сама по себе гораздо шире одной только азбуки. И не в нас ли воскликнула земля: „О, дайте мне уста! Уста дайте мне!” И дали ли мы ей уста? — писал он еще в 1908 г. (НП, с. 322; Тв, с. 579; ПС, с. 151). Выразительно заглавие одного из ранних хлебниковских фрагментов — «Юноша Я-Мир» (IV, с. 35; ПС, с. 55); вспомним и «Песнь Мирязя», как можно вспомнить и утверждение я Азии в «Письме двум японцам» (V, с. 155; Тв, с. 604–605; ПС, с. 202).
“Я” поэта при такой ориентации приобретает особую модальность, которая иногда прямо декларируется поэтом (Рот человечества, так говорю // От имени тела). Но вот иной случай. Я говорю так не только потому, что говорю, но потому, что второй я говорит так через меня (ГПБ, ед. хр. 26, фрагм.1, л. 2 — этими словами Хлебников завершает запись, цитированную в примеч.14). Второй я присутствует постоянно, претворяясь или не претворяясь в “Я” поэта, и уже здесь можно видеть, что благодаря ему “Я” поэта захватывает взгляд на себя как бы извне, со стороны. В пределе не остается в чистом виде ни “Я” поэта, ни “Я” мира, а есть всякий раз то или иное их совмещение или пересечение, и возможности таких сочетаний неисчерпаемы.
Поэзии возвращаются функции прорицания и заклятия, священной речи. Рассмотрим как пример небольшое стихотворение Хлебникова, не из самых известных. Оно написано под непосредственным впечатлением Съезда народов Востока в Баку, который увлекал поэта, мечтавшего об азийском съезде, и озаглавлено — «Б» (кавычки Хлебникова). Итоговым шести строкам предшествуют более 220 строк черновиков (а среди них — и листок с приведенным выше наброском о доске для письмен). Можно видеть в этом стихотворении один из предельных случаев чисто хлебниковской “звуковой метафоры”, как можно видеть в нем одно из хлебниковских заклятий. Оставим без комментария реалии, объяснение которых может раскрыть самые глубины и “азийской”, и революционной темы Хлебникова. Вот его текст (НП, с. 180).
От Баку и до Бомбея
За Бизант и за Багдад
Мирза-Бабом в Энвер-бея
Бьет торжественный набат
«Ныне» Бакунина
Ныне в Баку.
В этих шести строках как будто нет вообще ни “Я” поэта ни “Я” мира. И не в том дело, что “Я” осталось в черновиках. Мы встречаем здесь не что иное, как “Я” отдельного звука (воина азбуки) — самодвижение и самоизъявление звука Б, выступающего в качестве некоей особой “стихии” в мире — одной из его сил или богов. Безусловно, мы не имели бы права на такое истолкование, если бы Хлебников сам не поставил этот звук в заглавие, где он фигурирует в своем наиболее обобщенном и абстрактном виде — как “имя”. Именем должен быть представлен его носитель. Но совершенно ясно, что никакого определенного предмета за именем для читателя здесь нет. Начало благ жизни | мятеж ради мятежа | встреча двух точек ‹...› сами по себе ни порознь, ни в своей совокупности какого-либо устойчивого определения предмета дать здесь не могут; они и сами нуждаются в комментарии, а для читателя они скрыты вне текста. И одно из двух: либо движение этого звука в стихотворении мы должны рассматривать лишь как случайную игру (очередное совпадение букв), не имеющую никакого принципиального смысла, либо же надо признать, что отнюдь не тот или иной предмет, данный в готовом и законченном виде, раскрывается здесь в том или ином плане, а, наоборот, сам процесс превращения звука в имя, его осуществления в качестве имени, охватывающего в своем движении самые разные и все новые предметы и тем связывающего их друг с другом, — составляет содержание стихотворения и создает его заклинающий смысл.
Думается, представленный материал проливает свет на очень существенную сторону творчества Хлебникова. В целом, по моему мнению, исследование азбуки особенно перспективно в том отношении, что оно дает возможность в пределах одного круга проблем и на самом конкретном уровне рассмотреть в творчестве Хлебникова практически на всем его протяжении соотношение и взаимную обусловленность теории поэта и его практики.
————————
Примечания 1
1 При ссылках на издания Хлебникова здесь и далее приняты следующие сокращения: I, II, III, IV, V — соответствующие тома изд.:
Хлебников В. Собрание произведений, тт. I–V. Л., 1928–1933; НП —
Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940; В —
Хлебников В. Стихотворения и поэмы. Волгоград, 1985; СПДП —
Хлебников В. Стихотворения. Поэмы. Драмы. Проза. М., 1986; Тв —
Хлебников В. Творения. М., 1986; ПС — Хлебников В. Утес из будущего. Проза Статьи. Элиста. 1988; ДС — Хлебников В. Отрывок из Досок судьбы. Листы 1–3. М, 1922–1923 (все три выпуска имеют единую пагинацию). При цитировании рукописных материалов Хлебникова в ЦГАЛИ (фонд 527, опись 1) и в ГПБ (фонд 1087) указывается непосредственно единица хранения.
 2
2 5 июня 1920 г.
началась полоса числа (ЦГАЛИ, ед. хр. 97. л. 4; ед. хр. 121, л. 3; ед. хр. 79, л. 5).
Совершенно исчезли чувственные значения слов. Только числа — запись 1 августа 1920 г. (там же, ед. хр. 93, л. 16).
Я забыл мир созвучий; их я как хворост принес в жертву костру чисел. Но еще немного, и мне вернется священная речь — 2 января 1921 г. (V, с. 317).
Переворот от числа к слову в воскресенье 14 марта 1921 г. (ЦГАЛИ, ед. хр. 92, л. 43 об.).
Законы времени в их итоговом понимании были установлены поэтом в ноябре-декабре 1920 г. (там же, ед. хр. 80, лл. 51–52; ед. хр .82, лл. 54 об., 58, 60; ед. хр. 87, л. 97; см. также: ДС, с. 3).
 3
3 Характерно, что в «Ладомире» (весна 1920 г.), как и в «Зангези», фигурируют, наряду с Эль, и
Гэ Германии и
Эр России (
русских Эр), однако Ка в «Ладомире» отсутствует.
 4
4 Ср. текст 1916 г.:
Л — переход движения по черте в движение по площади, ему поперечное, пересекающее путь движения (V, с. 207). Интересна графическая интерпретация символа, в которой Хлебников обращается к латинице:
Буква Эль состоит из одной черты, падающей сверху вниз, и другой, поставленной вбок, идущей в ширину направо. Но ведь так распределяется вес капли ливня (ЦГАЛИ, ед. хр. 118, л. 24 об. — 1920 г.). Примечательно, что первый издатель «Ладомира» в 1920 г., тесно общавшийся с Хлебниковым в Харькове, художник В.Д. Ермилов (1894–1968), готовя уже 1965 г. новое издание поэмы (оставшееся неосуществленным), ставил в макете книги первой буквой заглавия «Ладомир» именно латинское
L (см.: Тв, с. 287 и 293).
 5
5 Опубликовано А.Е. Парнисом:
Хлебников В. Из неизданного // «Литературное обозрение», 1988, № 7, с. 111.
 6
6 См.:
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990, с. 69–70.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 7 Хлебников В.
7 Хлебников В. Председатель чеки. Новое о поэте. Вступление, подготовка текста и комментарии А.Е. Парниса // «Новый мир», 1988. №10.
 8
8 В 1916 г., во время войны, говоря о «Пире во время чумы» Пушкина, Хлебников видел в
П парус победы в море мора (V, с. 211).
 9
9 Иначе читает эту запись В.П. Григорьев: „токи от ассоциативных ‹...› звук‹овых› центров“ (
Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986, с. 10).
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Другое чтение предлагает Р.В. Дуганов (устное сообщение): „Слова как токи от ассоциативных к звуковым центрам”. Насколько могу судить, предлог "съ" и падежные окончания читаются в этой записи вполне отчетливо.
 10
10 Вот как уже в 1919 г. характеризовал эти два направления сам Хлебников:
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призрак, за которым стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, — мое второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку («Свояси» — II, с. 9; Тв, с. 37; ПС, с. 216).
 11
11 Недостаток места не позволяет рассмотреть
законы сложения этих единиц в числа языка, которые, по-видимому, подобны законам
сложбы глыбных чисел (ГПБ, ед. хр. 25, л.‹2›).
Глыбными, или
целокими (там же), Хлебников называл простые числа, он придавал им особый смысл, опираясь в этом на античность (см., в частности, отрывочную запись конца 1920 г.:
Эратосфен исключал непростые числа — ЦГАЛИ, ед. хр. 82, л. 19 об.). Ср. в «Зангези» его мысли о
глыбах разной породы, из которых строится
сверхповесть, о
глыбах слова разного строения |
глыбах языка | о
глыбе как строительной единице. Характерно, что термин
словесные глыбы появляется у Хлебникова уже в
словотворческой тетради конца 1900-х гг. (ЦГАЛИ, ед. хр. 60, л. 6); здесь же (л. 15 об.) он формулирует
закон забвения происхождения словесной глыбы и равенства сложной составной словесной глыбы изначальному словесному “наделу”; ср. также у позднего Хлебникова мысль о том, что в далекой древности в речи
певучего дикаря ‹...›
созвучие ‹...›
боролось с большими числами языка (там же, ед. хр. 46, л. 5; V, с. 268). Также специального рассмотрения требует вопрос о раскрывающемся именно в «Учении о наималах языках» единстве работы над
азбукой и над
законами времени — в частности, в связи с приданием особого значения числу 19 (как числу согласных в
азбуке и как квадратному корню из числа дней в году в контексте идей
года во 2-ой степени и
года во 2-ой изволоке; см. также: ГПБ, ед. хр. 26 — фрагм.1, л.2; фрагм. 3, л. 9; фрагм. 4, л.1).
 12
12 См.:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников. М., 1983. с. 84, 93–94.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 13
13 С другой стороны, память о
значковом языке несет фразеология «Досок судьбы»:
Нужно озирать, изучать, измерять и расставлять значки нашего мышления по странам бывающего, подвигая окопы знания (ЦГАЛИ, ед. хр. 71, л. 5; см.: ДС, с. 40, — где текст воспроизведен с искажениями). Непосредственно к идее
значкового языка (
письменного языка всех народов) Хлебников возвращается перед этим в воззвании «Художники мира!» (13 апреля 1919 г.):
Пусть один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человечества и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые начертательные знаки помирят многоголосицу языков (V, с. 216–217; Тв, с. 621; ПС, с. 210).
 14
14 Конечно,
проповедь немая (а возможно, и
немой язык |
немое слово) уточнит свой смысл, если учесть, что восходит этот образ, по-видимому, к Пушкину — к Гл.1 «Путешествия в Арзрум»: „Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты”. На исключительное значение «Путешествия в Арзрум» для понимания ряда мотивов и тем творчества Хлебникова мое внимание обратил Р.В. Дуганов, высказав, в частности, мысль о том, что
урус дервиш |
русский дервиш иранских стихов связан с образом „брата моего, дервиша”, „поэта брата дервишу” Пушкина.
 15
15 Надо заметить, что по-своему преодоление “немоты” и изречение
немизн осуществляется также и в словотворчестве. См. следующее замечание в «Нашей основе»:
Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка. Заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую и, как путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания (V, с. 229; Тв, с. 624; ПС, с. 218–219).
 16
16 Дело, конечно, не только в наглядности (тем более что к подобной геометрической наглядности Хлебников стремился не только в
азбуке). Но здесь нет возможности рассмотреть вопрос о связи этих “операций” с интересом поэта к проблематике соотношения пространства и времени, в частности к идеям Г. Минковского, давшего геометрическую интерпретацию теории относительности. См. следующую запись Хлебникова конца 1900-х гг.:
Минковский и некоторые другие (я) начиная с 1903 года (я) думали объединить время с пространством, понимая его как пространство 4-го измерения (ГПБ. ед. хр. 26, фрагм. 1, л.2); в этой же записи далее Хлебников впервые формулирует идею
года во 2-ой степени (
мирового года в его позднейшей терминологии), что констатирует связь этих интересов с начальным этапом работы над
азбукой (см. выше, примеч. 11). См. также:
Бабков В.В. Между наукой и поэзией: “метабиоз” Велимира Хлебникова // «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, №2. С. 143 и сл.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 17
17 Таким образом, именно
ум |
смысл |
мысль становится
богом, что заставляет вспомнить также и образ
мыслезёма, оформляющийся у Хлебникова в 1900-х гг. (см.:
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества, с. 286–291)
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruи, очень возможно, имеющий сходное происхождение. Как словотворческое образование
мыслезём связан, по-видимому, со следующей идеей “религиозного материализма” В.С. Соловьева: „И как некогда земля в силу действия на нее Духа Божия произвела из себя в лице Адама творение сверхземное — разумного человека, подобным же образом впоследствии сама человеческая природа в силу вновь нашедшего на нее Духа Божия породила в лице Христа существо сверх человеческое. Адам — сын земли, но не просто земли, а, так сказать,
Богоземли; Христос — сын человеческий, но не просто человек, а Богочеловек. Совершенный плод земли — больше чем земля, совершенный плод человеческой природы — больше чем человек” (
Соловьев В.С. Собрание сочинений / Под ред. и с примеч. С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова. Тт. I–Х. 2-е изд. СПб. [1911–1914]. Т. IV, с. 604). См. в этой же работе мысль о том, что сущность человека „в своем двойственном составе может быть названа Бого-землею” (там же, с. 339). Ср. у В.С. Соловьева также встречающееся дважды, причем в разных работах, замечательное слово
богоматерия — неологизм, очень близкий хлебниковскому словотворчеству (там же, с. 36;
Соловьев В.С. Избранное. М., 1990. с. 97). С В.С. Соловьевым связан, по-видимому, и хлебниковский образ
законов времени как
очей бога, идея
Очимира (см. ниже) — ср.: „Всякая идея сама по себе есть ведь только умственное
окошко” (там же, с. 220; разрядка здесь и выше — В.С. Соловьева). Ср. у П.А. Флоренского такие категории-образы, как „око ума”, „око человечества”, „Святейшее око вселенной” (
Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1914, с. 107–108); ср. у А.Ф. Лосева в предисловии к «Философии имени»: „Диалектика есть просто глаза, которыми философ может видеть жизнь” (
Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990, с. 22). См. у Хлебникова в записи конца 1920 г. упоминание
раньше вдохновлявшего меня Влад. Соловьева (ЦГАЛИ, ед. хр. 91, л. 10 об.).
 18
18 См.:
Фомичев С.А. Литературная судьба Грибоедова // Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988. С. 7–28.
 19
19 См.:
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. С. 140–141.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
Воспроизведено по:
Хлебниковские чтения. Материалы конференции 27–29 ноября 1990 г.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. СПб. 1991. С. 15–39.
Благодарим Л.Л. Гервер за возможность ознакомиться с авторской правкой
Изображение заимствовано:
Arnaldo Pomodoro (b. 1926 in Morciano, Romagna, Italy).
Sphere Within Sphere (Sfera con Sfera).
Sfera (Sphere) series, begun in the early 1960s.
Bronze with gold patina. Trinity College, Dublin.
http://www.flickr.com/photos/brianmwhelan/4501983933/
Arnaldo Pomodoro say „The concerns of my work as an artist have always centred on the relationship between the individual sculpture and the space in which it is sited. A sculpture, indeed, is the realization of a space of its own within the greater space in which it lives and moves. When a work transforms the place in which it is located, it takes on the valence of a true and proper witness of the times that spawned it,and thus places a mark on its context, enriching it with additional layers of memory. Today I think of my sculptures as crystals, ornuclei, or as eyes, or signal fires; and I see them as relating to borders and voyages, to the worlds of complexity and imagination. ‹...› The perfection of form in Brancusi was so beautiful and mysterious: what can one do after Brancusi, or after Arp? Then at a certain moment I said to myself, really this perfection of the form in our time is inappropriate; it has to be destroyed. For me the “destruction” element was my most important discovery, and the most authentic both in terms of myself and my times”.

Максим Сергеевич Киктев (8 марта 1943 – 15 декабря 2005) — филолог, историк арабской литературы. Кандидат филологических наук (с 1970), доцент (с 1975) кафедры арабской филологии Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. Окончил Институт восточных языков (ИВЯ, ныне — ИСАА) при МГУ (1966), аспирантуру ИВЯ (ИСАА) при МГУ (1969), с 1969 г. работал в штате ИВЯ (ИСАА) при МГУ. Основная специализация — история классической арабской литературы. Основные научные интересы — становление и эволюция поэтической традиции, проблемы текстологии и источниковедения, проблемы литературной теории в арабской классике. Разрабатывал и читал лекционные курсы и спецкурсы по истории классической арабской литературы, истории литературы мусульманского Запада, языку Корана, литературной теории в классической арабо-мусульманской культуре, истории арабо-мусульманской философии, источниковедению и историографии арабских стран и др., а также курс «Современные методы филологических исследований». Перу М.С. Киктева принадлежит свыше пятидесяти публикаций. Под его научным руководством были выполнены и успешно защищены десять кандидатских диссертаций.
М.С. Киктев представлял собой редко встречающийся в отечественной науке тип ученого, успешно совмещавшего научные исследования с активным преподаванием. Его трудовой день начинался рано утром и проходил в сплошных лекциях в различных московских институтах, где преподаются арабский язык и литература. Но и после окончания занятий, когда это происходило в РГГУ, он никогда не спешил уйти домой: в это время к нему можно было обращаться с любым вопросом. Колоссальные энциклопедические знания позволяли ему давать консультации по множеству разнообразных вопросов, связанных с арабистикой и исламоведением. Даже специалист, долгое время занимающийся узкими проблемами, мог получить от него бесценные рекомендации по своей теме, сколь бы специфической она ни была. Круг знаний М.С. Киктева поражал. Он поистине был бездонным кладезем премудрости. Несмотря на то, что Максим Сергеевич, как и прочие преподаватели, всегда имел при себе конспект лекций, за годы нашего знакомства он только пару раз заглянул в него, чтобы проверить, правильно ли он назвал даты смерти нескольких малоизвестных арабских филологов, и, конечно, память его не подводила. Он помнил не только массу фактов из арабской истории, сведений по филологии, философии, множество сложных арабских имен, но и десятки, сотни дат. Он, например, мог безошибочно перечислить даты царствования всех правителей практически любой мусульманской династии, при этом часто не только годы, но вплоть до месяца и дня. М.С. Киктев хранил в памяти информацию об огромном количестве изданий арабских текстов не только в Западной Европе, но и в мусульманских странах, лично знал целые династии многих египетских и сирийских издателей. Он помнил огромное количество арабских средневековых текстов, отличающихся повышенной сложностью. Однако более всего восхищало его знание арабских стихов, огромное количество которых М.С. Киктев помнил наизусть и мог прочесть. Не часто во всем мире (особенно на Западе) можно встретить исследователя, помнящего наизусть свыше десятка длинных и сложных арабских касыд или му’аллак. Подобное качество всегда отличало средневековых мусульманских филологов и поэтов. Думаю, не ошибусь, если скажу, что М.С. Киктев держал в памяти практически весь огромный диван своего любимого арабского поэта ал-Мутанабби.
Кроме этого, он являлся непревзойденным знатоком русской поэзии “серебряного века”. С 1980-х гг. помимо арабистики М.С. Киктев занимался изучением творчества Велимира Хлебникова. Его научные интересы в этой области — мировоззренческие основы творчества Хлебникова, методология работы Хлебникова над словом, проблематика текстологии его произведений. Последние годы жизни он активно участвовал в издании «Собрания сочинений» В. Хлебникова в шести томах. В частности, им были подготовлены для публикации тексты поэм «Меджнун и Лейли», «Труба Гуль-муллы», «Синие оковы», «Переворот в Владивостоке». М.С. Киктев первым прочитал и подготовил к изданию хлебниковскую «Симфонию “Любь”». Он регулярно участвовал в работе Хлебниковских чтений и в других форумах, посвященных поэту и русскому художественному авангарду в целом.
М.С. Киктев серьезно занимался и творчеством В.С. Соловьева, с рукописными фондами которого длительное время работал. Кроме тотального увлечения Востоком в кругу поэтов “серебряного века” и знаменитого соловьевского очерка о Мухаммаде, точек соприкосновения двух миров — Запада и Востока — он нашел гораздо больше. Вспоминается случай с уникальной рукописью о житии знаменитого суфия ал-Халладжа, найденной Максимом Сергеевичем в фонде Соловьева. И сразу же после этого, не дав отойти от восторга, вызванного памятником, он кладет на стол одну из своих многочисленных записей со словами: „А вот тоже любопытный материал”. Это была копия статьи из записных книжек Вл. Соловьева о двух природах Христа. Цены этому документу нет для историков русской философии. А в записях М.С. Киктева — это лишь одна из многих “любопытных” замет.
Меньше всего к М.С. Киктеву можно было применить определение “сухого ученого”, который, живя среди архивов, часто не в состоянии донести свои сугубо специфические знания до широкой аудитории. Он действительно жил среди книг, но в не меньшей степени его жизнь проходила среди людей, в общении с ними. Блестящий талант лектора сочетался в нем с сугубо индивидуальным подходом к каждому слушателю. К каждому студенту Максим Сергеевич подходил как к единственной и неповторимой личности. Несмотря на то, что в РГГУ он читал лекции зачастую на последних парах, мне никогда не приходилось видеть людей, задремавших или клюющих носом, — согласитесь, довольно частый и легко объяснимый случай. И дело было не столько в предмете лекции, сколько в талантах лектора. Насколько тонка грань между добросовестным, но — увы! — усыпляющим изложением материала и методом изложения, позволяющим отвлечь и взбодрить слушателей! Часто приходится сталкиваться либо с безукоризненным, но сухим и неувлекательным стилем преподавания, либо с живым, вызывающим интерес, но, к сожалению, уводящим лекцию довольно далеко от предмета. М.С. Киктев виртуозно владел вниманием аудитории: не удаляясь от темы лекции, он вставлял в нее иногда занятные эпизоды из жизни востоковедов, рассказы о разных примечательных историях, имеющих отношение к арабистике или к востоковедению вообще. Для многих его учеников, которые уже сами стали преподавателями, он и в этом был примером для подражания. В поездках, общаясь с коллегами в разных городах и странах, и сам собираешь изрядный запас таких историй, но многие рассказы М.С. Киктева навсегда врезались в память своей оригинальностью. Например, невозможно забыть случай из жизни известного русского тюрколога В.В. Радлова, который, возвращаясь из экспедиции на Урал, где собирал знаменитых каменных баб, дал в Санкт-Петербург коллеге телеграмму следующего содержания: „Изрядно поиздержался на баб тчк Везу восьмерых тчк Высылайте грузовик”.
Лучше всех городов арабского мира М.С. Киктев знал Каир. У слушателей складывалось впечатление, что он вырос в этом городе. Каждый, кто представляет себе карту Каира, являющегося в большей своей части нагромождением исторической застройки, с трудом может поверить, что европейский человек способен помнить сложнейшую систему запутанных улиц, узких переулков и неприметных тупиков этого огромного города.
Кроме дорогого его сердцу арабского Востока и юга Испании с сохранившимися следами длительного мусульманского пребывания, М.С. Киктев пламенно любил еще одно место — Дагестан. Эта любовь объяснялась несколькими причинами. Во-первых, там живет один из старейших и выдающихся российских ученых-иранистов Н.О. Османов, к которому М.С. Киктев часто приезжал в гости. Во-вторых, этот край славится восточной ученостью — там можно встретить замечательных знатоков арабо-мусульманской науки и отыскать разнообразные книжные издания, привезенные из арабских стран, а по древнему, неписаному обычаю хозяин книжной лавки может не только сделать скидку понравившемуся покупателю, но и просто подарить ему книгу. Но одно место в Дагестане особенно очаровало М.С. Киктева, искушенного многочисленными поездками по экзотическим восточным странам. Это небольшой аул Кубачи, с древних времен славящийся производством холодного оружия на весь Кавказ и известный этим ремеслом во всем мире. В селение можно было добраться только по узкой горной тропинке, местами шириной со ступню ноги. Сюда, ведомый проводником, М.С. Киктев приходил несколько раз, здесь он осуществил свою заветную мечту — оседлать коня, здесь он отыскал уникальную рукопись арабского интеллектуала аш-Шанкити, самый ранний сохранившийся источник по теории мистической любви к Богу, которая практиковалась суфиями. Помню, с каким азартом и восхищением мы склонялись над выписками из этой рукописи. Максим Сергеевич уже готовил статью об этом уникальном памятнике, но, увы, он ушел, так и не успев опубликовать ее.
Как-то я попросил его приобрести в Дагестане небольшое сочинение известного мусульманского средневекового философа ал-Газали. Максим Сергеевич приехал и сказал, что нужной книги, к сожалению, не было, но он купил для меня другое, не менее редкое издание трактатов Ибн ’Араби. Отказавшись взять деньги наотрез, он пообещал, что когда осенью поедет в Дагестан снова, постарается найти нужную мне книжку. В сентябре раздался звонок: радостным голосом Максим Сергеевич возвестил, что его поиски увенчались успехом, и я могу приезжать за книгой. „Ну что вы, как можно, перестаньте”, — запротестовал он, когда я хотел возместить хотя бы эту его трату.
Создавалось впечатление, что сам М.С. Киктев — человек “серебряного века”, далекий от сегодняшних обыденных реалий. В каждом его жесте сквозило благородство, учтивость и глубинная врожденная интеллигентность, всегда отличавшая лучших представителей “старой школы”. Он был безукоризненно, по-старинному вежлив, всегда предлагал свою помощь, чувствуя малейшую в ней потребность. При обращении или упоминая кого-либо из общих знакомых, он вставлял перед именем “уважаемый”. Помню, после смерти С.С. Аверинцева на своем занятии Максим Сергеевич попросил почтить его память минутой молчания. На лекциях он всегда с глубоким уважением и пиететом говорил о своих учителях, предшественниках, коллегах. Не оставляло ощущение, что в эти моменты за его спиной, словно огромные тени, вырастали фигуры давно ушедших ученых — В.Р. Розена, В.Ф. Гиргаса, И.Н. Винникова, И.Ю. Крачковского, Х.К. Баранова и других. Порой речь заходила о менее известных исследователях, и Максим Сергеевич так начинал рассказывать о жизни и увлечениях каждого из них, что они представали перед нами, словно живые. Возникало восторженное ощущение причащения великой традиции.
Посвящая практически все свободное время преподаванию и своим ученикам, М.С. Киктев подчас не спешил публиковать даже ключевые результаты своей обширной научной работы. Будучи приверженцем досконального подхода к работе, он не выносил торопливости и никогда не спешил ставить точку в очередном исследовании. В результате остались незавершенные статьи, подготовленные к критическому изданию уникальные тексты, материалы к курсу по истории арабской литературы — одной из самых заветных его работ.
Однажды Максим Сергеевич, придя как всегда на лекцию, сообщил о смерти видного отечественного востоковеда, специалиста по Индонезии Б.Б. Парникеля, сказав о нем: „Он был не только превосходным ученым и знатоком в своей области… это, конечно, прекрасно, но не самое главное. За все то время, что я его знал, он не сделал никому ни одной подлости, честнейший человек…” Затем, помолчав, добавил, имея в виду своих ровесников-востоковедов: „Нас становится все меньше и меньше…” Эти слова прозвучали за несколько месяцев до его смерти.
П.В. Башарин. Максим Сергеевич Киктев (1943–2005).
PAX ISLAMICA 2(3)/2009
http://www.paxislamica.ru/netcat_files/1058_22.pdf
 Замечания В.Я. Мордерер
Замечания В.Я. Мордерер
Уж сколько раз твердили миру, что Хлебникова поле — не место для прогулок средних умов. Заставы молодецкие, отряды конницы летучей, внезапные проверки на дорогах. Вопрос: частное от деления 2
11 на число π. А
поперечник Земли в саженях. А расстояние от
Любяшки до
Торгаша в милях. В морских, да. Замечательно. Проходите.
„А судьи кто?” — вопиют средние умы, но их не слушают и теснят в шею даже от колосистых корнеплодов и озимой бахчи, не говоря о стручковой спарже, парниковых трюфелях и початках авокадо.
Так вот, я не льщу себя надеждой получить отклики допущенных и вхожих, геморрой и простатит коих далеко впереди. Оставьте при себе ваши „аффтар жжот нипадецки”, дети индиго. „Какое мне дело до всех до вас, / А вам до меня?”. Обращаюсь исключительно к старцам, кому за полтинник: ау. Эй, кто-нибудь из давно тут сидим. Кто-нибудь из вас это помнит? Ау.
А теперь излагаю. На днях, пребывая в раздумиях о судьбе работ Максима Киктева, читала я статьи Левада-Центра — Бориса Дубина, в частности. В одной из них он цитирует Бориса Хазанова: „Россия — место, где зажёвывается история”. Казалось бы, remake Михаила Задорнова: „Великая страна с непредсказуемым прошлым“. Как говорят в штате Висконсин, One and same egg, but it’s en profile. Те же яйца, только вид сбоку.
Оказывается, ничего подобного. Дубин поясняет, что жевотина (старых котлет, ухмыляется Владимир Владимирович Маяковский) — это исторические лакуны, то бишь вымарки,
пробелы. И нечего скалить зубы, гражданин с лесенкой: вы совершенный олень в современном русском языке. Зажёвывание не имеет никакого отношения к пищеварению, а связано исключительно с первобытной памятью.
Первобытная память — это ископаемый ныне магнитофон, прибор для записи и воспроизведения звука. Ребёнок индиго в глаза не видывал, придётся объяснить.
Носителем первобытной памяти служила пластиковая лента с магнитным слоем. Отсюда сматываем, сюда наматываем. Подача и приём строго согласованы, иначе обрыв или сминание (зажёвывание) ленты. Обрыв пустяки, долго ли склеить. А вот при зажёвывании лента превращается сначала в гармошку, затем в комок. Распутать можно, полностью восстановить — нет: при разглаживании опадает магнитный порошок. Утрата памяти навсегда.
В России перемотку ленты указующим перстом притормаживали Суслов М.А. (1902–1982), Пономарёв Б.Н. (1905–1995) и мн.др. Дошло, ребятки? Хазанов и Дубин — люди влиятельные, однако же не общепризнанные властители дум. Пока. Но есть ведь и уже общепризнанные. Кто из безоговорочных властителей дум озаботился
пробелами? Их тьмы и тьмы, таких озабоченных. Что делать? Сосредоточиться на Борисах, вот что. С какой радости на Борисах? Хлебников заповедал, вот с какой:
Б начало радости |
Б объединяет начало благ жизни |
в России начинается с Б мятеж ради мятежа.
Радостно-благой мятеж заказывали? Нет? Ну, я так не играю. Русские, называется. Беспощадные бунтари. Неужели вам не стыдно. Смысла нет? В таком случае продолжаю исключительно для евреев. Ау, стариканы и бабули с пятым пунктом.
Сказано — сделано: Борис Пастернак. „И надо оставлять
пробелы / В судьбе, а не среди бумаг”.
„Среди каких/чьих бумаг непререкаемый Борис Пастернак запрещает оставлять пробелы?“ — пытаюсь вызнать у невероятно сведущих стариканов и бабуль, коим известно расстояние от
Любяшки до
Торгаша, кто такие Управда, Махавира,
Елена Гордячкина, Еня Воейков, Моряна Любес и мн.др.
И что. „Аффтар выпей йаду”, — соболезнуют мне эти разносторонне продвинутые гуру и мэтрессы, шелестя фантиками от кошерной карамели Кис-кис. Тщательно взвесив последствия, осмеливаюсь переложить их ценное указание с языка NetSlangRu на древнегреческий: μή μου τούς κύκλους τάραττε. Не тронь моих чертежей. Сказал Архимед (ок. 287–212 до н.э.) перед смертью, вот именно.
Архимед ли Максим Киктев? Время покажет. Говорил ли он перед смертью? Говорил, и это записано. Перехожу к подробностям звукозаписи начала 1990-х гг. Лихих девяностых, как говорят ныне.
Именно тогда Александр Никитаев осчастливил меня (с возвратом, разумеется) магнитофонными плёнками выступлений на посвящённой Мандельштаму лондонской конференции, а заодно и кассетами с записями докладов на хлебниковские темы. На одной из них подозреваемый искатель точки опоры для переворачивания мира вверх тормашками, а также автор экспрессемы (креатемы? парадигмемы? контекстемы?) εύρηκα („I’ve found it!“) Киктев излагал своё прочтение аббревиатуры
ПР в знаменитом Гроссбухе. Недавние мои попытки уточнить у Никитаева время и место этой записи успеха не имели: Александр Тихонович тяжко болен и, похоже, навсегда утратил память.
В отличие от В.П. Григорьева, властию патриарха велимироведения повелевшего понимать сию помету не иначе как “
Пространства
Раб” (его же предыдущее прочтение “
Печатать
Разрешаю”), Киктев под шумок лентопротяги отстаивал варианты “
Пропавшая
Рукопись” | “
Потерянная
Рукопись”.
Исключено, что я перевираю этот доклад, ибо о ту пору готовила хлебниковский сборник в Ставрополе и сама носилась с идеей реконструкции замысла поэта (книга состоялась, реконструкция — нет). Ушки были на макушке, уверяю вас. Представьте моё изумление, когда я просматриваю материалы VI Международных Хлебниковских чтений 8. IX. 1998 г., где Киктев, судя по программе, не участвовал, — и вдруг натыкаюсь на доклад Н.Н. Перцовой «О помете
П.Р. в “Гроссбухе” В. Хлебникова»: выводы Киктева повторяются, однако без малейшего намёка на его приоритет!
Проходят годы, но и републикованный текст Перцовой (см. http://www.infolex.ru/Motivtx.doc) не содержит ссылки на усопшего первопроходца. Как удалось “коллективной памяти” зажевать его имя?
Вопрос в пространство, — говаривал в таких случаях Велимир Хлебников.
Теперь о моих замечаниях к «Хлебниковской “азбуке”…». Они как раз о „взаимной обусловленности теории поэта и его практики“, — как пишет Киктев. Словно пыльная дерюга нависла над его внутренним взором, но недостаёт решимости разорвать ветошь. Не смирительная рубашка — единый для всех размер воротничка официальной науки мешает вольничать. Вольничать на воробьиный скок от вывода, что Хлебникова — и в „практике“ и в „теории“ — хлебом не корми, а дай поводить читателя за нос, околпачить, разыграть без тени улыбки.
Простой пример:
Б начало радости |
Б объединяет начало благ жизни. Уже было, совершенно верно. Предлагаю потоптаться на месте, оно того стоит. Неужели Хлебников-теоретик взаправду полагает, что ‘барин’ и ‘батрак’ | ‘буря’ и ‘берегиня’ | ‘бедолага’ и ‘барыга’ | ‘блаженство’ и ‘бешенство’ | ‘буча’ и ‘болезнь’ | ‘битва’ и ‘быдло’ | ‘брага’ и ‘бобыль’ — радостно-благие пары? Он что, за дураков нас держит?
Не за дураков, а за торопыг. Кого-то держит, кого-то нет. Максима Киктева — нет. Сейчас докажу: „‹...› позднее определение Б как
встречи двух точек, движущихся по прямой с разных сторон. Борьба их, поворот одной точки от ударов другой (V, с. 218; Тв, с. 622; ПС, с. 211) ‹...›”. Цитата с web-странички, на которой мы сейчас находимся, правильно.
Ещё вопросы к ‘благо’ и ‘беда’ | ‘бог’ и ‘бес’ есть?
„Хлебников шутит — никто не смеётся”, — сказал тайновидец Мандельштам о неимоверно, устрашающе взрослом ребёнке, который не успокоится на кухне, пока не смешает
всё в напитке общем. Включая хрен, редьку, перец и горчицу, подсказывают мне. Пареную репу и ананасы в шампанском, подсказывают мне. Берёзовый сок с мякотью. Пульке
Монтезумы, бозо калмыков и сивуху Тараса Бульбы. Кровь Мирзы Баба, пот
Фердинанда Кортеца и слёзы княжны Таракановой. Греческий огонь Эратосфена. Дым Джордано Бруно. Зубную пасту Маяковского. Хлорную известь Бурлюка. Синильную кислоту Кручёных.
Отдайте моё слово мне обратно, а то закричу. Совесть надо иметь. Понаехали тут. Пока не смешает
всё в напитке общем. Ибо подоплёка подавляющего большинства его текстов — незыблемая в своём постоянстве игра слов.
Не игра-забава, а игра на высверк.
Сверкать, сиять, искриться, переливаться всеми оттенками и цветами радуги в капле росы, отражаться — это и есть игра лучей солнца, не так ли.
Теперь замените лучи на слова. Получится вот что: каждое слово — свет и отражение, причём одновременно. Это и есть наука (непроницаемую для меня цифирь Досок судьбы благоразумно обойду стороной) Велимира Хлебникова, она же его игра.
В самом грубом приближении, разумеется. Потому что „Волга играет, плещется. Овражки играют, в ростополь или в паводок в них образовались ручьи. Брага играет, бродит, пенится. Румянец играет в лице, жизненная живая краска выступает. Столбы или слолохи играют, северное сияние подвижно разливается. Солнышко играет, мелькает, пламенеет от густоты воздуха. Солнце играет на пасху, поверье, что солнце в этот день на восходе радостно играет разноцветными лучами“. — В.И. Даль, www.slova.ru/article/10929.html
Нет правил без исключения: затевает порой Хлебников игру-забаву. Раз в крещенский вечерок. Или на Троицу, будучи и Иране. Уже не игрун, а игрок. Игральные карты, кто бы мог подумать. Ах-ах,
опасно как. Разденут и разуют, ах-ах.
Не ах-ах, а ха-ха. Или хе-хе. В подкидного дурака самому с собой не сыграть, раскладывает Хлебников египетский пасьянс. А вы и не знали, что его «Зангези» — пасьянс
Аменофиса? Как у вас тут всё запущено. Пока не поздно, сходите на
www.ka2.ru/nauka/lena_silard.html Сходили, вникли, вернулись. Молодцы. Итак, об игре Хлебникова не в карты Таро. Три примера из статьи.
• Киктев пишет: „
Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру — заключает Хлебников в «Зангези» (III, с. 333; Тв, с. 481)”. Сейчас я покажу, как поступать с ветхой дерюгой, застящей внутренний взор людям в тесных воротничках. Раз — и готово.
И что мы видим, прочихавшись от пыли? Преподаватель В.В. Хлебников смеётся над учеником, проспавшим урок на тему «О скорнении языка», вот что мы видим. Трясётся от беззвучного хохота. Злобного? Почему нет. Недоедаешь, недосыпаешь, а эти балбесы...
Точно уроки закона божия.
Совет
поскоблить язык на обиходный русский переводится так: применяйте мою, Хлебникова, теорию
скорнения на практике (См. посыл Киктева о „взаимной обусловленности теории поэта и его практики“). Теперь понятно? Нет? А ещё дети индиго называетесь.
Повторяю для особо фиолетовых: 1. скобление шкуры (мездрение, очистка от подкожной клетчатки) — одна из технологических операций (сбивание мездры → вымачивание в квасцах → выминание) по изготовлению меховых изделий; 2. выделкой пушнины занимается особый ремесленник, скорняк (кожу без меха выделывает кожевник); 3. слово ‘скорняк’ происходит от ‘шкура’ (общеслав.
скора), а хлебниково
скорнение — от ‘корень’ (приставка–корень–суффикс–окончание). 4. налицо незыблемая в своём постоянстве у Хлебникова игра слов и очередной подвох:
пространство — это кто? Свинья и человек отпадают, не так ли.
• Еще цитата из Киктева: „
Боги как обожествленная азбука — дважды, по двум разным поводам, записал он летом 1920 г. (там же, ед. хр. 8)”. Здесь много проще: произведен обмен глухих и звонких согласных: азбука = аз-бука = аз Бога = я Бога.
• Памятуя об игре на высверк и технике безопасности, вглядимся через щиток электросварщика (закопчённое стёклышко для наблюдения солнечных затмений выбросьте на помойку) в следующий посыл Киктева: „Выразительно заглавие одного из ранних хлебниковских фрагментов — «Юноша Я-Мир» (IV, с. 35; ПС, с. 55)”.
Я же говорила, что бережёного Бог бережёт. Даже в щитке чуть не ослепли. Вот это да. Ну и ну: оказывается, поименование героя — типичный антоним, отправным высоким образцом которого (Зевесовой молнией, подсказывает Р.В. Дуганов) служит
старец Омир (одна из прежних транскрипций имени Гомера).
А теперь о нескольких текстах Хлебникова, одни — об азбуке, другие — о числах.
Есть комплекс стихов о море и морском береге, где
сваи Азбуки были вчера /
Оцелованы пеной смертей. Берег — излюбленный поэтом локус.
Буду я берег беречь, — заявляет он, одним махом зашифровывая и имя любовного адресата (Вера Будберг), и выявляя словесную, текучую структуру воды — Речь. О неологизмах (азбучных и числовых), образующихся в морских брызгах-осколках (
я озеро бил на осколки /
И после расспрашивал: сколько?) сделано много ученнейших догадок и соображений (см., в частности, работы Р. Вроона).
Между тем, довольно простые ответы дает сам поэт, объясняя чтó происходит после разлома свай Азбуки, в которые ударяет волна прибоя, точно разбиваясь о камень, схожий с собакой:
Этунный валун на земле, точно кость /
Грызёт люд, замороженный в лед, /
Слоги свирепых чугунных тенет. Разбитые и перепиленные слова дают слоги (или буквы), в речи равные союзам, предлогам, междометиям, местоимениям, затем они якобы наобум слипаются, образуя неологизмы, которыми оперирует поэт, придавая им собственные смысловые нагрузки. Осуществляется пеной прибоя незамысловатое повеление: „разделяй и властвуй”. (
На небе был ясен приказ: убегай!)
Итак, примеры из стихотворений «На море» и «Затишье на море» (варианты «Морского берега»), где
Скрылся за тучей верхарни умов /
Прибой человеческих мов. /
Прыги железных копыт ‹...› Здесь украинская мова-речь буруном-волной взмывает вверх, к гончим-тучам (
см. ниже), к поэту Верхарну, погибшему под поездом, т.е. перерезанному его колесами —
железными копытами. Символика жестокая и своеобразная, но соответствующая хлебниковской семиотике —
значковому письму.
Под пенье унылой онели — о, не, ли.
Это инес рождестварь — и, не, с, (+ ин = иной).
Из замков высокой отобы — о, от, то, об, бы.
Ончие тучи неслись, /
Отобые тучи над миром — о, он (вон укр.), чи (или укр.), е (есть укр.), ту, чи, не, с, ли, с, о, от, то, бы, е, ту, чи.
Утесы могучих такот — та, так, к, от.
Тутчина кончины, /
Ончина кончины! — тут, чи, на, о, он, чи, на.
Разумеется, об этих “азбучных” стихах можно говорить и говорить, но тогда громозд моих замечаний окажется несоизмерим с объёмом их источника. Умолкаю здесь, продолжу там. Там-тарам, там-тарам, та-ра-рам.
Беглый и выборочный взгляд на “числовое” стихотворение:
ЗВЕРЬ + ЧИСЛО
Когда мерцает в дыме сел
Сверкнувший синим коромысел,
Проходит Та, как новый вымысел
И бросит ум на берег чисел.
Воскликнул жрец: «О, дети! дети!
На речь афинского посла.
И ум, и мир, как плащ, одеты
На плечах строгого числа.
И если смертный морщит лоб
Над винно-пенным уравнением,
Узнайте: делает он, чтоб
Стать роста на небо растением.
Прочь застенок! Глаз не хмуря,
Огляните чисел лом.
Ведь уже трепещет буря,
Полупоймана числом.
Напишу в чернилах: верь!
Близок день, что всех возвысил!
И грядет бесшумно зверь
С парой белых нежных чисел!
Но, услышав нежный гомон
Этих уст и этих дней,
Он падет, как будто сломан,
На утесы меж камней.
21 августа 1915
Палэ-Рояль
Здесь для понимания некоторых “подспудных” операций, произведенных поэтом, не обойтись без многоязычия. Отказ от иных наречий блюдется Хлебниковым беспрекословно — внешне. Внутри происходит бойкий товарообмен. В латыни ‘зверь’ (belua) и ‘война’ (bellum) весьма схожи. Отсюда и простое объяснение «Войны в мышеловке»: войну поэт стремится заключить в клетку, посадить за решетку, в зверинец. Мандельштам этого и не скрывает в антивоенном стихотворении «Зверинец»: „Мы для войны построим клеть” (1916). Возвышенное число-зверь должно вырваться из клети: Прочь застенок!, числу самому предназначено ловить уравнение крылатых стрекоз-коромысел и усмирять трепыхание бабочки-бури (бабуры): Ведь уже трепещет буря, / Полупоймана числом. У Хлебникова зверь-belua сам крылат и почти ангелоподобен: И грядет бесшумно зверь / С парой белых нежных чисел!, но гомон (звон-bell) войны возвращает белокрылому ангелу врубелевские функции «Демона поверженного»: Он падет, как будто сломан, / На утесы меж камней. Работающие здесь метаморфозы и сцепления слов созвучны ‘бел’: война, зверь, белый, звон.
Чтобы не рассеивать внимание, анализ линий плаща, растения, бабочки, детей, роста и падения (цен, процентов) — отложим на потом.
Остался нерешённым заглавный вопрос: что связывает число со зверем? Придется переключиться к другим цепочкам и узам, к иному языку. Дважды повторено слово сломан, и при первом упоминании оно имеет непосредственную связь с числом: Огляните чисел лом. В стихотворении производятся особые действия по разбиванию, рассечению, крошению и крушению, отличающиеся от “азбучных”, но всё же созвучные и родственные им. Чисел лом — это дроби, в немецком они зовутся Bruch, что звучит как “брух”. Вот и выявляется своеобразная цепь (она проявляется не только у Хлебникова, но также и у других поэтов): дробное ЧИСЛО — брюх(о) — живот (жизнь) — животное=ЗВЕРЬ.
Как всегда у Хлебникова, единый шифр выдает еще более законспирированный текст:
Где конь благородный и черный
Ударом ноги рассудил,
Что юных убийца — упорный,
Жуя, станет жить, медь удил.
Где конь звероокий с волной белоснежной
Стоит, как судья у помоста,
И дышло везут колесницы тележной
Дроби злодеев и со ста.
Дроби злодеев и со ста — это и есть наименование преступных процентов наживающихся на войне убийц (вспомним о юношах и злодеях-ростовщиках: падают брянские растут у Манташева). Интересующая нас линия сконцетрирована здесь в нескольких строках: зверь + число-дробь-брюхо-животное-зверь + белоснежный. Да ещё и добавлен созвучный Bruch-“брюху”-дроби уже знакомый нам “брюки”-мост= Brücke: Стоит, как судья у помоста.
Думаю, на этом следует остановиться. Но чтобы “закольцевать” эти Замечания, которые начались темой „зажевывания истории”, обратим внимание на созвучие ‘жевал’ и ‘живал’ (жуя, станет жить).
Приблизительно так занимался Хлебников своим тайнословием, словесной алхимией. Повторение — мать учения. Повторим захватанную, заезженную, только ленивым не приводимую цитату из «Свояси» — но не скороговоркой, а пия по капле:
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призрак, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообше мировых языков, построенное из единиц азбуки, — мое второе отношение к слову.
Подозреваю, что хлебниковское признание о втором отношении к слову одновременно и скрывает, и выявляет его работу с многоязычием. Очень похоже на ту своеобразно преломленную каббалу, что скрывалась за пыльной волосяной сеткой чачван падж, годами нависавшей над моим внутренним взором. Раз — и готово. Лёгким движением руки Лены Силард. Потому что ты — это я, ты, он, она. Это ко всем нам обращаются: Да ты небрежно читаешь, / Больше внимания!


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Максим Сергеевич Киктев (8 марта 1943 – 15 декабря 2005) — филолог, историк арабской литературы. Кандидат филологических наук (с 1970), доцент (с 1975) кафедры арабской филологии Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. Окончил Институт восточных языков (ИВЯ, ныне — ИСАА) при МГУ (1966), аспирантуру ИВЯ (ИСАА) при МГУ (1969), с 1969 г. работал в штате ИВЯ (ИСАА) при МГУ. Основная специализация — история классической арабской литературы. Основные научные интересы — становление и эволюция поэтической традиции, проблемы текстологии и источниковедения, проблемы литературной теории в арабской классике. Разрабатывал и читал лекционные курсы и спецкурсы по истории классической арабской литературы, истории литературы мусульманского Запада, языку Корана, литературной теории в классической арабо-мусульманской культуре, истории арабо-мусульманской философии, источниковедению и историографии арабских стран и др., а также курс «Современные методы филологических исследований». Перу М.С. Киктева принадлежит свыше пятидесяти публикаций. Под его научным руководством были выполнены и успешно защищены десять кандидатских диссертаций.
Максим Сергеевич Киктев (8 марта 1943 – 15 декабря 2005) — филолог, историк арабской литературы. Кандидат филологических наук (с 1970), доцент (с 1975) кафедры арабской филологии Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. Окончил Институт восточных языков (ИВЯ, ныне — ИСАА) при МГУ (1966), аспирантуру ИВЯ (ИСАА) при МГУ (1969), с 1969 г. работал в штате ИВЯ (ИСАА) при МГУ. Основная специализация — история классической арабской литературы. Основные научные интересы — становление и эволюция поэтической традиции, проблемы текстологии и источниковедения, проблемы литературной теории в арабской классике. Разрабатывал и читал лекционные курсы и спецкурсы по истории классической арабской литературы, истории литературы мусульманского Запада, языку Корана, литературной теории в классической арабо-мусульманской культуре, истории арабо-мусульманской философии, источниковедению и историографии арабских стран и др., а также курс «Современные методы филологических исследований». Перу М.С. Киктева принадлежит свыше пятидесяти публикаций. Под его научным руководством были выполнены и успешно защищены десять кандидатских диссертаций.