






С этой точки зрения исключительный интерес представляет поэма «Ночь перед Советами», относящаяся к самым значительным эпическим произведениям. Задуманная первоначально в драматической форме, поэма в процессе работы, судя по сохранившимся черновикам (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, № 18, 22), путем внутренних изменений, преобразуясь изнутри, превратилась в эпос. Но при этом ее завершенная художественная концепция сохраняет следы исходного драматического сюжета и как бы помнит о своем драматическом происхождении. Рассмотрим ее возможно подробнее.
Поэма «Ночь перед Советами» была написана в Пятигорске в ноябре 1921 года. Один из первоначальных черновиков помечен 1 ноября, окончательный беловой текст в записях датирован 7–11 ноября. Поэма состоит из шести частей, причем центральная, третья часть, содержащая более половины всего текста, в свою очередь подразделяется на три части. Первоначальное название поэмы — «Ночь перед Рождеством» — было заменено уже после завершения работы.
При жизни Хлебникова поэма не была напечатана. Отрывок из нее впервые был опубликован в журнале «Новая деревня» (1925, № 15–16). Полностью поэма была напечатана только в сборнике В. Хлебникова «Стихотворения» в Малой серии Библиотеки поэта (Л., 1940). В предыдущих изданиях (Собрание произведений, т. I. Л., 1928; Избранные стихотворения. М., 1936), а также в последующем (Стихотворения и поэмы. Малая серия Библиотеки поэта. Л., 1960) она печаталась без двух последних частей. В обоснование усеченного текста редактор этих изданий Н.Л. Степанов предлагал следующие соображения: во-первых, последняя часть поэмы «Ночь перед Советами» включена в поэму «Настоящее», во-вторых, текст двух последних частей ни сюжетно, ни композиционно не связан с поэмой.1![]()
Вряд ли эти соображения можно считать основательными. Во-первых, включение тех или иных частей одного произведения в другое, выделение отдельных частей в самостоятельные стихотворения и, наоборот, “растворение” малых произведений в текстах больших в творчестве Хлебникова самое обычное явление. Это как раз характерная черта его поэтики, где и отрывок, и законченное стихотворение, и даже целая поэма может выступать в качестве слова, включаясь как элементарная единица в структуру более высокого порядка. Естественно, что такое слово в новых условиях получает и новые смысловые оттенки и даже полностью переосмысляется. В кругу хлебниковских поэм о революции, где отдельные образы, мотивы и темы многократно перекрестно повторяются, образуя сложную подвижную структуру, подобные включения вполне понятны. Тем более что последняя часть поэмы «Ночь перед Советами» вошла в поэму «Настоящее» не полностью и в другой редакции. Во-вторых, именно последние две части и образно и сюжетно являются необходимым окончанием поэмы, без них понять ее замысел просто невозможно. Кроме того, посредством этих частей, придающих поэме более широкий смысл, устанавливаются ее связи со всем кругом хлебниковских поэм о современности и с литературным контекстом эпохи, прежде всего с поэмами Блока и Маяковского. Поэтому рассматривать поэму, безусловно, нужно в полном объеме законченного белового текста.
Сюжет поэмы «Ночь перед Советами» построен в двух планах. Из шести частей поэмы пять сравнительно небольших по объему частей (I–II и IV–VI) образуют первый план, служащий композиционным обрамлением основной (III) части поэмы, ее второго плана.
Действие первого плана происходит в барском доме в ночь, как указывает название, перед Советами. Собственно действия тут почти нет. Перед нами две полубезумные старухи, барыня и баба-прислуга, в сумрачном доме, насыщенном томительным ощущением беды. Лишь время от времени в комнате барыни появляется прислуга, наклоняется над постелью и шепчет: „Барыня, а барыня!.. Вас завтра повесят!” В полудремоте барыня вспоминает прожитую жизнь, исполненную чистоты, самоотвержения и достоинства; все чувства ее возмущены несправедливостью угроз.
В предпоследней части возникает еще одна старуха — прачка, стирающая барское белье. От ее образа веет уже прямо каким-то апокалипсическим предвестием надвигающейся бури, потопа, пожара. И жуткий сумрак, в который погружена вся поэма, в последней части еще более сгущается темным, косным бормотанием прачки, жалующейся на свою судьбу.
Несмотря, однако, на весь этот насыщенный колорит, первый план поэмы и в подробностях и в целом вполне реалистичен, можно сказать, подчеркнуто, тяжеловесно реален.
Второй план в таком напряженно-неподвижном, трагически застывшем обрамлении, напротив, производит впечатление чего-то совершенно нереального. В каждой отдельно взятой детали, в каждом сюжетном мотиве здесь как будто нет ничего фантастического, все элементы здесь сугубо натуральны, но интенсивность, чрезмерная яркость, иллюзорная выпуклость каждой подробности, их призрачные связи, многократные повторения и стремительные превращения при очень медленном общем движении создают ощущение какой-то головокружительной фантасмагории.
Внешне второй план представляет собой страшный рассказ из сравнительно недавнего крепостнического прошлого. Это история загубленной жизни крепостной деревенской красавицы, оставшейся вдовой с грудным ребенком, которую барин заставил выкармливать грудью щенка. Безвинная молодка стала собачьей мамкой, в деревне ее прозвали Собакевной. А ее подросший сын, чтобы отомстить барину, повесил своего “молочного брата”, пса, перед барскими окнами и был засечен до чахотки.
Рассказ ведется от имени старухи — внучки Собакевны. Ее обычно отождествляют с бабой-прислугой, и, таким образом, сюжет поэмы представляется в виде традиционного рассказа в рассказе. Между тем это несомненная ошибка, хотя и объяснимая сложностью поэмы и даже, можно сказать, ею заданная, тем не менее опасная упрощением и затемнением сюжетного замысла. Если рассматривать второй план в качестве прямого рассказа бабы-прислуги, обращенного к барыне, то неизбежно приходится сталкиваться с целым рядом трудностей. Материал и стиль второго плана явно противоречат образу бабы. Чтобы отождествить ее со старухой-рассказчицей, пришлось бы приписать ей значительное знакомство с русской литературой и живописью, не говоря уж о склонности к весьма изысканным образам вроде: Мать ‹...› у нее на смуглом плече, прекрасно нагом, белый с черными пятнами шелковый пес! Или же в противном случае попросту утверждать, что поэт не сумел выдержать стиль сказа.2![]()
Старуха второго плана не тождественна старухе первого плана, однако нельзя не видеть между ними какой-то связи. Здесь ключевой момент для понимания сюжетного замысла поэмы. Мнимое отождествление этих образов как раз и включает второй план в поэму:
Снова ‹...› но другая. Как это понять? Если снова, значит — та же самая баба-прислуга, если другая, значит — не та же самая. По-видимому, старуха-рассказчица каким-то образом соответствует бабе-прислуге, в каком-то отношении ей эквивалентна. Но при линейной связи двух планов поэмы такое соответствие невозможно, и два этих образа не могут существовать вместе в одной пространственно-временнóй повествовательной плоскости. Следовательно, отношения двух планов поэмы не линейны, и между ними нет прямого перехода. Второй план построен в ином измерении. На это указывает, в частности, тот факт, что весь долгий рассказ о Собакевне умещается между двумя одинаковыми репликами бабы „скоро будет десять” (часов) и, таким образом, выключен из реального времени первого плана, точно так же как сама старуха-рассказчица выключена из реального пространства. Где же тогда можно локализовать особый мир второго плана поэмы? Очевидно, он должен находиться в каком-то таком месте, которое в одно и то же время есть “здесь” и “не здесь” и в котором все “то же самое”, но “другое”. Ответ, по-видимому, может быть только один: такое идеально-реальное место, такое пересечение двух планов может находиться только в “голове” барыни. И старуха-рассказчица и весь ее рассказ суть не что иное, как порождение фантазии барыни, ее бред или сон. Во всяком случае, это смысловая плоскость не просто другая, но “субстанциально” противоположная плоскости первого плана. В случае линейной связи двух планов поэмы перед нами была бы простейшая перестановка причины и следствия: на первом плане — конфликтное настоящее, на втором — определяющее и объясняющее его прошлое. На самом же деле отношения планов не линейны и строятся на противопоставлении непосредственно данной действительности и фантастически, преображенно отражающего и понимающего ее личного сознания. Но сопоставление настоящего и прошлого при этом отнюдь не снимается. Действие второго плана развертывается одновременно в глубину сознания и в глубину прошлого. Это значит, что два плана поэмы не просто сопоставлены и не только противопоставлены, именно едины и противоположны в одно и то же время. ... С такой точки зрения естественно устраняются все фактические и стилистические трудности понимания соотношения двух планов.
Однако этого еще недостаточно. Для верного толкования сюжетного замысла нужно иметь в виду и тот материал, на который опирается каждый из планов поэмы. Тем более что они оказываются в новых и даже неожиданных отношениям
Первый план поэмы основан на непосредственном, реальном, очень близком, можно сказать, мучительно близком материале.
Вся атмосфера барского дома, обрисованная в немногих, не достаточно характерных чертах, основные персонажи и их взаимоотношения воспроизводят обстановку дома Хлебниковых в Астрахани. Образ барина, правда, едва намечен, но в образе барыни безошибочно узнаются портретные черты матера поэта — Екатерины Николаевны Вербицкой, ее характер и ее жизнь:
Разумеется, тут не простое портретное воспроизведение. В этой биографической схеме на фоне типовой судьбы “представительницы” либерально-народнической интеллигенции отобраны и выделены именно те детали, которые в современном контексте приобретали актуальный смысл. Они должны, с одной стороны, подчеркивать контрастное переосмысление всей этой судьбы (как, например, воспоминания о Смольном3![]()
![]()
Все это вполне отвечает характерам и занятиям троих младших детей Екатерины Николаевны (сестра поэта Вера была художницей, брат Александр естественником и изобретателем), и, таким образом, косвенно, в преломлении восприятия матери, в поэме присутствует и сам поэт.
Реальные прототипы были также у бабы и прачки. Зимой 1917–1918 годов у Хлебниковых в прислугах жила крестьянка Прасковья Ивановна, родом из села Черный Яр Астраханской губернии, худая, сгорбленная, темноглазая старуха. С Екатериной Николаевной она была в постоянной домашней вражде, вплоть до того, что готовила еду только для “барина”, Владимира Алексеевича. Эти напряженные отношения довольно точно отражены в поэме, так же как и внешний облик Прасковьи Ивановны:
В образе прачки, в свою очередь, отражены черты жены дворника Анны, да и сам дворник упомянут в поэме.5![]()
Подобные бытовые подробности, конечно, еще очень мало говорят о смысле соответствующих образов. Но нам здесь важно отметить общую ориентацию первого плана поэмы на непосредственный жизненный материал, причем не просто на конкретную действительность, а на лично переживаемую, неотделимую от поэта реальность. В черновых набросках поэмы она была еще более откровенна: барин прямо назван Владимиром Алексеевичем, прислуга — Ивановной и Пр. (прислуга или Прасковья?), упомянут Шура (Александр).
Столь же определенно первый план локализован и во времени. Точную дату указывало название поэмы «Ночь перед Рождеством». Именно в ночь на 25 декабря 1917 года в Астрахани ожидалось выступление Совета рабочих и солдатских депутатов. Однако советская власть была установлена лишь месяц спустя, 25 января 1918 года, в результате ожесточенных боев, которые начались в ночь на 13 января вооруженным выступлением казаков.6![]()
![]()
В известном смысле второй план вообще можно было бы назвать рождественским или, вернее, антирождественским рассказом. Он построен на вторичном, художественно обработанном материале и весь как бы светится каким-то отраженным светом. Двойственное его восприятие как чего-то смутно знакомого и вместе с тем незнакомого, преображенного, очень сильное и устойчивое даже при самом поверхностном чтении, так же, очевидно, задано, как и двойственное восприятие старухи-рассказчицы. Все здесь как будто снова, но другое.
В качестве основного исходного текста для второго плана взят редко сейчас вспоминаемый, но в свое время очень популярный рассказ В.Г. Короленко «В облачный день».8![]()
Несмотря на всю близость сюжетного ядра второго плана поэмы к рассказу Короленко (издевательство помещика, кормление грудью щенка, месть крепостного и его гибель), система образов, характер мотивировок, построение конфликта — то есть сюжетная логика в целом — у Хлебникова принципиально иные. Вместе с тем зависимость поэмы от рассказа «В облачный день» ничуть не скрыта и, напротив, всячески выпячена и настолько откровенна, что у нас не может быть сомнений в том, что тут не какое-то обычное литературное заимствование и тем более не какие-то случайные реминисценции, а вполне сознательный поэтический прием, рассчитанный на узнавание и предрешающий определенный эффект. Читая поэму, мы неизбежно вспоминаем рассказ, и в нашем восприятии сквозь историю Собакевны просвечивает история помещика Панкратова, а сквозь сознание барыни угадывается Короленко.
Хлебникову, несомненно, важен был не просто факт,9![]()
![]()
В той же перспективе стоит и еще один литературный источник второго плана, непременно вспоминаемый при чтении поэмы. Это «Псовая охота» Н.А. Некрасова. На нее указывают некоторые подробности описания барской охоты, самого барина, крестьян и, что всего любопытнее, совершенно “некрасовские” строки, встречающиеся в свободном стихе поэмы:
Или:
Подобные явные и даже несколько утрированные ритмо-интонационные цитаты со всей наглядностью раскрывают конструктивно-стилистический принцип второго плана, задающий двойное восприятие. Сюжет строится не только на последовательной связи тех или иных мотивов, но и на их одновременном развертывании в глубину. Здесь сам по себе мотив или образ как таковой нужен вместе со своим происхождением, со своей родословной, своего рода литературной этимологией.
С другой стороны, второй план поэмы связывается и с живописной традицией. Его общий зрительный образ и некоторые черты портрета Собакевны (в частности — прекрасно нагое плечо) напоминают о картине Н.А. Касаткина «Крепостная актриса в опале, сосланная на конюшню кормить своей грудью брошенных щенят. (Талант и цепи рабства)».11![]()
В этом изменчивом, колеблющемся, призрачном видение “картина” перед нами все время “та же”, но с каждым новым эпитетом неуловимо “другая”; слово как будто переливает, перестраивает, перетолковывает знакомые, отдаленные, смутно вспоминаемые живописные впечатления.
Вместе с тем через «Крепостную актрису» Касаткина в область притяжения второго плана вовлекается и рассказ Н.С. Лескова «Тупейный художник». В образе Собакевны ним ассоциируются мотив артистизма крестьянки (А певунья какая!.. Заведет, запоет и с ума всех сведет) и мотив пьянства (Все уплыло и прошло! И вырвет седеющий клок. И стала тянуть стаканами водку...). В особенности же их связывает своего рода настроенность на известную тональность, какую дает у Лескова уже сам подзаголовок: «Рассказ на могиле. (Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)».
Таким образом, можно понять, что дело тут не столько в тех или иных отдельных интонациях, образах, сюжетных мотивах и положениях, сколько в той принципиальной множественности ассоциаций вокруг основного сюжетного ядра, которая как раз и свидетельствует об ориентации второго плана не на факт, не на материал, а на определенную и хорошо знакомую художественно-идеологическую традицию.12![]()
Об актуальности всего этого смыслового комплекса в годы революции и гражданской войны можно судить по агитлубку В.В. Маяковского «Сказка о дезертире», предназначенному для самого широкого распространения. В нем, разумеется, в иной функции и совсем в иной тональности использованы те же известные мотивы Короленко и Некрасова:
Стихотворение это было написано за год до поэмы Хлебникова и вышло отдельной книжкой в июле 1921 года под названием «Рассказ о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника» (с рисунками автора, среди которых есть и сцена кормления грудью щенка). И, по всей вероятности, именно от агитлубка Маяковского разворачивались в глубину многосложные ассоциации второго плана «Ночи перед Советами», причем если у Маяковского второй план сюжетно мотивирован просто сном Силеверста, то у Хлебникова такая мотивировка не однозначна.
Что же получается? Два плана поэмы противостоят друг другу не только как революционное настоящее и крепостническое прошлое, не только как объективная реальность и субъективное сознание, но они столь же явственно противопоставлены и по характеру самого материала. Тут и до всякого анализа сразу же бросается в глаза то, что если материал первого плана нам незнаком, то материал второго плана мы с той или иной степенью полноты и ясности уже как-то знаем. Другими словами, происходящее на первом плане мы как будто видим впервые, тогда как происходящее на втором плане мы как будто вспоминаем и “снова” переживаем. Но это-то как раз и удивительно. Ведь естественней было бы, чтобы объективная реальность нам была более внятна, чем субъективная фантастика происходящего в голове барыни. Здесь же оказывается, что второй план, являющийся переработкой целого ряда известных художественных образов от Бестужева-Марлинского, через Некрасова, Лескова, Короленко и Касаткина, до Маяковского, нам более понятен и, во всяком случае, не менее объективен, чем первый план.
А значит, первый план поэмы противопоставлен второму как прямая, первичная, непосредственно данная реальность — реальности опосредованной, осмысленной и закрепленной вековой литературной традицией. Это, разумеется, не следует понимать категорически. Речь идет только о соотношении планов, и, конечно, первый план не исключает литературных, художественных и вообще вторичных ассоциаций, точно так же как второй план отнюдь не исчерпывается указанным материалом. Живые личные впечатления и образы собственного воображения поэта для второго плана не менее существенны, чем ориентация на известные темы, мотивы, интонации. Субъективное и объективное, прошлое и настоящее, свое и чужое равно присутствуют в обоих планах поэмы. Само собой разумеется, что перед нами целостное поэтическое произведение, в котором противопоставленность планов относительна, она — внутри художественного единства. Однако как раз для понимания этого единства и необходимо отчетливое различение его сторон, каждая из которых имеет собственный смысловой строй. Оба плана поэмы рисуют нам художественный образ действительности, но только в первом плане перед нами образ наличной, чувственно данной действительности, а во втором — образ действительности вспоминаемой, представляемой, воображаемой, вообще — мыслимой.
Если бы второй план был лишь прямым рассказом бабы, то соотношение планов не выходило бы за пределы внешней реальности, где прошлое связано с настоящим как причина и следствие, и первый план в таком случае был бы отражением второго. Если бы второй план был всего лишь изображением личного сознания барыни, то соотношение планов не выходило бы за пределы настоящего, где действие развертывается параллельно в реальности и в сознании, и второй план тогда, напротив, был бы отражением первого. Здесь же два плана не последовательны и не параллельны. Они пересекаются и совпадают друг с другом таким образом, что рассказ бабы о прошлом — это и есть изображение сознания барыни в настоящем, а сознание ее — это не просто ее индивидуальное сознание, а вполне внеличное общественное сознание в его высшем выражении, то есть в художественных образах. Поэтому два плана поэмы не отражают друг друга, но совпадают и совмещаются как внешнее и внутреннее одного какого-то целого.
Однако их отношения не статичны. В качестве картины личного сознания второй план раскрывает внутреннее содержание первого плана, в то время как первый план раскрывает содержание второго плана, взятого уже в качестве изображения внеличного сознания. Первый план как будто переворачивается и выворачивается наизнанку вторым планом, а второй — первым, образуя подвижное сюжетно-смысловое целое, обе стороны которого едины как некоторая несомненная художественная реальность и вместе с тем противопоставлены как стороны реальности разнородные.
Следовательно, связь двух планов поэмы можно толковать с точки зрения соотношения действительного и мнимого, и не вообще действительного и какого-то воображаемого, а именно в том определенном смысле, в каком это соотношение рассматривается в математике, трактующей действительное и мнимое как две стороны одной и той же реальности.
П.А. Флоренский разъяснял это следующим образом:
Как раз таково, как мы видели, соотношение планов в поэме Хлебникова. Правда, с той существенной разницей, что тут перед нами не просто зрительные представления, а внутренние представления, данные в поэтическом слове, что, конечно, значительно усложняет дело. Но принципиально положение от этого не меняется. Если первый план поэмы мы непосредственно “видим”, то второй опосредованно “знаем” и переживаем его именно как “образ воспоминания”. И если в первом плане действительность дана прямо, сама через себя, то во втором плане та же самая действительность дана косвенно, посредством “иного”, в данном случае посредством “чужих” художественных образов. (Отсюда тяжеловесная, перенасыщенная “натуральность” первого плана и призрачная фантасмагоричность второго.) Вот это двуединство художественной реальности поэмы, где все снова, но другое, и есть основной принцип ее сюжетного построения.
Хлебников не был знаком с этой работой Флоренского, вышедшей после смерти поэта. Хотя не исключено, что какие-то проблемы теории мнимостей и ее применения к искусству он обсуждал с Флоренским во время их встречи в феврале 1916 года (единственной, насколько нам известно). Однако в любом случае речь идет о поразительном совпадении их мыслей, развивавшихся независимо, одновременно и очень схожими путями. Об этих проблемах Хлебников много размышлял еще будучи студентом физико-математического факультета Казанского университета в 1903–1904 годах. А в 1908 году в своем первом литературном манифесте «Курган Святогора» он уже прямо говорил о поэзии как познании от “древа мнимых чисел”, утверждая такое познание в качестве главной задачи новой эстетики. И все его творчество являло собой как раз то направление в искусстве, которое Флоренский называл „художеством, насыщенным математической мыслию” и которому, как он думал, „в общем синтетическом складе грядущей культуры предстоит еще богатая жатва”.15![]()
В этом отношении Хлебников как поэт был гораздо решительней и шел гораздо дальше, но нередко оказывался труднодоступным. Поэтому для уяснения некоторых его поэтических построений, вроде тех, что мы находим в «Ночи перед Советами», мы необходимо обращаемся к работе Флоренского за более последовательным и строгим научным обоснованием.
Тут нужно иметь в виду, что «Ночь перед Советами», как, впрочем, и многие другие его произведения, с самого начала была задумана “математически”. Наиболее ранняя, из сохранившихся, запись, свидетельствующая о замысле поэмы, относится к лету 1920 года: Барыня, вы уже умерли? — насмешливо спрашивает прислуга. И в той же записной книжке, и буквально на той же странице, находятся следующие заметки:
Все эти заметки, несомненно, имеют отношение к замыслу поэмы. Из них явствует, что Хлебникова прежде всего занимал вопрос о переходе от действительного к мнимому, от “возможного” к “невозможному”, и об образно-пластическом выражении этого перехода.
Это и в самом деле, как мы видели, ключевой момент сюжетного замысла поэмы. Как происходит такой переход, такое переворачивание, и каким образом то же самое оказывается перед нами снова, но другое? Очевидно, что такое превращение нельзя представить так, как мы переворачиваем страницу книги. Ведь тогда мы должны были бы выйти за пределы художественного мира поэмы, как, листая книгу, мы выходим за пределы страницы. Здесь же, оставаясь в пределах поэмы, мы оказываемся на ее оборотной стороне путем непрерывного, но не прямого перехода.
Нечто подобное, по мысли Флоренского, происходит в «Божественной комедии». Вергилий и Данте из Италии спускаются вниз по сужающимся кругам Ада, и там, где-то у чресел Люцифера, в самом центре вселенной, Вергилий вдруг переворачивается головой туда, „где прежде были ноги”, и начинает подниматься вверх, так что Данте в испуге даже думает, что они возвращаются в Ад. Но они выходят на противоположную сторону Земли, восходят на гору Чистилища и возносятся на небо. А оттуда, из Эмпирея, без всякого возвращения назад, Данте снова оказывается во Флоренции. „Путешествие его было действительностью, — замечает Флоренский, — но если бы кто стал отрицать последнее, то во всяком случае оно должно быть признано поэтической действительностью, т.е. представимым и мыслимым, — значит, содержащим в себе данные для уяснения его геометрических предпосылок”.16![]()
И что же? С точки зрения теории относительности все это вполне представимо и мыслимо, но — при скоростях больших скорости света.
В таких условиях, когда длина и масса тела делаются мнимыми, время должно протекать в обратном направлении. Но не просто в порядке внешней перестановки причины и следствия, а таким образом, что причина, выворачиваясь в глубь себя самой, сама становится следствием и превращается в цель, в идеал. Вот этот переход от “возможного” к “невозможному” мы и переживаем в «Ночи перед Советами».
В отличие от «Божественной комедии» здесь нет никакого путешествия, никакого пространственного перемещения. Мы оказываемся в чистом времени, и переход от действительного к мнимому и обратно совершается через “голову” барыни. И наше восприятие, следуя за мыслью поэта, как Данте за Вергилием, совершает этот головокружительный путь чисто смысловым образом. Все образы первого плана как бы проваливаются сами в себя и выворачиваются наизнанку в образах второго плана. Они совершенно совпадают, но они инородны, как образы действительного и мнимого мира. Поэтому два плана поэмы можно понять как две части уравнения или как задачу и ее решение. И мы в четвертой части поэмы возвращаемся к исходной точке с решением этой задачи, полученным в результате нравственно-смыслового переворачивания, просветления и очищения.
Отсюда и возникает образ прачки, завершающий поэму. В нем самым наглядным образом олицетворяется это переворачивание, выворачивание наизнанку и очищение:
Но это именно только самый момент переворачивания, когда еще невозможно отделить грязь от чистоты, тьму от света, исподнее и преисподнее от небесного и божественного; здесь то же самое и другое — вместе.
Таковы некоторые необходимые предпосылки к анализу художественной концепции поэмы. Художественная концепция поэмы и прежде всего метод ее построения нагляднее всего выступает из сопоставления с рассказом Короленко «В облачный день». В нем мы находим тот же, что и в поэме, основной сюжетный прием сопоставления двух планов, именно прошлого и настоящего. Прошлое включено в настоящее прямо и недвусмысленно как рассказ ямщика. Но этот традиционный прием рассказа в рассказе осложнен у Короленко тремя обстоятельствами. Во-первых, история помещика Панкратова в рассказе ямщика дана не единым монологическим массивом, как, скажем, история барона Бруно фон Эйзена у Марлинского или история крепостной актрисы у Лескова, а развернута постепенно в условиях диалога ямщика с его слушателями, большей частью с романтической барышней Леночкой Липоватовой. И таким образом история помещика Панкратова раскрывается перед нами как бы в двойном свете, одновременно с точки зрения ямщика и с точки зрения слушателей. Во-вторых, сама эта история предстает в двух различных версиях. Слушая рассказ ямщика, барышня сопоставляет его с рассказами о том же помещике Панкратове своей старой няни, которая в противоположность мрачно и непримиримо настроенному Кривоносому Силуяну „клала на все самые мягкие краски, выделяя лишь светлые образы дорогого ее крепостническому сердцу прошлого”. Поэтому восприятие барышни оказывается внутренне диалогичным. И наконец, третьим осложняющим обстоятельством являются картины предгрозового состояния природы, сопровождающие и перемежающие рассказ ямщика и размышления барышни.
История помещика Панкратова — второй план рассказа Короленко, развернутый как своего рода контрапункт, — становится особой смысловой плоскостью, на которую проецируются состояния природы, настроения рассказчика и переживания слушателей. В ней мы видим преломленное отражение всех этих трех состояний. Второй план рассказа раскрывает то, что скрыто присутствует в первом плане, и в этом смысле оказывается его объективацией. Причем самую важную ролы тут играют образы природы. Картины предгрозового томления, “ожидание”, “напряжение”, “тяжелая борьба”, “смутные раздражающие грезы”, не находящие исхода в грозе и буре, — все это в целом вырастает в обобщающий образ социально-психологической действительности России девяностых годов. И с такой точки зрения преломленное в истории помещика Панкратова сопоставление сознания рассказчика и сознания слушательницы, конечно, также надо понимать не просто как сопоставление индивидуальных сознаний ямщика и роман типической барышни, но как столкновение двух принципиально различных и несовместимых типов сознания: народного и либерально-интеллигентного.
В этом и заключен основной смысл рассказа. Несовместимость этих сознаний — это несовместимость мифологии и психологии. В рефлективном интеллигентном восприятии, с его принципом „понять — значит простить”, история помещика Панкратова и в первую очередь он сам оказывается главным образом проблемой чувства и внутреннего переживания: „Она прощала ему человеконенавистническое выражение этих глаз. У него было нежное сердце, оскорбленное людьми, — говорила она, — и он много страдал”. Ее сложным, запутанным и в конечном счете безысходным психологическим рефлексам противостоит простое, цельное, непосредственное жизненное восприятие, не расчленяющее действий и чувств. „Он очень любил животных”, — говорит барышня, а ямщик отвечает: „Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей тиранил”.
В образе Силуяна, „ничтожного мужичонки” с „выразительным, сильным, могучим голосом”, перед нами не что иное, как именно народно-мифологическое сознание со всеми его специфическими чертами:
Такова, например, его песня об Аракчееве, в которой слышатся „не удаль и не тоска, а что-то неопределенное, точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом...”. Таков же, конечно, и его рассказ о помещике Панкратове. В этих “былинах” важны не сами по себе факты и лица, не их историческая достоверность, а их общий и даже всеобщий смысл, потому что здесь мы находим самую настоящую живую мифологию, в данном случае — народные мифы о крепостном праве. Неудивительно, что одни и те же факты и лица, будь то Аракчеев или Панкратов, в сознании ямщика и в сознании проезжающих господ получают совершенно различную смысловую перспективу.
Точно так же раздельны здесь природа и история. Природа в рассказе, как и всегда у Короленко, не субстанциальна; она дана лишь в восприятии человека как фактор и как проекция его душевных состояний. Образы ее предгрозового томления, становясь изображением социально-психологической действительности, несомненно, вплотную приближаются к мифопоэтической символике, но все же никак не выходят за пределы психологического параллелизма. Мир природы так же отделен от мира человека и его истории, как народное сознание отделено от интеллигентного. Между ними есть связи, взаимодействия, но граница между ними непреодолима; это независимые, существующие параллельно миры. Их раздельная замкнутость реализуется сопоставлением двух планов рассказа — историческое настоящее и “былинное” прошлое, психологическое “понимание” и мифологическое “знание”.
Потому-то рассказ Короленко и производит впечатление какого-то неразрешенного диссонанса. Однако, надо думать, в этом как раз и состоял его художественный замысел. Конфликт исчерпывался поэтическим осознанием раздельности и несовместимости в генерализующем образе природы, томительно и напрасно ждущей всеразрешающей грозы и бури.
Ничего иного, впрочем, и нельзя себе представить, оставаясь на конкретной исторической почве, ибо никаких других возможностей разрешения конфликта не давала ни реальная русская действительность девяностых годов, ни художественный метод писателя. Это вершина и предел его “поэтического реализма”, по определению Луначарского.
Все это надо иметь в виду для понимания поэмы Хлебникова. Рассказ Короленко не только дал основной мотив второго плана поэмы, но вообще стал отправной точкой для всей поэмы в целом. Это важнейшая особенность художественного метода Хлебникова. Едва ли не за каждым его произведением встают совершенно наглядно или только угадываются и предполагаются подобные исходные тексты. Дело тут не в индивидуальной литературной технике, а как раз наоборот — в самых общих принципах мифопоэтической эстетики. В этом отношении метод Хлебникова сопоставим с фольклорно-мифологическим творчеством. Он ближе мифологическому реализму Кривоносого Силуяна (или его прототипа — ямщика Василия Косого, со слов которого записан рассказ), чем к поэтическому реализму самого Короленко.
С мифопоэтической точки зрения рассказ «В облачный день» и поэма «Ночь перед Советами» представляют собой как бы последовательные стадии естественного развития одного и того же мифа, на что, по-видимому, указывают и их названия, и то обстоятельство, что рассказ заканчивается, а поэма начинается — ночью.
Простейшую же опору для установления прямой связи между ними мы видим прежде всего в образе барыни, которая и субъективно, с точки зрения ее самосознания, и объективно, с точки зрения художественной логики поэмы, отождествляется с романтической барышней рассказа Королей ко. Даже наивно-натуралистически вполне можно представить, что в поэме перед нами та же самая Леночка Липоватова, ставшая уже старухой, в рождественскую ночь 1917 года снова вспоминает или видит во сне тот мрачный рассказ ямщика, который „довел ее чуть не до кошмара” в один облачный день лета 1892 года. Более естественно это можно понять и так, что барыня просто-напросто вспоминает читанный ею когда-то рассказ Короленко и заново переживает его в сходной обстановке томительного ожидания. Но и то и другое правдоподобное объяснение совершенно излишне ввиду очевидного конструктивно-смыслового тождества барышни и барыни.
В свою очередь и старуха-рассказчица в поэме соотнесена с рассказом Короленко. И здесь особенно интересно то, что два рассказчика истории помещика Панкратова — старая нянька и ямщик — соединены в поэме в образе одной старухи. В результате в истории Собакевны совмещаются обе противоположные точки зрения на прошлое — умиление няньки и непримиримость ямщика. С одной стороны:
А с другой:
Однако в контексте второго плана такая эпическая позиция рассказчицы представляется естественной и даже необходимой. Да и все вообще перестройки материала, взятого из рассказа, как можно видеть на примере основного сюжетного мотива и как мы видим здесь, направлены в поэме к эпической интеграции и депсихологизации.
Лучше всего отличие метода Хлебникова от Короленко видно на примере образа природы, играющего в поэме не менее значительную роль, хотя никаких сколько-нибудь развернутых прямых ее изображений мы тут не находим. Но как раз сопоставление с рассказом вскрывает этот как будто почти отсутствующий в поэме образ. Возьмем V часть поэмы с образом прачки:
Сравним с текстом рассказа в журнальной редакции:
Это явление “облачного богатыря” в первой редакции рассказа было вполне оправданно и представляло собой кульминацию темы природы, подготовленную всем предыдущим ее одушевлением. Однако во второй редакции 1903 года именно это место Короленко исключил из текста. Вероятно, образ “облачного богатыря”, перекликавшийся со «Страшной местью» Гоголя, казался ему слишком условным и романтическим на фоне сдержанного психологического параллелизма.19![]()
В его сумрачной прачке, в противоположность “облачному богатырю”, нет ничего условного, сказочного и фантастического. Этот тяжеловесный, сниженный, “натуральный” образ целиком принадлежит земле, а не небу, действительности, а не воображению. Тут не уподобление, не одушевление, не метафора, а самая непосредственная реальность. И вместе с тем в образе прачки нельзя не видеть прямой связи с образом природы в рассказе, связи не только генетической, но концептуально-смысловой.
Природа в первом плане поэмы — это прежде всего сумрачная ночь, тьма. Но не просто ночь, а мировая ночь, и не просто тьма, а тьма Господняя, тьма тьмущая. И этой безначальной и бесконечной тьмой природы охвачена вся поэма. Сумрачная ночь становится здесь образом символическим, то есть таким образом, в котором самая непосредственная чувственно ощутимая и наглядная данность неотделима и неотличима от самого широкого и отвлеченного смысла. С первой же строки поэмы — Сумрак серый, сумрак серый — конкретное явление и его смысл предстают нам в полном и неразличимом единстве. О чем говорит этот образ? О том ли, что комната плохо освещена, или о том, что дело происходит ночью, или о душевном состоянии персонажей — барыни, прислуги, прачки? Или же он рисует нам обстановку в городе, ждущем революционных событий, или даже всю «Россию во мгле»? Или, может быть, он вообще говорит нам о сумерках старого мира? И так далее. Очевидно, что обо всем этом (и еще о многом другом) говорит образ сумрака, причем говорит о каждом из возможных значений в отдельности и обо всех вместе. Отделить первичное значение образа от вторичного, прямое от переносного здесь просто невозможно. В рассказе же первичное значение картин предгрозового состояния природы и их переносное значение различаются без труда.
С этой ночью, тьмой, сумраком так или иначе связаны все образы поэмы, но наиболее тесно связан с ночью образ прачки. Кажется, что прачка является каким-то особенно сильным сгущением тьмы — тьмы в прямом и переносном смысле. Точно так же как “облачный богатырь” становится предельным выражением одушевленной облачности рассказа, “сумрачная прачка” в поэме предстает воплощенной тьмой, сумраком, ставшим действующим лицом поэмы.20![]()
Тут со всей отчетливостью видна грань, разделяющая два художественных метода. Если в рассказе Короленко “облачный богатырь” даже в качестве уподобления или метафоры в конце концов оказывался излишне “очеловеченным”, то в поэме никак нельзя решить, сумрак ли является в образе прачки или прачка — в образе сумрака. Природа в облике “сумрачной прачки” становится действующим лицом поэмы, а прачка, стирающая белье, оказывается явлением природы. В этом образе человек, можно сказать, настолько же оприроднен, насколько природа — очеловечена.
Вместе с тем тут не менее отчетливо видна и общая для Хлебникова и Короленко тенденция к органическому стилю, отвергающему литературно-романтическую условность. Уходя в противоположные стороны от условности, оба они в результате сходились на общей почве реализма.
Таким образом, в своих существенных и наиболее актуальных моментах рассказ Короленко включен в художественную концепцию поэмы. Однако у Хлебникова, как в “былинах” Кривоносого Силуяна, все снова, но другое. Все исходные моменты перестроены и переосмыслены так, что поэма в одно и то же время оказывается возвращением вспять, от литературы — к устной словесности, и движением вперед, к новой мифологической поэзии. Рассказ «В облачный день» взят не как неподвижный, окаменевший текст, не как литературная данность, но как живая осмысленная действительность, способная к изменениям, превращениям, росту, развитию. Превращаясь и изменяясь, она продолжает существовать в поэме Хлебникова, как она прежде существовала в рассказе ямщика Василия Косого, от которого была услышана писателем Короленко.21![]()
История помещика Панкратова, как и песня об Аракчееве, связана с первым планом рассказа, по существу, лишь одной, нравственно-психологической, стороной: издевательство помещика над крестьянами. Сам же мотив кормления грудью щенка совсем не является единственно необходимым. Второй план рассказа нужен как арена столкновения народного и либерально-интеллигентного сознаний, как повод для выявления конфликта. Факты же, из-за которых происходит столкновение, могли бы быть и другими, лишь бы они достаточно сильно задевали сознание. Действующие лица этой истории только внешне и косвенно связаны с рассказчиком и его слушателями.
В истории Собакевны, напротив, именно мотив кормления грудью щенка становится необходимым сюжетным ядром, и никакие другие факты здесь вообще немыслимы. Недаром в рассказе самых сцен кормления нет, тогда как в поэме они получают главное и прямо-таки подавляющее значение. Описание этих жутких сцен, многократно повторенное, длящееся, кажется, до бесконечности, достигает какого-то экстатического пафоса. Кажется, время исчезло и во всем мире есть только эта нескончаемая непроглядная ночь, мать, собачье дитя и дитя человечье в их трагическом единстве. От этих сцен веет древним ужасом и блаженством языческих мистерий или христианских страстей. В них нет, конечно, никакого натурализма и психологизма, ибо все это чистейшая мифопоэтическая символика. Здесь образное и идейное ядро поэмы, и совершенно ясно, что без него представить поэму невозможно.
Далее, действующие лица второго плана поэмы не то что соответствуют внутренне, но просто никак не отделимы от персонажей первого плана. Ведь даже если понимать их отношения самым простым и наивным образом, весь второй план помещается в “голове” барыни, он весь, включая и рассказ Короленко, находится внутри первого плана. Баба и барыня первого плана вновь встречаются во втором плане, как бы выходя из действительного пространства и времени в мир воображаемый, фантастический, мнимый. И эта свободная мыслительная сфера второго плана, оставаясь “внутри”, в то же время оказывается глубже и шире первого плана и как бы охватывает и включает его в себя.
Два плана рассказа Короленко необратимы. В поэме же вся художественная концепция построена на том, что первый план выворачивается вторым планом, а второй — первым. Реальное столкновение бабы и барыни в настоящем порождено принципиальной конфликтностью их сознаний, уходящих корнями в глубокое прошлое. Перед нами, так сказать, сознание действительности и действительность сознания. И два плана поэмы, оборачиваясь, взаимоосмысляют и взаимореализуют друг друга. От индивидуального исторического конфликтного события первого плана мы приходим к его осмыслению во втором плане и, возвращаясь опять к первому плану, находим в нем не случайную и частную, а вполне закономерную реализацию в индивидуальном столкновении общей конфликтности действительности.
Большая часть первого плана поэмы представляет развернутое противопоставление бабы и барыни. Их оппозиция взята вне всяких отвлекающих обстоятельств, с полной обнаженностью и окончательностью. Перед нами прежде всего две старухи: Обе седые, в лохматых седых волосах. За каждой из них целая жизнь, у каждой из них своя судьба, и их столкновение сейчас, на пределе жизни, — это столкновение всей необратимой тяжести прошлого. Их характеристики подчеркнуто параллельны:
Столкновение бабы и барыни настолько же их друг с другом разделяет, насколько и связывает, можно сказать, что баба и барыня противопоставлены нерасторжимо. Скотный двор и Смольный институт благородных девиц, хлеб и книга, деревня и столица противопоставлены и едины как две стороны одного и того же мира, одной и той же истории. Баба и барыня — это два лика древней, тысячелетней России на пороге 1918 года.
Баба является барыне как воплощенное возмездие. Причем сама формула видение зловещее прямо отсылает нас к “маленьким трагедиям” Пушкина, в частности к „виденью гробовому” из «Моцарта и Сальери». Но не только к нему, а вообще ко всем могильным образам этих драм с венчающим их образом Каменного Гостя, и не только к этим отдельным образам и символам, а ко всей в целом мифопоэтической концепции вины и возмездия пушкинских “драматических опытов”.22![]()
Угрозы бабы: Барыня, а барыня!.. Вас завтра повесят!.. Повисишь ты, белая, безусловно, не имеют натуралистического смысла ни с точки зрения бабы, ни с точки зрения барыни, ни тем более с общей точки зрения. Смысл их чисто символический, но как раз это и придает иррациональным, “безумным” угрозам еще более жуткий оттенок. Речь идет не о личной вине и не о личном возмездии.
В то же время и барыня предстоит бабе как судьба; с ней нерасторжимо связано все ее прошлое и настоящее, в ней для бабы воплощена вся тысячелетняя вина господ.
В этих старухах перед нами последние звенья вековой цепи господ и рабов, вины и возмездия. Это два лика старого мира или даже, лучше сказать, две гримасы одного лика:
Но эти слезы и хохот, страданье и торжество, тоска и радость — лишь модификации общего чувства обреченности, доходящего прямо до восторга и упоения:
Ссылка на знаменитый пушкинский гимн в честь Чумы здесь не менее откровенна:
Но упоение и восторг у „бездны мрачной на краю” здесь взяты не в том индивидуальном, героическом и волевом аспекте, в каком обычно трактуется этот гимн, а в более широком и, так сказать, архаическом аспекте трагизма: стихийно-экстатическом, выдвигающем на первый план внеличные моменты. Обе старухи в равной мере обречены: смерть одной из них означает смерть и другой; они противостоят друг другу, как две могилы, как две бездны прошлого. Будущего для них нет, в равной мере ими движет “воля к смерти”. Их взаимная “радость” и даже нега — это „залог бессмертья”, предчувствие освобождения в слиянии со стихией. Прошлое рабов и прошлое господ должно умереть, чтобы навсегда прервалась изначальная цепь вражды, чтобы могло стать совершенно новое будущее. В целом же эта смертельная вражда двух старух — странный, но не лишенный своеобразного величия образ — вырастает в трагический символ старого мира. Только в таком смысле и можно понять прямое авторское обращение:
Характеристика эта формально отнесена к бабе, но в контексте первого плана ее вполне можно отнести и к барыне. Ввиду едино-раздельности этих образов каждый из них бросает отсвет на другой. Их единство и противоположность, взаимно усиливая друг друга, достигают величайшего напряжения. Апелляция к Времени (которую ни в коем случае не следует понимать лишь формально-риторически) открывает бесконечную глубину ретроспективы, отодвигая конфликт не просто даже в тысячелетнее прошлое, а прямо-таки в какую-то тьму времени, прямо в изначальную бездну. Или, вернее, наоборот, эта тьма вплотную придвинута к настоящему, так что вместо живого настоящего предстает разверстая бездна прошлого:
Нет никакого сомнения, что это нечто неназываемое, неотвратимо надвинувшееся, как бы материализованное в воздухе, данное в смутном ощущении барыни как некто, кто-то, — это само Время. Сравним, например, конец XVIII плоскости «Зангези»:
Время в первом плане поэмы взято в качестве какой-то непосредственно ощутимой, видимой и слышимой, почти телесно осязаемой субстанции. Оно видимо как сумрак, ночь, тьма природы, в которую погружена поэма. Оно слышимо —
Но если плоть времени становится ощутимой, то его метрика, его членение, его движение — совершенно неразличимы. Перед нами какое-то парадоксальное неподвижное время, белый круг времени. Часы показывают время, но не показывают часа. Как это понять? По-видимому так, что перед нами переломный момент, мертвая точка времени. Или, если воспользоваться известным шекспировским образом, тот момент, когда „время вывихивает сустав”. Навязчивый безумный рефрен:
Непосредственное переживание времени в его напряженной неподвижности, в его мертвой точке катастрофического поворота от прошлого к будущему активизирует мифологические представления, связанные с концом старого и началом нового года, когда силы зла и добра, старого и нового, жизни и смерти вступают в окончательную борьбу. Такова семантика названия поэмы: это тьма перед светом, это смерть перед рождением, это конец старого мира перед началом нового. Но если вообще настоящее одновременно разделяет и связывает прошлое с будущим, то здесь настоящее взято только со стороны разделенья, только под знаком отрицания. Никакого будущего, ничего нового мы еще не видим в этом сумраке времени. Перед нами лишь жуткое противостояние двух старух, связанных древней враждой подобно мертвецам в «Страшной мести» Гоголя.
И вот тут, наконец, выясняется первостепенная роль третьей старухи. Образ этот очень сложен. Поэтому возьмем его пока лишь в аспекте первого плана поэмы, оставляя в стороне все другие его внутрипоэмные и внепоэмные функции.
В образе прачки перед нами прежде всего вполне реальный образ, точно так же, как образы барыни и бабы, прочно вписанный в быт со всеми его “натуральными” и “случайными” чертами. И точно так же этот образ содержит в себе самые широкие обобщения и самую высокую отвлеченность.
С одной стороны, конечно, прачка стоит в одном ряду с барыней и бабой. Эти три старухи первого плана представляют собой единый образ настоящего, взятого как прошлое, как конец старого мира.23![]()
Казалось бы, образ прачки является простым дублированием (или, в лучшем случае, усилением) образа бабы и ничего существенного не вносит в оппозицию рабов и господ, а следовательно, так понятый, оказывается вовсе ненужным в структуре первого плана поэмы. Однако мы видим, что барыня и баба не только противопоставлены, но и едины, и это единство не менее важно, чем их противопоставленность. В свою очередь прачка так же связана с барыней, как и с бабой. Но если ее связь с бабой очевидна, то связь с барыней лежит глубже непосредственного восприятия. В самом деле, что мы видим в образе прачки? Прачка стирает барское белье. Можно ли этот факт рассматривать только натуралистически? Ведь контекст поэмы и сам характер этого образа указывают на то, что перед нами не какая-то бытовая подробность и не просто метафора, а не что иное, как магически-символическое действо. “Труд старой прачки” развернут в грандиозную картину прямо какой-то космической стирки.24![]()
Ведь если представить разрешение конфликта простым механическим переворачиванием вины и возмездия, то это никак не будет снятием противопоставления, а всего лишь новым конфликтом, продолжающим тысячелетнюю цепь человеческой вражды. Ведь в «Страшной мести» Гоголя Иван-мститель так же обречен, как и весь род Петра-Иуды; точно так же обречен и Регинальд, отомстивший жестокому барону Бруно в «Замке Эйзен» Марлинского. Потому-то прачка и предстает таким всеобщим отрицанием, которое должно прервать эту цепь навсегда.
Как же реализуется в художественной символике поэмы этот парадоксальный отрицательный синтез? Барыня и баба противопоставлены не только концептуально, но и наглядно-чувственно, прежде всего в свето-цветовых отношениях. Барыня — белая, в глазах голубые лучи, глаза голубые; баба — вся темнота крови засохшей цвета, темные глазки, глаза темной жести, лицо ее серо, точно мешок. Это два полюса общей колористической гаммы сумрака. И по структуре и по смыслу они стоят в том же ряду, что скотный двор и Смольный институт, хлеб и книга, деревня и столица. Поэтому и свето-цветовые характеристики бабы и барыни естественно понимать символически как противопоставление тьмы и света, земли и неба, грязи и чистоты. Однако их полярность не абсолютна и не статична. На ее сложный сдвинутый характер указывает то, что строится она как бы по диагонали: не белое — черное, и не светлое — темное, а белое — темное:
И вот вся эта сквозная напряженная полярность в образе прачки переворачивается и выворачивается наизнанку:
Все эти противоположности не просто переворачиваются и меняются местами, а каким-то “невыразимым” и вместе с тем убедительным образом схвачены все вместе в оксюморонном единстве. Чистота оборачивается грязью, а грязь — чистотой, свет становится тьмой, а тьма — светом, небесное и божественное оказывается исподним и преисподним, а исподнее и преисподнее — небесным и божественным. И все это вместе в таком единстве, в таком отрицательном синтезе, что отделить одно от другого в этой сияющей тьме или непроглядном свете можно лишь в порядке аналитической абстракции. Тут в этих катахрезах перед нами нагляднейшим образом предстает тот алогический момент „неслиянности и нераздельности всего” (по замечательной блоковской формуле), который, как в фокусе, собирает всю символическую образность первого плана поэмы.
Если в образах барыни и бабы полярность доведена до максимальной напряженности, то в образе прачки она вывернута наизнанку так, что полюса сталкиваются; энергия противопоставления преобразуется в энергию сближения. Но их отрицательное единство схвачено не в момент завершенной неподвижности, а в самый момент перелома и переворота.
Таким образом, с одной стороны, прачка стоит в одном ряду с барыней и бабой, с другой — в том же аспекте первого плана — она им противопоставлена.
Если образы барыни и бабы предстают нам во всей полноте и завершенности как два лица (или две гримасы одного лица), то в образе прачки как раз резко подчеркнуто, что прачки лицо сумраком скрыто. Лицо прачки неразличимо, но вместо него перед нами — как важнейшая деталь образа — руки: Ходит устало рука ‹...› Добрый грязи струганок — / Кулак моет белье, / Руки трут ‹...› Рубанок белья эти руки ‹...› Руки распухли веревками жил, голубыми, тугими и пухлыми ‹...› К рукам онемелым, / Строгавшим белье, / Ломота приходит — знать, к непогоде. Собственно, кроме рук, мы больше ничего и не видим, руки — весь портрет прачки. Вся напряженная жизнь образа сконцентрирована в этих могучих, грубых, прекрасных и трагических руках, не менее выразительных и красноречивых, чем лица барыни и бабы. Работающие, стирающие, очищающие, преображающие руки противопоставлены ожидающим, переживающим, отражающим лицам как нечто безусловное и безотносительное — условному и относительному.
В этом образе прачки с невидимым, неразличимым сквозь белый сумрак лицом и неустанно работающими руками нельзя не видеть прямой переклички с образом времени — Часы скрипят. Белый исчерченный круг. Но в образе прачки неощутимый перелом и поворот времени дан с еще большей полнотой и пластической монументальностью. Это прямо какой-то памятник неуловимому повороту от прошлого к будущему. Мы видим и осязаем трудную работу времени, хотя лицо его сумраком скрыто.25![]()
За всей этой враждой, отрицанием, переворотом, за этим воплощенным настоящим первого плана поэмы стоит более широкое и более объемное содержание.
Из сопоставления с рассказом Короленко мы уже видели, что образ прачки непосредственно восходит к образу природы. Мы видели также принципиальное различие между психологической трактовкой природы у Короленко и мифопоэтической трактовкой ее у Хлебникова. В образе прачки человек предстает природой, а природа — человеком.26![]()
Тут же как будто уже намечается возможность нового воплощения и формирования, но только еще в виде потенции. Фактически же вся природная символика финала поэмы говорит лишь о надвигающемся уничтожении, о близком конце старого мира, о том “тютчевском” моменте,
Вот теперь, наконец, в этом явлении Природы, как Каменного Гостя или заоблачного Всадника из «Страшной мести», мы получаем специфически хлебниковское завершение художественной символики первого плана. Ограничившись пониманием образа прачки только как вражды, отрицания, переворота, то есть оставаясь в пределах истории, мы никогда не поймем самой основы хлебниковской концепции мирового процесса. Для него всегда в конечном счете неизбежен выход в природу, обращение к ней как последней инстанции: Когда судьбы выходят из бытовых размеров, как часто заключительный знак ставят силы природы! (СП, V, 146). Поэтому образ прачки в финале поэмы не только заключает в себе всю основную историческую и природную символику вины и возмездия, животного и человеческого, тьмы и света, но и открывает в этой символике новое содержание и новую глубину, знаменуя этим (уже чисто концептуальным) переворотом обнажение, очищение, высветление природной сущности, ее выворачивание сквозь оболочку истории. Интегральный образ прачки — “ключ и замок” всей художественной структуры поэмы. И к нему мы должны будем вернуться еще раз после разбора второго плана.
Чтобы до конца уяснить символику первого плана, нужно иметь в виду, что она непосредственно опирается на блоковскую концепцию народа и интеллигенции:
Это было сказано еще в 1908 году; десять лет спустя в книге Блока «Россия и интеллигенция» (первое издание — 1918, второе — 1919) эта антиномия получила еще большую актуальность и драматизм.
Нетрудно увидеть (с учетом необходимых исторических коррективов) в хлебниковских старухах реализацию и персонификацию блоковской антиномии, причем не только концептуально, но и — что особенно интересно — образно.
В образе барыни мы видим то же непонимание и страх; в образе бабы — молчание себе на уме, усмешку, хохот:
И двусмысленное “извинение за свою темноту”:
От блоковских предчувствий конфликт бабы и барыни отличается лишь тем, что это уже не возможность, а факт, не предчувствие, а реальное переживание исторического события.
Старые статьи Блока, собранные в книге «Россия и интеллигенция», издавна знакомые и созвучные Хлебникову (особенно «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура», «Дитя Гоголя»), теперь, надо думать, были прочитаны заново и по-новому в свете революционных событий и в связи с поэмой «Двенадцать», которая произвела на него глубокое впечатление. В образах барыни и бабы, а частично и в образе прачки, да и во всем первом плане в целом мы находим такую близость со всем сложнейшим комплексом тем, мотивов, образов и символов этих статей (а также статьи «Интеллигенция и революция»), что эта связь уже далеко выходит за рамки чисто литературного взаимодействия. Однако было бы ошибкой на этом основании сближать мировоззрение Хлебникова и Блока, ибо дело здесь не в индивидуальных ощущениях, переживаниях и концепциях. Как всегда у Хлебникова, книга «Россия и интеллигенция» взята в этой поэме в качестве объективного выражения определенного исторического сознания. Поэтому блоковская символика “тьмы”, “сна”, “смеха”, “возмездия”, “смерти” и т.д. и т.д. вплоть до генерализующих символов “стихии” и “культуры” лишена специфически блоковского содержания и получает внеличный, обобщенно-эпический смысл. С этой точки зрения совершенно не важно, что таково индивидуальное сознание Блока (или Хлебникова, или кого бы то ни было), здесь важно, что таково катастрофическое сознание эпохи, в каких бы индивидуально-поэтических символах оно ни выражалось. Блок же взят именно потому, что это вне-личное сознание выражено в нем с наибольшей силой и прямотой: „‹...› хотим мы или не хотим, помним или забываем, — во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва”, происходящее оттого, что по всему миру прошла “трещина” — „между человеком и природой, между отдельными людьми и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля” (СС, V, 351). Блоковская мифопоэтическая символика давала Хлебникову необходимый активный контекст для разработки конфликта первого плана поэмы. Так же как рассказ Короленко взят в качестве основного исходного текста для второго плана, для первого плана взята блоковская концепция, которая здесь также перестроена, переосмыслена, обобщена и доведена до максимального напряжения. Блоковская трактовка антиномии народа (России) и интеллигенции имела подчеркнутый мифопоэтический, „музыкальный” (по терминологии Блока) характер. „Россия здесь, — писал он в предисловии ко второму изданию книги, — не государство, не национальное целое, не отечество, а некое соединение, постоянно меняющее свой внешний образ, текучее (как гераклитовский мир) и, однако, не изменяющееся в чем-то основном. Наиболее близко определяют это понятие слова: “народ”, “народная душа”, “стихия” ‹...› Точно так же и слово “интеллигенция” берется не в социологическом его значении; это — не класс, не политическая сила, не “внесословная группа”, а опять-таки особого рода соединение, которое, однако, существует в действительности и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с “народом”, со “стихией”, именно — в отношения борьбы” (СС, V, 453). Такова же по своему характеру и хлебниковская концепция, но при всей общности с Блоком нельзя не видеть ее весьма существенного отличия. Если в трактовке второго члена антиномии (интеллигенция) они совпадают, то первый член антиномии трактован в поэме гораздо сложнее. Во-первых, он представлен двумя образами: баба и прачка, которые не только едины, но и противоположны, то есть в них отчетливо дифференцированы понятия “народа” и “стихии”. Во-вторых, баба и барыня не только противопоставлены, но и едины, то есть понятие “России” (старый мир) раскрыто в его связи и с “народом”, и с “интеллигенцией”. В-третьих, наконец, баба и барыня как символы истории (не совпадающей с блоковским понятием “культуры”) противопоставлены прачке как символу природы (в значительной мере совпадающей с блоковским понятием “стихии”), и вместе с тем все три старухи едины как символ времени, настоящего. Хлебниковская генерализующая антиномия природы и истории шире и глубже блоковской антиномии стихии и культуры. Но суть дела даже не в этом, основное отличие их в том, что блоковская концепция принципиально дуалистична и в конечном счете неразрешима (как со всей художественной убедительностью это демонстрирует поэма «Двенадцать», в “неразрешенности” которой и заключалась, по-видимому, одна из “тайн” ее огромного возбуждающего действия на современников). Хлебниковская концепция, напротив, принципиально разрешима, хотя бы даже посредством отрицательного синтеза, как это мы видим в первом плане поэмы.
Итак, как же можно было бы сформулировать конфликт первого плана поэмы? Сделать это можно и необходимо, но лишь в конечном счете. До его осознания нужно дойти, не отрываясь от живой плоти художественной мысли, иначе любые обобщения останутся пустой и неподвижной абстракцией. Нам же важно отчетливо видеть движение и развертывание конфликта, вернее сказать — конфликтности поэмы в общей перспективе конфликтности действительности.
Так, например, личная, даже попросту домашняя распря бабы и барыни совершенно несущественна с точки зрения общего конфликта. Но с точки зрения развертывания общей конфликтности этот простейший бытовой момент так же нужен, как и самые отвлеченные моменты. Уже тот факт, что за этой домашней распрей вскрывается внеличный антагонизм, тоже есть движение противоречий и, следовательно, своего рода конфликт.
Начать нужно с того, что вся атмосфера первого плана поэмы есть сплошное противоречие, ненависть, вражда и взаимное отрицание; здесь буквально нет ни одного момента, который бы не отрицался другим моментом. Весь первый план есть сплошная конфликтность, это доминанта его структуры. Из этого следует, что энергия общей конфликтности присутствует в каждом отдельном конфликтном моменте и, наоборот, каждый отдельный момент подключен к общей конфликтной ситуации.
Затем, вся эта напряженная конфликтность развернута не линейно, а иерархически. Она развивается главным образом не в событийной, а в смысловой сфере. За внешней неподвижностью противостояния трех старух первого плана по мере осмысления и осознания противоречий вскрывается внутреннее углубление, расширение и, наконец, переворачивание конфликта. В смысловой сфере конфликтная ситуация полностью пережита, осмыслена и завершена, хотя с внешней стороны еще ничего как будто не разрешилось и не закончилось.
1. Личный конфликт бабы и барыни был бы вполне бессмысленным, если бы за ним не стояло столкновение разных типов сознания: интеллигентного и народного. То, что бессознательно “знает” баба, совершенно непонятно с точки зрения индивидуально-психологического сознания барыни: почему она должна понести наказание за отцов за грехи, почему внеличная вина должна быть искуплена личным возмездием? И это оказывается тем движущим моментом конфликтности, который ввиду невозможности разрешения переводит ее на новую ступень.
2. Социальный конфликт также был бы бесперспективным, если бы столкновение бабы и барыни символизировало просто антагонизм угнетателей и угнетенных, рабов и господ. В таком случае конфликт был бы исчерпан, ибо возмездие отвечало бы вине. Но в том-то и дело, что перед нами конфликт народа и интеллигенции, причем именно не в политическом, а в “музыкальном”, блоковском смысле: „Я не сомневаюсь, ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать “лучшие” ‹...› Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? ‹...› И, наконец, что так “бескровно” и так “безболезненно” и разрешится вековая распря между “черной” и “белой” костью, между “образованными” и “необразованными”, между интеллигенцией и народом?” (СС, VI, 15–16). Однако то, что понятно поэту, да и то лишь в высшие моменты сознательности, опять-таки совершенно непонятно с точки зрения либерально-интеллигентного сознания. Почему не буржуазия, не дворянство, а именно они, “лучшие люди”, которые шли на смерть за свободу народа, теперь должны погибнуть от руки народа? В чем вина интеллигенции перед народом? Поставленный с такой остротой социальный конфликт так же неразрешим, как личный, и должен быть взят более широко.
3. Исторический конфликт опять-таки не исчерпывает и не разрешает напряжения общей конфликтности действительности. На этой ступени антагонизм бабы и барыни символизирует уже не только конкретный социальный конфликт, но вообще вражду между людьми, вражду внутри человеческого рода. Почему вся прошлая история человечества есть история угнетения, ненависти и взаимного отрицания людей? Этот конфликт равно не может быть понят ни с точки зрения сознания барыни, ни с точки зрения сознания бабы. Он вообще неразрешим в рамках исторического сознания.
На этой ступени конфликтности, выходя за пределы сознания персонажей, мы вступаем в сферу собственно авторского сознания, на уровень концептуально-поэтический.
4. Природный конфликт, в котором барыня и баба с одной стороны, и прачка — с другой, символизируют столкновение истории и природы, дает максимальное напряжение конфликтности и одновременно — его концептуальное разрешение. Однако антиномия истории и природы и ее снятие в обнаружении природной сущности исторического процесса развернуты первым планом поэмы пока лишь ограниченно. Перед нами только отрицательный синтез, но полного и окончательного разрешения конфликта здесь нет. Его мы получаем в результате сопоставления с конфликтом второго плана.
Во втором плане, как этого и следовало ожидать, мы находим более сложную систему сопоставлений и противопоставлений, развернутых в соотнесении с первым планом.
В противопоставлении крестьянки (Собакевны) и помещика, в отличие от противопоставления бабы и барыни первого плана, нет никакой иллюзии личного конфликта. Напротив, даже подчеркнута “барская милость”:
В том, что ей досталось “воспитание” барского пса, нельзя увидеть ни намека на какое бы то ни было личное нерасположение помещика. Выкармливание грудью щенков — не наказание, это хотя и редкое, но “нормальное” явление крепостного быта. И это обстоятельство также подчеркнуто в поэме, причем развернуто в довольно пространный эпизод, предшествующий основному действию:
Функция вступления к рассказу о судьбе Собакевны, по-видимому, и состоит в том, чтобы дать обычные, типовые феодальные отношения, на фоне которых и воспринимаются дальнейшие события:
Перед нами вполне определенное социальное противопоставление крестьянки и помещика, которое очевидным образом является проекцией противопоставления бабы и барыни первого плана. Помещик прямо соотнесен с барыней, крестьянка с бабой (в последнем случае соотнесенность не только социальная, но и родственная: старуха-рассказчица — внучка Собакевны).
Если понимать второй план только в качестве прямого рассказа бабы-прислуги (как это обычно делается), то в такой прямой соотнесенности можно было бы видеть разрешение социального конфликта первого плана, объяснение вины барыни и оправдание справедливости возмездия за отцов за грехи.
Однако, как было показано, связь планов поэмы не прямая: рассказ бабы преломлен в воображении барыни. Поэтому на прямую соотнесенность персонажей (с точки зрения бабы) накладывается соотнесенность отраженная, обращенная (с точки зрения барыни). В обращенной проекции помещик уже соотносится с бабой, а крестьянка — с барыней:
В их столкновении помещик, как и баба, выступает в качестве активной, угрожающей стороны, а крестьянка, как и барыня, — в качестве пассивной, страдающей. Со стороны помещика мы видим то же сознание права и власти, со стороны крестьянки — тот же страх и непонимание своей вины. Крестьянка соотнесена с барыней не только функционально, но и образно. С барыней перекликаются некоторые характерные черты портрета крестьянки (белая | глаза голубые | глаза ее светят как звезды) и, главное, доминирующий момент ее образа — мотив “детей” (ср. характеристику детей барыни, подчеркивающую их “природность” и соотносящую их с “детьми” Собакевны: странные, дикие ‹...› вольные на все). А значит, с точки зрения сознания барыни, можно говорить о ее самоотождествлении с крестьянкой (ср. ее тождество с барышней рассказа Короленко). Барыня так же невинна, как и крестьянка, и угрозы бабы точно так же несправедливы, как и жестокость помещика. Таким образом, обращенная проекция указывает не на разрешение социального конфликта (как это было бы в случае прямой проекции), а на продолжение и обострение конфликтной ситуации.
Вместе с тем тождество барыни и крестьянки означает (опять-таки с точки зрения барыни), что социальным конфликтом вскрывается конфликт исторический. Тут как будто напрашивается вывод, что исконная вражда между людьми имеет нравственно-психологические корни и осознается как конфликт добра и зла, справедливости и несправедливости (это мы видим, например, в рассказе Короленко). Однако такое толкование не объясняет конфликт барыни и бабы. Противопоставление помещик — крестьянка имеет иной характер. Дело в том, что параллельно этому противопоставлению развернуто второе противопоставление: собака — заяц. Оно дано в виде отдельного эпизода барской охоты:
Переносный характер описания не вызывает сомнений. Перед нами, конечно, откровенное сопоставление вражды людей и вражды животных. На это указывает настойчивая и сплошная антропоморфизация животных и, так сказать, териоморфизация людей. Зайчья доля уподоблена крестьянской, зайчиха — вдовушка, как и Собакевна; изображение зайца перекликается с портретом Собакевны (Белый снежочек, / Скачет комочек — / Заячьи сны, / Белый на белом, / Уши черны. ‹...› Бела как снежок / Стала, белей горностаюшки). Собаки прямо даны в полном единстве с помещиком. Очевидно, все эти уподобления должны говорить о том, что вражда между людьми есть то же, что вражда между животными. Как это понимать? По-видимому, в таком сопоставлении подразумевается, что человек не противостоит человеку, как собака не противостоит собаке или заяц зайцу, но собака противостоит зайцу, а значит, помещик и крестьянка, господа и рабы осознаются разными биологическими видами. Их вражда оказывается уже не социальным, а природным, “кровным” антагонизмом.
Все это, повторяю, мы фиксируем, не выходя за пределы сознания персонажей. В том же сопоставлении содержится и более широкий смысл, но его нужно рассматривать с точки зрения общей концепции поэмы. Подлинный конфликт с точки зрения бабы и с точки зрения барыни раскрывается в третьем, главном противопоставлении второго плана: щенок — ребенок. Здесь нет уже ни личного, ни социального, ни исторического антагонизма, то есть тех форм, которые не отражают реальности сознания персонажей. Самоочевидным, полным и “естественным” конфликт предстает лишь в противопоставлении животного и человека. Только в таком виде конфликт становится понятен и бабе и барыне.29![]()
Принуждая крестьянку кормить грудью щенка, помещик утверждает тождество крепостного и животного. Убивая собаку, крепостной отрицает это тождество и, более того, символически переносит этот акт на помещика:
А тем самым крепостной утверждает тождество помещика и животного. Перед нами, следовательно, вполне ясный и определенный идеологический конфликт:
Суть конфликта не просто в отрицании “родства” крепостного и животного, но в обратном утверждении “родства” животных и господ. Именно таков скрытый смысл угроз бабы, обращенных к барыне:
Ср. тот же мотив в «Песне Сумрака» из поэмы «Настоящее»:
А также в монологе Прачки из той же поэмы:
Вражда между людьми в сознании персонажей, то есть с точки зрения непосредственных носителей этой вражды, парадоксальным образом оказывается не враждой между людьми, а враждой между людьми и животными. Помещик принуждает крестьянку выкармливать щенка не в наказание за какую-либо вину, а потому, что она для него не человек. Крепостной убивает собаку не потому, что собака в чем-либо виновата, а потому, что отождествляет ее с помещиком, который для него не человек. Выходит, что в конечном счете столкновение барыни и бабы ими самими осознается как чисто биологический конфликт: баба и барыня по своей природе обречены на вражду.
Но в таком случае никакие категории вроде справедливости, вины и возмездия здесь вообще неприменимы. Человек и животное заведомо неравны. Более того, такая вражда, где каждая сторона отрицает принадлежность другой стороны к человеческому роду, низводит всех — и сильных и слабых, и угнетателей и угнетенных — на уровень животных. С беспощадной ясностью это реализовано, например, в диалоге матросов в поэме «Ночной обыск»:
Ср. в той же поэме: господа — белые звери | олень | орловский рысак, матросы — морские волки | гончие-братва и т.п.
Однако само понятие “биологического конфликта” совершенно бессмысленно. Говорить о конфликте можно только там, где есть сознание, или, другими словами, конфликт может быть только социально-историческим. Но это отнюдь не означает, что именно таким он и фиксируется сознанием. Наоборот, формы, в которых осознается конфликт, в которых он делается реальностью сознания, могут быть любые, самые фантастические, и чаще всего как раз такими и бывают. В данном случае социально-исторический конфликт бабы и барыни первого плана отражается во втором плане в форме “естественно-биологического” антагонизма.
В действительности же дело обстоит противоположным образом. Вернемся еще раз к эпизоду охоты. С точки зрения персонажей, здесь люди уподоблены животным. С точки зрения общей концепции поэмы, наоборот, перед нами проекция человеческого антагонизма на животных, в конечном счете — проекция социально-исторического антагонизма на природу. Противопоставление собаки и зайца с этой точки зрения должно быть понято уже не как естественное противопоставление, скажем, хищника грызуну, а как противопоставление животного домашнего, “очеловеченного” — животному дикому, “природному”. При этом их характеристики получают обратное значение: “дикий”-мирный, “домашний”-хищный. С точки зрения автора, противопоставление собака — заяц означает противопоставление человека и природы и именно их вражду. Поэтому охота в поэме получает характер чего-то дикого, злобного и противоестественного.30![]()
С этой точки зрения главное противопоставление второго плана щенок — ребенок должно быть понято не как противопоставление человека и животного, но как противопоставление человека и природы. Но мы знаем, что противопоставление щенок — ребенок является проекцией противопоставления барыня — баба, причем проекцией в одно и то же время прямой и обращенной (как и противопоставление помещик — крестьянка), а это возможно лишь в том случае, если щенок и ребенок так же, как барыня и баба, не только противопоставлены, но и едины. Сынок и щенок в сценах кормления подчеркнуто параллельны или симметричны (ср. параллельность характеристик бабы и барыни):
Сама структура описания указывает на раздельное единство этих образов. Если в противопоставлении бабы и барыни существенным моментом является то, что они старухи, и поэтому их едино-раздельность имеет окончательный и необратимый смысл, то в противопоставлении щенка и ребенка существенно то, что они — дети, собачье дитя и человечье. Баба и барыня по природе едины, но социально-исторически они разделены и сознания их несовместимы. Щенок и ребенок, напротив, по природе раздельны, но по природе же они едины, ибо в них еще отсутствует сознание, они еще пребывают вне социально-исторической действительности. Как только вступит в силу сознание действительности, сынок удавит щенка. Но пока этого сознания нет, они едины в своем изначальном природном состоянии. Что это значит? Это значит, что между ними нет антагонизма, едино-раздельность щенка и ребенка выводит нас за пределы конфликтности. Собачье дитя и человечье едины и равны перед лицом природы, как едино и равно все живое.
Их природное единство воплощено в образе матери — Собакевны. В этом образе, так же как и в образе прачки, сквозь человеческие черты явственно проступают черты материально-природные. Начиная с простейших сравнений:
Но главное в образе Собакевны — это, конечно, сцены кормления. Уже тот факт, что описание этих сцен занимает почти пятую часть всей поэмы, указывает на их особое значение. Характерно, что ни у Марлинского, ни у Короленко, ни у Касаткина непосредственного изображения кормления вообще нет. С натуралистической точки зрения эти сцены должны были бы вызывать чувства ужаса и возмущения, однако для всякого достаточно чуткого читателя ясно, что смысл этих сцен гораздо сложнее. Вместе с этими чувствами они диктуют и чувства прямо противоположные, вплоть до умиления и блаженства. Как это может быть? Как может описание сцен кормления грудью ребенка и щенка получить прямо-таки возвышенный смысл? Все это возможно лишь в том случае, если эти сцены понимать символически. Тогда перед нами будет уже не просто ребенок и не просто щенок, а символические образы человека и животного и, соответственно, не просто крестьянка, а символический образ природы. Сам акт кормления уравнивает сынка и щенка, делает их молочными братьями. В таком случае перед нами уже не сцены страдания и унижения человека, но, напротив, сцены возвышенные и радостные, символически изображающие единство всего живого на лоне рождающей и кормящей матери-природы. Или, другими словами, перед нами в едино-раздельности матери, сынка " и щенка мифопоэтический образ единства и полноты мира. Ср. аналогичный образ в пьесе «Маркиза Дэзес»:
Смотрите лучше: вот жена, облеченная в солнце, и только его,
Полулежа и полугреясь всей мощью тела своего,
Поддерживая глубиной раздвинутого пальца
Прекрасное полушарие груди (о взоры, богомольные скитальцы!),
Чтобы рогатую сестру горячим утолить молоком,
Козу с черными рожками и черным языком.
Как сладок и, светом пронизанный, остер
Миг побратимства двух сестер.
Миг одной из их двух жажды
Сделал мать дочерью, дочь матерью, родством играя дважды.
Здесь то же единство мира со всей очевидностью символически выражено в сцене кормления козы некой антропоморфной богиней (соединяющей в себе черты языческие и христианские). Причем, естественно, никаких отрицательных переживаний эта сцена не вызывает, ввиду откровенной эстетической отрешенности образа. Этот образ содержит в себе идею единства и обратимости прошлого (животного) и будущего (человек) в вечном настоящем божественной природы, где порождающее и порождаемое, причина и следствие принципиально обратимы, в противоположность необратимости истории. Ср., например, еще более наглядное выражение той же идеи в стихотворении «Я видел юношу-пророка...»:
Стеклянной пуповиной летела в пропасть цепь
Стеклянных матерей и дочерей, внизу река шумела
Рождения водопада, где мать воды и дети менялися местами.
Именно в таком ключе и нужно понимать символический смысл тройственного образа Собакевны, сынка и щенка. Крестьянка не только мамка Летая | собачья мамка | собачиха, но она сама, как говорит ее прозвище, — собакевна, дочь собаки (ср. также прослыла коровой | ровно корова). Ее ребенок — ровно скотец | голенький, сморщенный ‹...› красненьким скотиком и, напротив, щенок — славный мальчик | „А умный! Даром собачьих книг нет!”. Контаминация характеристик человека и животного говорит об их концептуальном родстве, щенок и ребенок — братья, дети матери-природы.
Триединство матери, ребенка и щенка, в сравнении с аналогичным образом из пьесы «Маркиза Дэзес», конечно, гораздо сложнее и глубже, ибо в образе Собакевны его символический, концептуально-поэтический смысл неотделим от реального, социально-исторического смысла. А следовательно, его радостное и благоговейное переживание неотделимо от трагического, оба этих аспекта слиты в амбивалентный образ кормления. Он в одно и то же время говорит о величайшем унижении и страдании человека и о возвышении и торжестве природы. И наоборот, высшее состояние жизненности оказывается чревато смертью:
Именно поэтому сцены кормления играют важнейшую роль не только во втором плане. Это кульминация всей поэмы. С одной стороны, в противопоставлении человек — животное мы видим максимальное напряжение конфликтности, с другой — в этих сценах, переключающих действие из социально-исторической сферы в природную, из сферы сознания персонажей в сферу концептуальную, конфликтность снимается. Здесь тот момент поворота и переворота, который прямо соответствует сцене стирки первого плана.
Натуралистичнейший, казалось бы, эпизод получает прямо противоположный смысл, развертываясь в возвышенную и прекрасную картину. Здесь так же, как в сцене стирки, происходит чисто смысловое переворачивание и выворачивание наизнанку. Если Собакевну понимать только как крестьянку, то выкармливание грудью собаки низводит ее на уровень животного. В этом случае перед нами жуткие сцены торжества социальной несправедливости. Но если образ Собакевны понимать символически как образ природы, а соответственно щенка и ребенка как детей природы-матери, то перед нами будет естественная, гармоническая картина единства всего живого. Низведение человека на уровень животного оборачивается возвышением и торжеством человека, но уже не как социально-исторического феномена, а как природного. В этом смысле сцены кормления нужно понимать, как и стирку, в качестве очищения и преображения, образ Собакевны в целом, так же как образ прачки, раскрывается посредством катахрестических столкновений: первая красавица и собачиха | корова и великомученица святая и т.п. В конечном счете перед нами столкновение жизни и смерти. Если образ прачки в первом плане поэмы раскрывается как полнота уничтожения и смерти, за которой стоит возможность возрождения и жизни, то в образе Собакевны, наоборот, — полнота жизни, чреватая смертью. Однако в противоположность образу прачки, где его амбивалентный смысл только подразумевается, здесь в образе Собакевны полное и завершенное единство жизни и смерти. Если прачка символизирует момент „неслиянности и нераздельности всего”, момент всеобщего отрицания, то Собакевна воплощает момент противоположный, момент специфически хлебниковский — всеобщего изначального и окончательного единства, образ торжествующей природы. Это выше всякого отрицания и разделения, это в полном смысле синтез, тогда как в образе прачки мы видим лишь отрицательный момент синтеза.
Прачка воплощает то, что разделяет бабу и барыню, это воплощенная вражда, отрицание и смерть. Собакевна же предстает воплощением того, что объединяет щенка и ребенка, это воплощенная любовь, утверждение, жизнь. Относительно первого плана образы второго плана конструируются так, что Собакевна воплощает то, что объединяет бабу и барыню, это их материнское, природное начало. Соответственно, щенок и ребенок воплощают то, что разделяет их, это их социально-историческое сознание. И с точки зрения господ и с точки зрения рабов собака — “нечистая тварь”. Но помещик отождествляет с собакой крепостного, а крепостной — помещика. Таким образом, и с той и с другой стороны сознается принципиальная и непреодолимая раздельность мира. Человек отделен от природы, а поэтому человек отделен от человека. Если есть противопоставление человека животному, значит, неизбежно и противопоставление человека человеку. Если собака — “нечистая тварь”, то и человек тоже “нечистая тварь”. Социально-исторический антагонизм, с точки зрения Хлебникова, есть результат отпадения человека от природы. Преодоление этой вражды возможно лишь с преодолением антиномии природы и истории, с осознанием равенства всего живого. Социальная гармония, по Хлебникову, немыслима вне гармонии природно-космической. Лишь в возвращении человека к природе возможно ее очищение от скверны социально-исторической вражды.31![]()
Очень часто идеи Хлебникова толкуют как призыв к историческому возврату назад, к прошлому человечества. На самом же деле такое возвращение им мыслилось как возвращение человека (и человечества) к самому себе, к своей природе. А это значит не движение назад и даже не движение вперед по дороге истории, а выход из истории, ее преодоление в осознании истории как функции природы. Единство природы и истории не в прошлом и не в будущем, к нему не надо ни возвращаться, ни идти вперед, — его нужно осознать в настоящем, ибо природа есть вечное настоящее, она не знает ни прошлого, ни будущего:
Точно так же триединство матери, щенка и ребенка нужно понимать чисто концептуально, вне времени, как символическое изображение гармонии мира. При этом мы ни на минуту не забываем о конкретно-историческом смысле этого образа. И как раз такое двойное восприятие — глазами истории и глазами природы — придает этим сценам огромное напряжение и выразительность. Перед нами наглядно сквозь оболочку истории просвечивает природа в образе Собакевны, сынка и щенка.
Собакевна едина с щенком и ребенком, и в то же время она им противопоставлена так же, как едины и противопоставлены баба, барыня и прачка. Троица второго плана точно соответствует троице первого плана: щенок и ребенок так же, как барыня и баба, суть две ипостаси единого образа, с той разницей, что противопоставление барыня — баба имеет конкретный социально-исторический характер, а противопоставление щенок — ребенок вместе с социально-историческим получает общий концептуальный характер. Проекция противопоставления первого плана во второй как бы выворачивает его наизнанку и тем самым вскрывает его смысл. Соответственно и Собакевна есть проекция образа прачки, выворачивающая его наизнанку и вскрывающая его смысл.
Если в образе прачки нам предстоит воплощенное настоящее, неуловимый поворот между прошлым и будущим, то в образе Собакевны мы видим и прошлое и будущее слитыми воедино; можно сказать, что прачка воплощает мгновенное настоящее истории, а Собакевна — вечное настоящее природы. Если прачки лицо сумраком скрыто, то в образе Собакевны нам вполне явлен не только лик, но и весь цельный и полнокровный божественный облик природы. Если главное в образе прачки — грубые, стирающие, очищающие руки, то в облике Собакевны — ее прекрасное, чистое, кормящее лоно. Если в описании стирки мы видим уничтожение, развоплощение всего и возвращение в стихийное, природное лоно, то в описании кормления, наоборот, воплощение и произрастание всего живого из природного лона. На прямое соотнесение стирки и кормления в их символически-космическом значении указывают, в частности, такие детали: как кипяток молока, белые пузыри над корытом, облака | Пены белые горы, как облака молока. ‹...›. Короче говоря, прачка и Собакевна суть два образа природы. В обоих случаях, и в описании стирки и в описании кормления, перед нами магически-символическое изображение жизне- и смертедеятельности природы. Причем в обоих случаях природный характер действия выражен и тем, что дело происходит ночью; ночь, тьма, сумрак и в первом плане поэмы и во втором предстают непосредственно ощутимым явлением природы в ее конкретнейшем и отвлеченнейшем облике.
В образе прачки воплощена природа в ее разрушающей, уничтожающей, очищающей и обновляющей функции. Это грозная, безжалостная, титаническая, стихийная, темная природа космических потрясений и переворотов, то, что мы называем “мертвая природа”.
В образе Собакевны, напротив, воплощена “живая природа”, в ее творящей, порождающей, охраняющей функции. Это милостивая, вселюбящая, безмятежная, ясная природа земного мира и гармонии. Но оба эти образа, и прачка и Собакевна, суть лишь разные функции, разные аспекты единой природы, взаимодополняющие и взаимораскрывающие друг друга. Можно сказать, что образ Собакевны есть оборотная сторона образа прачки. Рассматривая образ прачки сквозь образ Собакевны, мы видим, что прачка символизирует возмездие за попранную и извращенную природу, и наоборот, рассматривая образ Собакевны сквозь образ прачки, мы видим, что Собакевна символизирует окончательное торжество очищенной и обновленной природы, возвращенной к изначальной гармонии.
Прачка и Собакевна стоят в ряду магистральных хлебниковских образов природы. Наиболее близка в этом отношении к поэме «Ночь перед Советами» драматическая поэма «Гибель Атлантиды», где мы также находим природу в двух ее ипостасях. Рабыня, невинно убитая жрецом, превращается в ужасное чудовище:
Прачка и Собакевна в их единстве могут быть сопоставлены также с поэмой «Ладомир». При всей сложности концепции образа Ладомира в нем достаточно ясно выступает природа в двух ее основных функциях: разрушающей и творящей. Причем, поскольку Ладомир — это прежде всего образ революции, то естественно, что он ближе к образу прачки. Доминирующий образ поэмы «Ладомир» — космический переворот, “божественный взрыв” — прямо соотносится с “космической стиркой” поэмы «Ночь перед Советами» (а также с “пожаром” в поэме «Ночной обыск»).
В связи с образом прачки нужно вспомнить и такие апокалипсические образы раннего творчества Хлебникова, как фантастическая птица в поэме «Журавль» и не менее фантастический дракон в поэме «Змей поезда», в которых природа выступает в своей враждебной функции, с той существенной разницей, что эти образы еще не содержат или недостаточно выражают идею переворота и обновления. Наиболее же тесно образ прачки, естественно, связан с образами революции в поэмах «Прачка» и «Настоящее».
Что касается образа Собакевны, то круг типологически близких ему образов еще более широк. Это едва ли не самый разработанный образ всего хлебниковского творчества и уж наверняка самый любимый. Прежде всего с Собакевной ассоциируются образы русалок и вил, которых мы находим во многих стихотворениях и поэмах. Особенно интересны в этом отношении образы Вилы в поэме «Вила и леший», Вилы и Русалки в поэме «Лесная тоска». Близость образа Собакевны к таким образам вскрывает его фольклорно-мифологическую основу. Первоначальными названиями поэмы «Вила и леший» были «Истар и леший» и даже «Природа и леший» (в черновом текста Природа прямо взята в качестве личного имени (см. НП, 436; 220–225). В образе Собакевны можно найти совмещение черт Русалки и Богоматери из поэмы «Поэт», причем вначале Собакевна сопоставима с Русалкой, затем с Богоматерью. Все это говорит о том, что в образе Собакевны мы сталкиваемся с отражением древнейшего мифологического комплекса Великой матери всего живого или Богини со многими именами.32![]()
Характернейшие хлебниковские поэтические образы, символы, важнейшие понятия его философии строятся на “совмещении несовместимого”, как бы поперек обычного движения мысли. Например, в стихотворении «Где засыпает невозможность на ладонях поучения...» (осень 1921):
Вся эта образность, очевидно, не является простым смешением разнородных представлений, она возникает из соединения противоположностей, создающих наибольшую разницу напряжений, откуда и происходит поэтический “разряд”. И это совершенно наглядный образ поперечного строя мысли. Вместе с тем, как мы говорили (см. главу 4, раздел 4), молния (то есть энергия) не просто художественный образ, молния в его философии является и принципом всеобщего единства, и первообразом мира, и архетипом поэтического слова. Еще в студенческих заметках 1907 года он писал:
А в 1921 году, разъясняя свой взгляд на природу как вещество молний, говорил (в передаче Д. Козлова): „Материя распадается на электроны, радиоэнергию, психо-энергию, последняя материализуется и кольцо замыкается...”33![]()
Однако подобную образность мы склонны скорее относить на счет поэтического строя мысли, редко задумываясь о том, насколько он характерен для науки. Между тем такие понятия, как ноосфера (или пневматосфера — по П.А. Флоренскому, или психосфера — по А.Л. Чижевскому), получившие в последнее время широкое признание и распространение, по-видимому, так же отражают поперечный строй мысли. Если сопоставить понятие „живого вещества”, введенное В.И. Вернадским для обозначения “совокупности живых организмов”, с неизбежно возникающими в связи с ноосферой представлениями о “мыслительном веществе” или “веществе мысли”, то самопротиворечивый характер понятия ноосферы будет очевиден. На эту загадку обращал внимание Вернадский в своей последней статье 1944 года «Несколько слов о ноосфере»:
Ссылка на Гёте в этих размышлениях весьма показательна. Для нас же она особенно важна, потому что Хлебников — ученый и поэт — в своем творчестве предельно сближал науку и поэзию. Если в исследованиях законов времени он настаивал на принципе “как?” (Я не выдумывал эти законы; я просто брал живые величины времени, стараясь раздеться донага от существующих учений, и смотрел, по какому закону эти величины переходят одна в другую, и строил уравнения, опираясь на опыт. — ДС, 6), то в литературных произведениях он ставил вопросы “почему?” и “для чего?”, то есть искал причины и следствия тех же законов природы. На это указывал еще Тынянов:
На близость Хлебникова к тому направлению мысли, в котором возникло учение о ноосфере, обращали внимание давно и даже прямо связывали его поэтический пафос с воздействием идей Вернадского.35![]()
Как известно, понятие ноосферы ввел философ и математик Э. Леруа в 1927 году под влиянием учения Вернадского о биосфере. Тогда же его принял и развил Тейяр де Шарден,36![]()
Поэтому, в частности, встречая это слово в художественных произведениях Хлебникова, мы воспринимаем его поэтически и не связываем с ним каких-либо научных представлений. Например, в «Песни Мирязя» (1907):
Или в «Искушении грешника» (1908):
Между тем мыслезём, оставаясь художественным образом, выступает одним из основных его философских и естественнонаучных понятий. Вот ход его рассуждений в заметках «О будущем человека»:
К сожалению, следующий лист рукописи утрачен, и мы можем только догадываться, какими соображениями руководствовался Хлебников в своих оптимистических утверждениях, которые мы находим на следующем сохранившемся листе:
Можно предположить, что эту уверенность Хлебников черпал в том направлении взаимных отношений человеческого рода и земли, которое ведет к неуклонному росту мыслительного вещества на Земле, в направлении, так сказать, “цефализации” земли. Во всяком случае, непосредственным продолжением его рассуждений служили расчеты соотношения массы мозговой ткани человечества и массы Земли:
Отсюда следовал решительный вывод:
Интересно, что эти рассуждения в некоторых чертах предвосхищают размышления Вернадского тридцатых годов, несопоставимые, разумеется, по широте охвата и глубине разработки с хлебниковскими, но совпадающие в самом направлении мысли. В книге «Научная мысль как планетное явление» Вернадский писал: „Цивилизация “культурного человечества” — поскольку она является формой организации новой геологической силы, создавшейся в биосфере, — не может прерваться и уничтожиться, так как это есть большое природное явление, отвечающее исторически, вернее геологически, сложившейся организованности биосферы. Образуя ноосферу, она всеми корнями связывается с этой земной оболочкой, чего раньше в истории человечества в сколько-нибудь сравнимой мере не было”.37![]()
И далее, подсчитывая количество людей, населяющих нашу планету, и прикидывая возможности роста населения Земли, Вернадский приходил к столь же оптимистическому выводу, что и Хлебников, утверждая, что „источник энергии, который захватывается разумом, в энергетическую эпоху жизни человечества, в которую мы вступаем, — практически безграничен. Отсюда ясно, что культурная биогеохимическая энергия ‹...› обладает тем же свойством”.38![]()
Таким образом, первый хлебниковский тезис (Увеличивайте число людей на всей земле) представлялся неоспоримым и Вернадскому. Что касается второго тезиса (Увеличивайте вес отдельного мозга во всяком человеке), то он, по-видимому, сразу же вызвал сомнения у самого Хлебникова. И в следующих заметках того же времени под названием «Новое» он писал:
Именно этой точки зрения придерживался Вернадский:
Хлебников, однако, отказываясь, по существу, от второго тезиса с естественнонаучной точки зрения, оставлял его в силе — эмоционально и поэтически — для себя лично. В автоэпитафии он писал:
Поэтому и главный его вывод из размышлений о будущем человека приобретал глубоко личный и творческий смысл:
В этом отношении Хлебникову, пожалуй, ближе Тейяр де Шарден, в конце тридцатых годов писавший в книге «Феномен человека»:
По Хлебникову, земля волит быть мозгом, и человек, ощущая себя на оси эволюции, осознает самого себя “мысле-зёмом”, где разница напряжений между ε (мысль) и ρ (зём) дает наибольшую энергию творчества, продолжающего творчество природы. Таким было самосознание Хлебникова в самом начале пути, и оно определило его основное направление. Можно сказать, ничуть не преувеличивая, что из мыслезёма выросло все его творчество. Идея мыслезёма пронизывает в явном или, чаще, неявном виде все его естественнонаучные, языковедческие и философско-числовые труды от раннего «Метабиоза» до «Досок судьбы», она же вдохновляла его художественные замыслы от «Искушения грешника» и «Песни Мирязя» до «Сестер-молний», «Ладомира», «Зангези», «Синих оков».
Причем эту идею Хлебников, так же как позднее Вернадский и Тейяр де Шарден, прямо проецировал на современную историческую действительность, удивительным и опять-таки “поперечным” образом сопрягая отвлеченнейшие построения философско-поэтической мысли с самой злободневной публицистикой. Это можно видеть в статьях «Наша основа», «Радио будущего», в «Досках судьбы», в поэме «Ладомир», в сверхповести «Зангези» и, может быть, особенно наглядно в одном стихотворении 1920 года. Приведем его полностью:
Отсюда становится понятным, что хлебниковская формула: Вдохновение есть‹пробежавший› ток от всего ко мне, а творчество есть обратный ток от меня ко всему — прямо вытекает из идеи мыслезёма. Отсюда же понятно, что формула эта относится не только к личному, но вообще к вдохновению и творческому труду человечества, в большой перспективе мировой эволюции. Эти строки Хлебников писал в конце мировой и гражданской войны в России, пережив крушение старого государства, и, видя превращение военного коммунизма в новую, еще более страшную тотальную государственность, находясь в самой гуще “восстания масс”, он указывал “поперечный” выход его энергии.
Спустя два десятилетия, в начале второй мировой войны, об этом же с другого конца земли (он работал тогда в Китае) писал Тейяр де Шарден:
Нельзя не видеть здесь, да и во всей книге Тейяра де Шардена, множества совпадений с важнейшими мыслями Хлебникова. Идея космической природы социально-исторических событий, идея научно построенного человечества не на основе приказа, а на основе вдохновения (здесь, говоря о „движении масс”, Тейяр де, Шарден имел в виду некоторые положения известной книги Ортеги-и-Гассета «Восстание масс»), идея ладомира духа, долженствующего предшествовать ладомиру тел, и т.п. — все это, несомненно, производные хлебниковского поперечного | отвесного, или, по Тейяру де Шардену, „радиального” мышления. Оно протягивает высокие струны от звезд к камням и рощам, как читаем в «Песни Мирязя», оно строит новый воздушный мозг, опутывающий землю, как в стихотворении «Необходимо труду вернуть его природу чуда...».
Такое мышление называют “космическим”. И это верно, если только речь идет не просто об уходе в какие-то космические, запредельные дали, но о таком космическом сознании, которое не покидает Землю и человека, сопрягая бесконечно большое с бесконечно малым и находя их внутреннее единство. Тейяр де Шарден, опять-таки совпадая с Хлебниковым в исходных положениях и выводах, рассуждал так: „Кажется, существует лишь одна реальность, способная преуспеть в этом и обнять одновременно и это бесконечно малое, и это бесконечно громадное, — энергия, подвижная универсальная сущность, откуда все возникает и куда все возвращается, как в океан. Энергия, новый дух. Энергия, новый бог”.43![]()
С этого положения, как мы помним, Хлебников начинал и на протяжении всего творчества утверждал энергийную, или молнийно-световую, природу мира, говоря об энергии в самом отвлеченном значении — как универсальной сущности и “едином знаменателе” мировых явлений, и в самом конкретном — как молнии и электричестве (например, в стихотворении, прямо названном: «Бог 20-го века», 1915). Однако было бы ошибочным думать, что, выдвигая энергию как первую и последнюю реальность, мы неизбежно придем к полному растворению “я” в “мире”, личного в безличном. Единое — не безлично.
Поэтические предвосхищения и антиципации такого сверхличного, или, как мы говорили, внелично-личного единства воплощались в хлебниковских образах Юноша Я-Мир, Мирязь и, конечно, наиболее полно в образе Ладомира, в котором как бы проектировалось такое слияние человека и человечества с природой, когда человек мыслится всеобъемлющим, как природа, а природа — единой вселенской личностью (см. главы 2 и 4). Тейяр де Шарден в соответствии с новозаветной традицией это единство называл Омегой. Хлебников определял его формулой Я в степени все. И не случайно в том и другом случае подразумевался образ круга или сферы, центр которой везде, а край нигде, — самый наглядный образ ноосферы, или мыслезёма.
Столь разительные совпадения естественнонаучных исследований Вернадского и теологических построений Тейяра де Шардена с научно-поэтическими предчувствиями и предвидениями Хлебникова не могут не удивлять. Но еще удивительней, мне кажется, их единодушные оптимистические воззрения на будущее человечества. Этим завершал свою книгу Тейяр де Шарден. Об этом же, почти дословно повторяя то, что в 1904 году, в дни русско-японской войны, говорил девятнадцатилетний студент Хлебников, писал Вернадский в итоговой статье 1944 года «Несколько слов о ноосфере»:
В наши дни, в конце века, такая уверенность кажется странной и почти непонятной. С чем это связано — с какими-то процессами эволюции биосферы, угрожающими ей самоуничтожением? Или это связано с нашим самосознанием, с самим строем и направлением современной общественной, научной и художественной мысли?
Может быть, к ответу на эти вопросы нас подводят следующие заметки Вернадского начала двадцатых годов:
Может быть, дело именно в этом, и в наше время связь с мировым целым, с природной почвой, с мыслезёмом ощущается слабее? Во всяком случае, для Хлебникова эта связь всегда была непосредственным источником и поэтического и научного творчества. В одной из заметок (вероятно, 1912 года) он писал:
И все его числовые труды были прежде всего способом осознать это второе, или, может быть, вернее сказать, это первое, природное “я”, ввести “заумное” в разумное поле. Так, например, вычислив соотношение поверхности земного шара и красного кровяного шарика, равное 136510, он восклицал: Чудо! Я знал о нем заранее, до вычислений (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, № 87, л. 50).
Поэтому, чтобы сохранить это живое, непосредственное, природное, цельное знание, он и стремился строить свое творчество поперек существующих границ между отдельными науками и искусствами. Есть виды нового искусства числовых лубков, творчества, где вдохновенная голова вселенной так, как она повернута к художнику, свободно пишется художником числа; клети и границы отдельных наук не нужны ему: он не ребенок. Проповедуя свободный треугольник трех точек: мир, художник и число, он пишет ухо или уста вселенной широкой кистью чисел и, совершая свободные удары по научному пространству, знает, что число служит разуму тем же, чем черный уголь руке художника, а глина и мел — ваятелю, работая числоуглем, объединяя в этом искусстве бывшие до него знания, — писал он в 1919 году в статье «Голова вселенной. Время в пространстве».47![]()
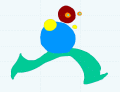
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 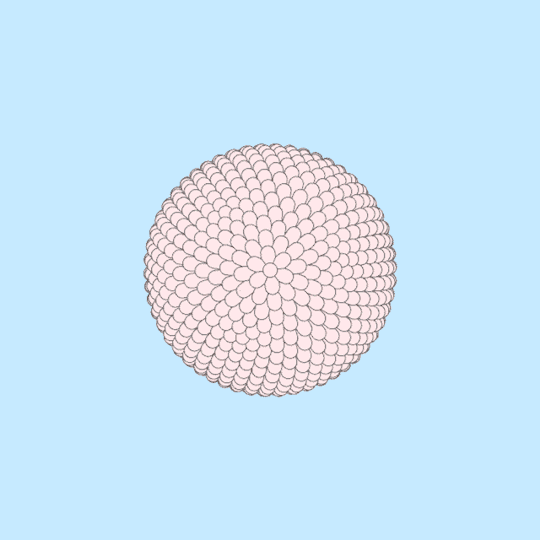 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||