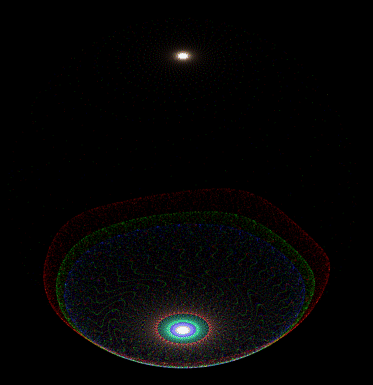О. Ханзен-Лёве
Ономатопоэтика Велимира Хлебникова. Имя и анаграмма.
Окончание. Предыдущие главы: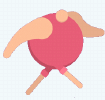
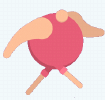
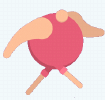
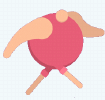
Приведённые ниже примеры представления имён учёных и писателей как персонификации мифологем (в частности, мифологемы имени поэта) представляют собой лишь выборку, которая, тем не менее, показывает диапазон этой процедуры. В кадре мало смысла, поскольку сам Хлебников действует по упомянутому выше принципу анахроничного монтажа:
‹...› В знамёнах Невского,
Под кровлею орлиного пера,
Увидеть имя Лобачевского
Он будет с свободой на “ты”!
И вот к колодцу доброты,
О, внучка Лобачевского,
Вы с вёдрами идёте ‹...›
НП: 194
На бревенчатых стенах ружья, Чехов, рога. Слонёнок с железной цепью на ноге.
IV: 66
Густой и белый Достоевский,
Мужик замученный и робкий,
Он понял всё — и он, и Невский
Дрожит в полночной мышеловке.
V: 54
То Лермонтова глаза.
Стоусто небо застонало,
Воздавши воинские почести, ‹...›
И до сих пор живут средь облаков,
И до сих пор им молятся олени,
Писателю России с туманными глазами, ‹...›
III: 182
‹...› Тем грозный Мукден был для русских
В очках учёного пророка
Его видал за письменным столом
Владимир Соловьёв.
III: 350–351
И запечатлел в нём
Отпечаток поэта Брюсова.
V: 102
И пока над Царским Селом
Лилось пенье и слёзы Ахматовой ‹...›
III: 307
Это рок. Это рок.
Вэ-Вэ Маяковский! — я и ты!
Нас, — как сказать по-советски,
Вымолвить вместе в одном барахле ‹...›
Старые провопли Мережковским усните.
Рыдал он папашей нежности нашей.
III: 293
И водки дикой пил запоем
Слова неслыханным разбоем
Души художника Маковского
В неё вогнал рок клином я.
V: 52
‹...› Отец «Перуна», Городецкий,
Даёт леща щекам сутулым.
НП: 233
Конечно, Хлебников не всегда опирается на достоверность этимологий, более глубокий смысл которых он иногда отрицает или приписывает отдельным поэтам: Имена собственные не называют дарования. Видимое исключение: Кузмин и Иванов ‹...› (НП: 425; ср. с этим обыгрывание имени ‘Вячеслав’ [Иванов] в ироническом стихотворении Сологуба «Что звенит? | Что манит?..», цитируемой ниже).
Иногда имена культурных и литературных героев предстают в виде каталога, призванного обосновать определенную историко-мифическую парадигму, причём отдельные имена нередко обозначают весьма далёкие эпохи и контексты:
Люди! Над нашим окном
В завтрашний день
Повесим ковёр кумачёвый.
Где были бы имена Платона и Пугачёва.
V: 65
У рыбы есть тоже Байрон или Гете
И скучные споры о Магомете!
V: 46
Усадьба ночью — Чингисхан!
Шумите, синие берёзы.
Заря ночная — Заратустра!
А небо синее — Моцарт!
И сумрак облака будь — Гойя!
Ты ночью облако — Роопс! ‹...›
Пусть сосны бурей омамаены
И тучи движутся Батыя,
Идут слова — молчаний Каины — ‹...›
II: 217
‹...› Челпанов, Чиж, Ключевский,
Каутский, Бебель, Габричевский,
Зернов, Пассек — все горите!
Огней словами — говорите! ‹...›
II: 75–76
Туда, туда, где Изанаги
Читала Моногатори Перуну,
А Эрот сел на колени Шангти
И седой хохол на лысой голове
Бога походит на снег,
Где Амур целует Маа-Эму, ‹...›
Где Юнона с Цинтекуатлем
Смотрят Корреджио
И восхищены Мурильо,
Где Ункулункулу и Тор
Играют мирно в шашки, ‹...›
И Хоккусаем восхищена
Астарта — туда, туда!
I: 193, IV: 259, V: 28–29
Котёнку шепчешь: не кусай!
Когда умру, тебе дам крылья!
Кровавит ротик Хоккусай,
А взоры — матери Мурильо.
НП: 263
Подобная тенденция к накоплению самых разнородных имён в списке Председателей Земного Шара, даже “оргия имён” прослеживалась в хлебниковском рассказе «Октябрь на Неве» (IV: 105–106):
Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнесшиеся члены китайского посольства Тинь-Эли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар; писатели Евреинов, Зенкевич, Маяковский, Бурлюк, Кузмин, Каменский, Асеев; художники: Малевич, Куфтин, Брик, Пастернак, Спасский, Зигмунд; лётчики Богородский, Г. Кузмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд, Прокофьев; американцы Крауфорд, Виллер и Девис, Синякова и многие др.
IV: 105–106
Особенно ярким вариантом этих парадигматических именных монтажей является список личных имён, которые представляют собой реализованные или персонифицированные фонемы или морфемы: простое перечисление “драматических персонажей” заменяет ожидаемый последующий текст, который, разумеется, отсутствует:
Имена действующих лиц
Негава
Служава
Белыня
Быстрец
Умнец
Влад
Сладыка.
Хлебников. Требник троих
Если мифопоэт является демиургом своего языкового мира, то его собственное имя образует то самое (языково-магическое) “тематическое имя”, которое разбросано по всем поэтическим текстам (и частям света). В известной мере это относится и к поэзии Хлебникова, хотя ономатопоэт скупо раскрывает вездесущность своего “хлебниковского” имени, “вырезанного” на “мировом теле”:
Сын Выдры перочинным ножиком вырезывает на утёсе своё имя: “Велимир Хлебников”. Утёс вздрагивает и приходит в движение: с него сыпется глина и дрожат ветки.
Утёс: Мне больно. Знаешь, кто я? я сын Пороса.
II: 168
“Poeta vates” появляется в близком к архаике мире как чадо Хлебникова, которого ожидает и человечество, и Земля:
Это пророки
Сбежалися
С гор
Встречать
Чадо Хлебникова:
— Наш! — сказали священники гор,
— Наш! — запели цветы. ‹...›
«Завоевание хлеба »
Может найдётся поближе?
I: 233–234
Поэт просит от России — воплощения своего “мира-текста” или своего “земного тела” — не что иное, как стать Хлебниковым, т.е. принять имя автора:
Вши тупо молилися мне,
Каждое утро ползли по одежде, ‹...›
Мой белый божественный мозг
Я отдал, Россия, тебе:
Будь мною, будь Хлебниковым.
Сваи вбивал в ум народа и оси.
Сделал я свайную хату
“Мы будетляне”.
Всё это делал как нищий,
Как вор, всюду проклятый людьми.
V: 72
Если ‘Земля’ может стать ‘Хлебниковым’, то и ‘Хлебников’ может стать частью ‘Земли’:
На острове вы. Зовется он Хлебников.
Среди разъярённых учебников
Стоит как остров храбрый Хлебников.
Остров высокого звёздного духа ‹...›
II: 178
Горело Хлебникова поле.
И огненное я пылало в темноте.
Теперь я ухожу,
Зажегши волосами,
И вместо Я
Стояло — Мы!
III: 306
Хлебников “олицетворяет” своим “голосом” собственное “словотворчество”, которое, в свою очередь, вырастает из имени (‘Хлебников’):
‹...› Громко пел тогда голос Хлебников,
О работнице, о звёздном любимце.
Громадою духа он раздавил слово древних, ‹...›
Вот ноги, вот ухо,
Вот череп — кубок моих песен.
Книга — старуха,
Я твоя есень!
III: 226–227
Череп выступает как “pars pro toto” для самого “тела”, но “череп” поэта-демиурга — ещё и место, где рождается мир (мозг), этот “сосуд” (кубок) содержит в себе мир как эликсир жизни, поэтому не стоит удивляться, когда в ономатопоэтике Хлебникова само “имя” становится “вместилищем” мировых текстов:
Чао разносила по ушам, то корявым, как старухи, то невинным как девушки... вёдра своего имени и позволяла пить немного влаги из моря мотыльков ‹...›
IV: 325
Мой череп по шов темянной
Расколется пусть скорлупой,
Как друга стакан имяной,
Подымется мёртвой толпой.
IV: 251
Исходя из равнозначности мотивов “мир-текст” — “поедание текста” — “поедание бога” для ономатопоэта, было бы странно не обнаружить именно “пищу” как “omen” в лично своём “nomen”, которая, как “хлеб жизни” искони отождествляется с воплощённым Словом Божиим. Однако, в отличие от христоцентристских, мессианских символистов, Хлебников не видел себя реинкарнацией Логоса и не был подвержен аполлоническому логоцентризму, ему было гораздо ближе архаическое представление о дионисийском теле культового героя (а значит, и барда, поэта), растерзанном и пожранном — посредством чтения, т.е. “инкорпорации” — телом Земли (впитанным читательской аудиторией), чтобы там переродиться. Разумеется, Хлебников изменил бы себе, не вывернув эту мифологему наизнанку: он сам, Хлебников, есть тот желудок, через который другие люди (“читатели”?) проходят и перевариваются:
В Нижнем я попал
Волной Волги, ‹...›
В рот молодого человека
И прошёл желудок
Хлебникова,
Потом я полетел лучом
На звезду.
V: 102
Сферы “хлеб” и “Хлебников” уже отнесены к общей парадигме по общим начальным согласным, играющей центральную роль в трактате Разложение слова: Х — летящая точка, преграда на её пути, и цель летящей точки за преградой (V: 200). Отсюда: Растение с искусственной охраной и защитой человека — хлеб (201: Ховать, охранять, хоронить должна преграда. Все виды этого образует область имён Х).
Наконец, заглавия (хорошо известных) литературных текстов тоже могут играть роль имён, выходящих за рамки их простой индексной функции (заменяет “totum” всего текста), которые, как персонифицированные действующие лица, выступают наравне с самим автором, героями и другими личными именами:
И косы падают, на солнце выгорев,
И щёки круглые из песни Игоревой.
НП: 265
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: кто же я?
Мы создадим слово Полку Игореви
Или же что-нибудь на него похожее.
Это не люди, не боги, не жизни ‹...›
II: 244
Приглашает меня испить
«Египетских ночей» Пушкина
Холодное вино.
V: 33
‹...› А «будем как солнце», на ножках качаясь,
Ушёл, в королевстве отчаясь,
И на лице его печать ‹...›
НП: 233
‹...› Как водопад дыхания китов
Вздымалось творчество Тагора и Уэльса ‹...›
Ты набрано косым набором,
Точно издание Крученых ‹...›
III: 56; V: 30
6. Символизм и “философия имени”
Разумеется, типологическое сопоставление символистской и архаико-футуристской ономатопоэтики в рамках данной статьи невозможно. Поэтому следует пренебречь внутренней дифференциацией обеих формаций в моделях,
51
где концепция имени следует разным доминантам. Вообще говоря, раннесимволистская модель имеет тенденцию к
анонимности, т.е. к уничтожению именуемого — и, тем самым, к эссенциалистской, позитивной концепции языка (вспомните псевдоним И. Анненского „Ник. Т-о”, где анаграмма превращает его одно из ключевых слов семантики раннего символизма). Этому соответствует и характерная для символизма относительная взаимозаменяемость текстов отдельных поэтов (в силу значительного сходства и едва ли не полной синтагматической референтности), с одной стороны, и склонностью их (особенно Брюсова) использовать разные псевдонимы в одном издании (вспомните ранние альманахи под вводящим в заблуждение названием «Русские символисты»). Следует отметить, что (ранние) символистские псевдонимы подражают псевдонимам времён романтизма или высмеивают их. Романтической мистификации имени автора соответствует фактурный скачок, амбивалентность вымысла и фактичность авторства. Псевдоним даёт текстообразующее различие между биографическим и литературным автором, которое, в свою очередь, может быть разбито на множество голосов и связанных с ними дискурсов. Эта полифония пародируется в философско-поэтических произведениях Сёрена Кьеркегора, в которых сложная иерархия псевдонимов указывает на “статус” соответствующего дискурса по отношению к другим. Однако в раннем русском символизме уклон псевдонимов наблюдается в сторону
ψευδές, т.е. лжи, обманного манёвра, которым оказывается всякое художественное творчество.
Действительным аналогом хлебниковской архаики является, несомненно, мифопоэтическая модель символизма (“религия искусства” 1900 – около 1907 годов), в известной мере реализующая платонически-идеалистический вариант имени-мифа. В отличие от “пустой анаграммы” раннего символизма (аналогичной его “пустой герметике”), которая достигает кульминации в сведéнии имени Бога к “никто” или “дьяволу”, поздний символизм использует античную и христианско-иудейскую концепцию имени. Однако, в отличие от Хлебникова, личностная идентичность фигуры авторского эго здесь никогда не сталкивается с олицетворением имени и даже не заменяется им. Скорее, можно говорить о пересимволизации архаического имени. Это касается и имени автора (например, ‘Белый’ органично вписывается в парадигму мифопоэтической палитры символизма).
Кратко следует отметить значение имени в гротескно-карнавальной модели символизма (в поэзии приблизительно с 1905 г., в прозе раньше, особенно у Сологуба и Белого), что напоминает гротескную функцию имени в поэтике Гоголя, раннего Достоевского и др., опирающуюся, с одной стороны, на концепцию этимологизирующего (“говорящего”) имени, с другой — на имя как олицетворение языкового жеста в контексте практики “сказа”. Можно было бы говорить и о метонимическом употреблении имени, тогда как этимологизирующее имя имеет метафорический (и отчуждённый одновременно) аспект. Замечательный пример этой тенденции — стихотворение Сологуба (1906), где иронически обыгрывается имя ‘Вячеслав’ (Иванов):52
Что звенит?
Что манит?
Ширь и высь моя!
В час дремотный перезвон
Чьих-то близких мне имён
Слышу я.
В лёгких вздохах дальних лоз,
В стрекотании стрекоз,
В зраке пёстром теплых трав
Реет имя ВЯЧЕСЛАВ.
Вящий? Веший?
Прославляющий ли вещи?
Вече? иль венец?
Слава? слово? или слать?
Как мне знаки разгадать?
Цепь сковать
Из рассыпанных колец?
Там, в дали долин,
Вещий хор ведёт один, —
Здесь, в полугоре,
Знак начертан на коре, —
Там, с вершины гор,
Острый смотрит взор.
Все взяла заря ключи, —
Травы сухи и в ночи.
В сочетаньи вещих слов,
В сочетаньи гулких слав,
В хрупкий шорох ломких трав,
В радость розовых кустов
Льётся имя ВЯЧЕСЛАВ.
Сологуб [1906]: 331–332
Как уже говорилось, в мифопоэтическом символизме (прежде всего, в „реальном символизме” В. Иванова, но также и в языковом реализме Белого) аспект имени в концепции символа определённо присутствует, точнее: архаическая идея имени накладывается или заменяется (нео)платоно-христианской, миф об имени
транслируется в религиозную символику: имя обозначает нечто потустороннее, отсутствующее, метафизическое, божественное — или позволяет чему-то происходить под знаком этого имени, тем самым освящая его. Подобно символу, имя в „реалии” представляет собой „реалиору” (вертикальные соотношения сфер бытия), посредством чего онтологическое
и семиотическое различие между двумя сферами проявляется только в состоянии экстаза, индивидуального или коллективного эзотеризма и, таким образом (временно институционализированное), может быть снято. (Ср.:
В. Иванов. О «Цыганах» Пушкина // По звёздам.
СПб. 1909 г. — произведение, созданное почти одновременно с анаграммоведением Ф. де Соссюра.)
53
Но такое снятие есть фиктивный акт, он связан с прагматической ситуацией (“опытностью” символистов — чаще всего в групповой ситуации). В этом отношении символическое имя всегда находится в спицифической ситуации общения, тогда как архаическое имя устанавливает отношение к коду, фактически проявляет наличие кода в отдельном слове сообщения. Поскольку в архаическом, языково-магическом тексте синтагматический ряд слов понимается как парадигма, эти слова присутствуют и в именах, тогда как в имени-символе господствует экспрессивная функция звуковой жестикуляции (ср. „глоссолалию” А. Белого и его вундтовскую теорию „звуковых жестов”). Символ связует, служит посредником между говорящим (автором) и слушателем, человеком и Богом: „Символ же есть жизнь посредствующая и опосредствованная ‹...› медиум струящихся через неё богоявлений” (В. Иванов. О границах искусства. II: 647).
Сам символ является посредником между разнородными парадигмами и, тем самым, устанавливает “соответствия” между различными областями действительности, которые, таким образом, соотносятся друг с другом либо реально-онтологически, либо только “герменевтически”, т.е. как продукт истолкования, как следствие энергичной, настойчивой, суггестивной действенности религиозного или поэтического дискурса.54 Именно эта опосредующая функция символического (его “условность”) была категорически отвергнута футуристами (Кручёных. Новые пути слова // Манифесты: 70–71); они не были озабочены передачей смысла, “герменейей”, правильно интерпретируемой воспринимающей стороной, целью было не восстановление “отсутствующего”, а буквальное “представление”, одаривание имя-словом, его “вечностью”, знаменующей всеобщность языкового мира (космическое “языковое тело”) как “pars pro toto”.
Именно эта опосредующая функция символического (его “условность”) была категорически отвергнута футуристами (Кручёных. Новые пути слова // Манифесты: 70–71); они не были озабочены передачей смысла, “герменейей”, правильно интерпретируемой воспринимающей стороной, целью было не восстановление “отсутствующего”, а буквальное “представление”, одаривание имя-словом, его “вечностью”, знаменующей всеобщность языкового мира (космическое “языковое тело”) как “pars pro toto”.
Архаическая “номинация” ниспровергает предметный мир (“предметный язык”) “быта” точно так же, как и метафизические или герменевтические аллегории, поскольку в акте называния имя есть то, что оно означает. Вещи называются (“именуются”, вспомним о магической функции “обращения”, “заклинания”, т.е. “призывания”) теми самыми “именами”, которыми они на самом деле “являются”. На семиотическом уровне это значит, что символ действует по принципу синонимии, тогда как архаическое имя соответствует принципу омонимии, а именно: омонимичные (или также паронимичные, т.е. приблизительно равнозначные) морфемы и лексемы представлены как синонимы, т.е. переводятся в парадигматический класс (в футуризме это неологический акт, в архаизме акт восстановления докультурной парадигмы).
При всём сходстве реально-символической концепции имени-символа у Вяч. Иванова или Флоренского (не говоря уже о Лосеве и “имяславцах”) с архаистической ономатопоэтикой, налицо важное различие, заключающееся в том, что в символизме и связанных с ним системах понятия “имя” и “идея” (или понятие) во многом синонимичны, в то время как в архаизме различие между имманентностью и метафизикой полностью отсутствует. Идея “развёртывания” (мифопоэтического) текста из начального “имени”, о которой вновь особо упоминает Иванов (Экскурс: О лирической теме // II: 203–204; П.А. Флоренский. Строение слова, 368: Отождествление “внутренней формы” и “имени”)55 сохраняется в дуалистической концепции “эманации” пра-Бытия (Бога, высшего существа, т.е. Имени) в космические сферы. В архаизме этой вертикальной концепции “эволюции” противостоит “горизонтальная” концепция вездесущности “частей имён” как “частных имён” в “целом имени”.
сохраняется в дуалистической концепции “эманации” пра-Бытия (Бога, высшего существа, т.е. Имени) в космические сферы. В архаизме этой вертикальной концепции “эволюции” противостоит “горизонтальная” концепция вездесущности “частей имён” как “частных имён” в “целом имени”.
Помимо софиологии, комплекс “имяславия” принадлежит к религиозно-философской программе символизма, в соответствии с которой оба понятия восходят к гностическим, а затем к мистическим (исихастическим) традициям (M. Hagemeister 1985: 12; он же, 1983: 5 и далее). “Имяславие” проистекает из неоднократно изложенного выше учения, согласно которому „имя Бога есть Сам Бог, и призывание Его в молитве высвобождает божественные энергии” (он же, 1985: 12). Молитвенная техника, основанная на исихазме, а именно Христовой молитве, в конечном счёте, уходит своими корнями в восточную технику медитации и йоги, целью которой является достижение состояния “unio mystica” (видение Фаворского света и т.д.). Ясно, что приравнивание (светового) видения к обожествлению и Имени имеет платоно-эллинское происхождение (B. Schultze 1951: 321–394).
Доктрина “имяславия” возникла незадолго до Первой мировой войны на Святой Горе Афон и встретила решительный протест Святейшего Синода в России. Здесь вновь становится очевидным, насколько старые теологумены были вытеснены в инославную область (в т.ч. в область религиозного искусства символизма) — параллельно, а отчасти и вопреки жёсткой ортодоксии. Сторонниками “имяславия ” были, прежде всего, П. Флоренский, религиозные философы С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, Эрн. После революции были попытки воспроизвести учение в секуляризованной форме — например, у Валериана Н. Муравьёва, который “имяславие” хотел превратить в „активную, господствующую над миром и преобразующую мир доктрину” (Hagemeister 1983). Типичным для “имяславия” было универсалистское притязание на всеискупительную научную и культурную революцию (перейти от “имяславия” в „имядействию”), в соответствии с которой первоначально почитаемое правление Бога и Его святое имя следует заменить „правлением человека”, посредством действий которого должны претворяться в реальность божественные энергии, особенно почти навязчивая идея победы над физической смертью и любым материально навязанным разделением (там же, 7–8). Здесь ощутимо немалое влияние учения Н.Ф. Фёдорова («Философия общего дела». 1906, 1913). Бросающийся в глаза параллелизм некоторых универсалистских концепций “имяславцев”, приверженных Фёдорову, и утопий Хлебникова отнюдь не случаен и ещё ждёт подробного анализа (ср. упоминание в Hagemeister 1985: 36–37, 1983: 12). Во всяком случае, такое сравнение должно иметь в виду и принципиальное отличие платоновско-христианской концепции (особенно Флоренского) от хлебниковской архаики. Флоренский отождествляет „внутреннюю форму” слова (ср.: А.А. Потебня. Гумбольдт и символистская теория языка) с „действенным словом”, причём этимология обнаруживает именно эту внутреннюю часть слова, выясняя тем его действенность (П.А. Флоренский 1914: 785). В этом смысле для Флоренского нет разницы между понятием символа (философски обоснованным к тому времени В. Ивановым и А. Белым) и понятием имени. В своей лекции «Магийность слова» (перепечатано Hagemeister 1985: 28–29) Флоренский доходит до того, что конструирует связи между именами и их носителями, поскольку имя всегда и везде является „важнейшим орудием магии”.
В «Философии имени» А.Ф. Лосева (М. 1927)56 несомненно влияние “имяславия”, особенно П.А. Флоренского, который, благодаря своим детальным исследованиям (нео)платонизма, имел дело с теми же источниками, приведшими к “имяславию”, например, с «De divinis nominibus» Псевдо-Дионисия Ареопагита (ср. A. Haardt 1983: XIII–XXVIII). В изложении философской проблемы имён Лосев следует Платону («Кратил») и соответствующему комментарию Прокла. Удивительно, что Лосев почти никогда не пытается прояснить двойственную функцию “onoma” как ‘имени’ и ‘слова’: почти во всех случаях ‘имя’ употребляется им в значении лексемы или слова, так что лосевская «Философия имени» как теория имени даёт мало. По Лосеву, имя есть „смысловая, выразительная (или разумеваемая) энергия сущности в модусе интеллигентной самоотнесённости ‹...›” (там же, 178). Гораздо плодотворнее высказывания Лосева в его «Диалектике художественной формы» (М. 1927), где подчёркивается мифогенное значение имени: „Миф ‹...› и есть энергийное выражение, и, значит, имя ‹...›” (там же, 30). Таким образом, имя есть „выражение” само по себе (4), внутренний “эйдос” сущего (15), символизируется им (17). Понятие “вещь” в феноменологическом подходе Лосева напоминает понятие вещи, заимствованное у Гуссерля Г. Шпетом.57
несомненно влияние “имяславия”, особенно П.А. Флоренского, который, благодаря своим детальным исследованиям (нео)платонизма, имел дело с теми же источниками, приведшими к “имяславию”, например, с «De divinis nominibus» Псевдо-Дионисия Ареопагита (ср. A. Haardt 1983: XIII–XXVIII). В изложении философской проблемы имён Лосев следует Платону («Кратил») и соответствующему комментарию Прокла. Удивительно, что Лосев почти никогда не пытается прояснить двойственную функцию “onoma” как ‘имени’ и ‘слова’: почти во всех случаях ‘имя’ употребляется им в значении лексемы или слова, так что лосевская «Философия имени» как теория имени даёт мало. По Лосеву, имя есть „смысловая, выразительная (или разумеваемая) энергия сущности в модусе интеллигентной самоотнесённости ‹...›” (там же, 178). Гораздо плодотворнее высказывания Лосева в его «Диалектике художественной формы» (М. 1927), где подчёркивается мифогенное значение имени: „Миф ‹...› и есть энергийное выражение, и, значит, имя ‹...›” (там же, 30). Таким образом, имя есть „выражение” само по себе (4), внутренний “эйдос” сущего (15), символизируется им (17). Понятие “вещь” в феноменологическом подходе Лосева напоминает понятие вещи, заимствованное у Гуссерля Г. Шпетом.57
Символизм — это „смысловая выразительность мифа, или внешне-явленный лик мифа” (26, 152 и далее), тогда как миф выступает в символе (29), а символ в личности, через которую выражается энергия сущности: „Энергия сущности явлена в имени ‹...› Энергия есть смысловое, символическое становление личности. Имя есть осмысленно выраженная и символически ставшая определённым ликом энергия сущности ‹...›” (29). Таким образом, миф, символ, сущность, вещь, эйдос и личность в знаке имени образуют единство (30).58
Наконец, отсюда видно, что наибольшая выраженность и, след., наиболее совершенный миф ‹...› есть человеческая личность с её именем, почему всякое искусство возможно только при условии человечности и только при осуществленном в теле и имея сознание, выражаемое им и для себя, и для других при помощи тела, т.е., имея имя, человек есть личность. В личности — тождество и синтез тела и смысла, дающих общий результат, — мифическое имя. Поэтому личность, данная в мифе и оформившая свое существование через своё имя, есть высшая форма выраженности, выше чего никогда не поднимается ни жизнь, ни искусство. (31)
————————
Примечания 51
51 О типологической периодизации модерна см. И.П. Смирнов 1977; А.Х.-Л. 1984 г. (введение); 1987.
 52
52 Об анаграммах и именах в русской поэзии (особенно в символизме и акмеизме) см. В.Н. Топоров 1987б: 215–228 (о В. Иванове там же, 216, 223). Об интерпретации Ивановым мифа как “развёртывания имени” см.: З.Г. Минц 1979: 89, В.П. Григорьев 1979: 268 (о стихотворении «Реет имя Вячеслав...»).
 53
53 Любопытно замечание В.Н. Топорова о том, что В. Иванов был учеником Соссюра в Женеве и ознакомился с его исследованиями по анаграмме (В.Н. Топоров 1987б: 221). См. также В.С. Баевский, А.Д. Кошелев 1979: 52 и далее (об анаграммных штудиях Иванова). В. Иванов не различал анаграммы, гипограммы и параграммы, как Соссюр, а называл все эти явления „звукообразами” (ср.:
В. Иванов. К проблеме звукообраза у Пушкина // Московский пушкинист, 2,
М. 1930).
 54
54 См. A.H.-L 1986: 28 и далее.
 55
55 См. R. Lachtnann 1982: 35; Trabant 1985: 176.
 56
56 Ю.С. Степанов (1985: 9 и далее) полагает «Философию имени» Лосева завершением и почти кульминацией традиции, проходящей через всю историю европейской философии, возводящей слово как “значащее обозначение” в имя. Краткое и поверхностное изложение лосевской философии именования можно найти у Ю.С. Степанова 1985: 57 и далее. Типичный пример такой антифункциональной, антиструктурной языковой концепции приводит L. Klages 1948: 13 и далее. («Имя и понятие»). Он допускает „существенность смысловых слов” (там же, 27 и далее): ср. также H.-M. Gauger 1970, который обобщает своё целостное представление о сущности слов в традиционную теорию имени.
 57
57 О положении лосевской теории языка в рамках “формально-философской школы” (кружок феноменолога Г. Шпета) см. А.Х.-Л. 1989b (о понятии „номинативное значение слова” у Г. Шпета см. его «Эстетичские фрагменты», т. II: 29 и далее). Кроме обращения к феноменологии, не менее показательно обращение к философской школе П.А. Флоренского, в которой “философия имени” занимала центральное место. Это видно, например, по «Философии имени» С.Н. Булгакова — исследованию, которое появлялось довольно поздно (
Париж. 1953), но и в нём ощутимы традиции “имяславия”. Сравнительный анализ «Философии имени» Лосева и Булгакова на фоне философии П.А. Флоренского предлагает Н.К. Бонецкая в своём ещё не опубликованном исследовании «О философской школе П.А. Флоренского».
Несомненно, Флоренский и всё течение “имяславия” наследует византийско-православной традиции мистического богословия Дионисия Ареопагита и основополагающего для всего Средневековья его сочинения «От имён к безымянному» (ср. издание J. von E. von Ivánka, Введение: 15): „Если подчеркнуть значение “имён”, которые приписываются Богу на основании его отношения к творениям ‹...›, то тот факт, что теургия, Познание имён божественных существ и возвышение в высшие духовные сферы через вызывающее речение таких имён имело большое значение в тайном языке неоплатонизма”. Апофатически Бог „безымянный”, катафатически он „прославлен всеми именами” (Дионисий, там же: 41).
 58
58 “Смысл” получает свое высшее выражение в имени (А.Ф. Лосев, там же: 32). Исходя из комментария Прокла к платоновскому «Кратилу», а также Гегелю (Энциклопедия, §§ 458–464) “имя” и “вещь” едины. У А. Потебни (Мысли вслух.
Харьков. 1913. С. 144) “слово” есть „самая вещь”. Вещь опознаётся по имени, потому что „если “имя” содержит “вещь”, то в нём должно быть структурное соответствие вещи” (Лосев, там же: 158), которое не следует отождествлять с единосущностью “имени” и “вещи”: „имя есть вещь как смысл вещи; оно в умном смысле есть сама вещь” (там же). Таким образом, между “именем” и “вещью” существует диалектическая связь (в отличие от тавтологической в архаико-магическом мышления).
————————
ЛитератураAbraham, A., Torok, M. 1979: Kryptonymie. Das Verbarium des Wolfsmanns. Mit einem Beitrag von Jacques Derrida.
Frankf.a.M.–Berlin–Wien.
Альтман, М.С. 1982: О собственных именах в произведениях Гоголя // Finis duodecim lustris. Сб. ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана.
Таллин. С. 106–109.
Бахтин, М. 1965: Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса.
М.
Баевский, В.С., Кошелев, А.Д. 1979: Поэтика Блока: анаграммы // Русская культура ХХ века. Блоковский сборник, III.
Тарту. С. 50–75.
Barthes, R. 1972: Proust et les noms // To Honour Romans Jakobson.
The Hague-Paris.
Булгаков, С.Н. 1953: Философия имени.
Париж.
Башмакова, Н. 1987: Слово и образ. О творческом мышлении Велимира Хлебникова.
Хельсинки.
Белый, А. 1910: Символизм. Книга статей.
М.
Белый, А. 1911: Арабески.
М.
Белый, А. 1922: Глоссалалия. Поэма о звуке.
Берлин.
Белый, А. 1934: Мастерство Гоголя. Исследование.
М.–Л.
Безродный, М.В. 1986: Из комментариев к поэме Блока «Двенадцать» // А. Блок и основные тенденции развития литературы начала ХХ века. Блоковский сборник, VII.
Тарту. С. 76–81.
Blumenberg, H. 1979: Arbeit am Mythos.
Frankf.a.M.
Blumenberg, H. 1981: Die Lesbarkeit der Welt.
Frankf.a.M.
Брюсов, В. 1973: Собрание сочинений. Т. I.
Брик, О.М. 1919: Звуковые повторы // Поэтика.
Пг. С. 58–100.
Campbell, J. 1978: Der Heros in tausend Gestalten.
Frankf.a.M.Cassirer, E. 1923: Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache.
Berlin.
Cassirer, E. 1925: Zweiter Teil: Das mythische Denken.
Berlin.
Cassirer, E. 1929: Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis.
Berlin.
Хлебников, В. I–V 1929–1933: Cобрание произведений.
Л.
Хлебников, В. НП: Неизданные произведения. Поэмы и стихи. Проза.
М.
Derrida, J. 1976: Die Schrift und die Differenz.
Frankf.a.M.
Derrida, J. 1979: Die Stimme und das Phänomen. Ein Essay über Probleme des Zeichens in der Philosophie Husserls.
Frankf.a.M.
Dionysius Areopagita 1911: Des Heiligen Dionysius Arcopagita Angebliche Schriften über die beiden Hierarchien.
Kempten/München.
Dionysius Areopagita o.J.: Von den Namen zum Unnennbaren. Auswahl und Einleitung von Endre von Ivánka.
Einsiedeln.
Durkheim, E. 1984: Die elementaren Formen des religiцsen Lebens.
Frankf.a.M.
Eco, U. 1987: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen.
München [Abschnitt: «Denotation von Eigennamen», 126 и далее].
Eismann, W., Grzybek, P. [Hg.]1987: Semiotische Studien zum Rätsel.
Bochum.
Эйхенбаум, Б. 1969: Как сделана «Шинель» Гоголя // Texte I. P. 122–159.
Elizarenkova, T. J., Toporov, V.N. 1987: Zum vedischen Rätsel des Typs Brahmodya // Semiotische Studien zum Rätsel.
Bochum. 1987. P. 39–73.
Флоренский, П.А. 1914: Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах.
М.
Флоренский, П.А. 1922: Строение слова / вступ. заметка, комм. С.С. Аверинцева // Контекст. 1972, 1973.
М. С. 344–375.
Фрейденберг, О. 1936: Поэтика сюжета и жанра. Период античной литературы.
Л.
Фрейденберг, О. 1978: Миф и литература древности.
M.
Freud, S. 1905: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten // Ges.Werke, 6. Bd.
Frankf.a.M.
Гаспаров, Б.М. 1978: Устная речь как семиотический объект // Семантика номинации и семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика, I.
Тарту. С. 63–121.
Gauger, H.-M. 1970: Wort und Sprache. Sprachwissenschaftliche Grundfragen.
Tübingen.
Головачёва А.В., 1987: К проблеме референции имени объекта обладания в тексте (на материале польских, чешских и русских художественных текстов) // Исследования по структуре текста.
М. С. 182–192.
Greber, E. 1987: Mythos, Name, Pronomen (am Material der russischen Literatur). Неопубликованная рукопись.
Григорьев, В.П. 1976: Ономастика В. Хлебникова: индивидуальная поэтическая норма // Ономастика и норма.
М.
Григорьев, В.П. 1979: Поэтика слова. На материале русской советской поэзии.
М.
Григорьев, В.П. 1986: Словотворчество и смежные проблемы языка поэта.
М.
воспроизведено на www.ka2.ruGrzybek, P. 1987: Überlegungen zur semiotischen Rätselforschung // Semiotische Studien zum Rätsel.
Bochum. P. 1–38.
Hansen-Löve, A. 1978: Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung.
Wien.
Hansen-Löve, A. 1982: Die ‘Realisierung’ und ‘Entfaltung’ semantischer Figuren zu Texten // Wiener Slawistischer Almanach, 10: 197–252.
Hansen-Löve, A. 1983: Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelationm von Wort-und Bildkunst. — Am Beispiel der russischen Moderne // Dialog der Texte / Hg.Wolf Schmid, W.-D. Stempel.
Wien. P. 291–360.
Hansen-Löve, A. 1984: Der russische Symbolismus. Diabolische und mythopoetische Paradigmatik.
Wien [в печати], 5 Bde [Bd. I erseh. 1989].
Hansen-Löve, A. 1985a: Die Entfaltung des ‘Welt-Text’-Paradigmas in der Poesie V. Chlebnikovs // Velimir Chtebnikov. A Stockholm Symposium / Hg. N.Å. Nilsson. Stockholm. P. 27–87.
Hansen-Löve, A. 1985b: Metamorphosen der ‘truba’ in der mythopoetischern Welt V. Chlebnikovs // Velimir Chlebnikov / Hg. J. Holthusen, J.R. Döring-Smirnov et al.
München. P. 71–105.
Hansen-Löve, A. 985c: ‘Erinnern – Vergessen – Gedächtnis’ als Paradigma des russischen Symbolismus. — Teil I: Diabolisches Modell // Wiener Slawistischer Almanach 16. P. 111–164.
Hansen-Löve, A. 1986a: Der ‘Welt-Schädel’ in der Mythopoesie V. Chlebnikovs // Velimir Chlebnikov (1885–1922): Myth and Reality. Amsterdam Symposium in the Centenary of Velimir Chlebnikov / Hg. W.G. Wcststeijn.
Amsterdam. P. 129–186.
Hansen-Löve, A. 1986b: Symbolismus und Futurismus in der russischen Moderne // The Slavic Literatures and Modemism. A Nobel Symposium (1985).
Stockholm. P. 17–48.
Hansen-Löve, A. 1987: Velimir Chlebnikovs poetischer Kannibalismus // Poetica 19. Bd. 1–2.P. 88–133.
Hansen-Löve, A. 1989a: позиция А. Кручёных в рамках русского футуризма и в сопоставлении с мифопоэтикой В. Хлебникова.
Париж.
Hansen-Löve, A. 1989b: Die ‘Formal-philosophische Schule’ in der russischen Kunsttheorie der Zwanziger Jahre (в печати).
Hagemeister, M. 1983: V.N. Murav’ev (1885–1931) und das ‘Prometheische Denken’ in der frühen Sowjetzeit //
В.Н. Муравьёв. Овладение временем.
M. 1924. Перепечатка:
München. 1983. P. 1–27.
Hagemeister, M. 1985: P.A. Florenskij und seine Schrift ‘Mnimosti v geometrii (1922)’ //
П.А. Флоренский. Мнимости в геоиетрии. Перепечатка:
München. P. 1–56.
Haardt, A. 1983: Die Kunsttheorie Aleksej Losevs. Grundzüge und Voraussetzungen //
A.F. Losev. Диалектика художественной формы.
M. 1927.
München. XIII–XXVIIII.
Hocke, G.R. 1987: Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der europäischen Literatur.
Reinbek bei Hamburg.
Holenstein, E. 1975: Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus.
Frankfurt.a.M.
Hörisch, J. 1979: Das Sein der Zeichen und die Zeichen des Seins. Materialien zu Derridas Ontosemiologie // J. Derrida 1979: 7–50.
Ingold, F.Ph. 1978: Zur Komposition von Chlebnikovs Kranich-Poem (‘Żuravl’’) // Schweizerische Beiträge zum VIII Internationalen Slavisten-kongreß in Zagreb und Ljubljana. 1978.
Bern–Frankf.a.M.–Las Vegas.
Иванов Вячеслав I-IV 1971 и позже: Собрание сочинений.
Bruxelles.
Иванов В.В. 1972: Два примера анаграмматических построений в стихах позднего Мандельштама // Русская литература, 3. C. 81–87.
Иванов В.В. 1976: Очерки по истории семиотики в СССР.
М.
Иванов В.В. 1987: О взаимоотношении динамического исследования эволюции языка, текста и культуры // Исследования по структуре текста.
М. С. 5–26.
Иванов В.В., Топоров В.Н. 1965: Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период).
М.
Якобсон Р.О. 1921: Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Виктор Хлебников // Texte II. 1972. P. 18–135.
воспроизведено на www.ka2.ruJakobson R.O. 1957: Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb //
Jakobson R.O. 1971: Selected Writings II, Word and Language.
The Hague. P. 130–147.
Jung, C.G. 1976: Die Dynamik des Unbewussten.
Olten und Freiburg i. Br. [Gesammelte Werke, Band 8].
Каменский В.В. 1917: Девушки босиком.
Тифлис.
Каменский В.В. 1918: Его-моя биография великого футуриста.
М.
воспроизведено на www.ka2.ruКарапетьянц А.М. 1972: Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах (Китай до середины I-го тысячелетия до н.э.) // Ранние формы из. искусства.
М. С. 444–466.
Kittel, G. 1954: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament.
Fünfter Band, Stuttgart (Artikel “onoma” von Bietenhard, 242–283].
Klages L. 1948: Die Sprache als Quell der Seelenkunde.
Zürich.
Кручёных 1923: Сдвигология русского стиха.
М.
Кручёных 1924: 500 новых острот и каламбуров Пушкина.
М.
Кручёных 1925: Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Л. Леонова, И. Бабеля, И. Сельвинского, А. Весёлого и др.
М.
Кручёных 1973: Избранное. Selected Works / ред. и предисловие В. Маркова.
München.
перевод предисловия на www.ka2.ruКукушкина Е.Ю. 1981: О предпосылках паронимии в лирике А. Блока // Проблемы структурной лингвистики.
М. С. 195–204.
Lacan, J. 1975: Das Seminar über E.A. Poes ‘Der entwendete Brief’ // Schriften I,
Frankf.a.M. P. 7–60.
Lachmann, R. 1982: Der Potebnjasche Bildbegriff als Beitrag zu einer Theorie der ästhetischen Kommunikation. (Zur Vorgeschichte der Bachtinschen ‘Dialogizität’) // Dialogizität.
München. P. 29–50.
Lachmann, R. I 1987: Mythos oder Parodie: Nabokovs Buchstabenspiele // Mythos in der slawischen Moderne. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 20.
Wien. P. 399–421.
Lévinas, E. 1988: Eigennamen. Meditationen über Sprache und Literatur. Textauswahl und Nachwort von Felix Philipp Ingold.
München-Wien.
Lévi-Strauss, Cl. 1967: Strukturale Anthropologie.
Frankf.a.M.
Lévi-Strauss, Cl. 1973: Das wilde Denken.
Frankf.a.M.
Lévi-Strauss, Cl. 1975: Mythologica IV. Der nackte Mensch, 2.
Frankf.a.M.
Левинтон Г.А. 1975: Замечания к проблеме ‘Литература и фольклор’ // Семиотика. Труды по знаковым системам, 7.
Тарту. C. 76–87.
Lönnqvist, B. 1979: Xlebnikov and Carnival. An Analysis of the Poem Poét.
Stockholm.
воспроизведено на www.ka2.ruЛосев, А.Ф. 1927: Диалектика художественной формы.
М. [
München. 1983].
Лосев, А.Ф. 1927: Философия имени.
M.
Лотман, Ю.М., Минц, З.Г. 1981: Литература и мифология // Труды по знаковым системам, 13.
Тарту. C. 35–55.
Лотман Ю.М., Успенский В.А. 1973: Миф — имя — культура // Труды по знаковым системам, 6.
Тарту. C. 282–303.
Маяковский, В. 1955: Полное собрание сочинений. Т. I.
М.
Malevič. K. 1962: Suprematismus. Die gegenstandslose Welt.
Köln.
Манифесты 1967: Манифесты и программы русских футуристов / ред. В. Марков.
München.
Mauss, M. 1978: Soziologie und Anthropologie, Band 1. Theorie der Magie. Soziale Anthropologie. Band II: Gabentausch. Todesvorstellungen. Körpertechniken.
Frankf.a.M.
Мейлах, М. 1975: Об именах Ахматовой I. Анна // Русская литература, 10/11. C. 33–58.
Мелетинский, Е.М. 1985: О поэтике древнегерманских личных имён // Структура и функционирование поэтического текста. Очерки лингвистической поэтики.
М. С. 107–114.
МНМ I–II 1981: Мифы народов мира. Т. I.
МНМ I–II 1982: Мифы народов мира. Т. II.
Минц, З.Г. 1979: О некоторых ‘неомифологических’ текстах в творчестве русских символистов // Творчество А.А. Блока и русская культура ХХ века. Блоковский сборник, 3.
Тарту. С. 76–102.
Mirsky, S. 1975: Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs.
München.
воспроизведено на www.ka2.ruНабоков, В.В. 1938: Соглядатай [
Ann Arbor. 1978].
Николаева, Т.М. 1987: Метатекст и его фукнции в тексте (на материале Мариинского Евангелия) // Исследования по структуре текста.
М. C. 133–147.
Nozsicska, A. 1985: Inwiefern gerhört das Vergessen in den Bereich der Sprache? // Wiener Slawistischer Almanach, 16. P. 233–316.
Philo von Alexandria 1938: Die Werke Philos von Alexandria, 6. Teil / Hg. von I. Heinemann.
Breslau.
Пушкин, А.С. I–II–III 1962: Полное собрание сочинений. Стихотворения.
М.
Rajec, E.M. 1981: The Study of Names in Literature. A Bibliography-Supplement.
München.
Rister, V. 1985: Ime lika — A. Belyj // Poijmovnik ruske avangarde. Bd. 4.
Zagreb. P. 51–63.
Rister, V. 1987: Ime lika — A. Platonov // Pojmovnik ruske avangarde. Bd. 5.
Zagreb. P. 35–50.
Ranke-Graves, Robert von 1985: Die weiße Göttin. Sprache des Mythos.
Reinbek bei Hambg.
Rudolph, K. 1980: Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion.
Göttingen.
Schelling, F.W.J. 1928: Schellings Werke. 6 Hauptband. Schriften zur Religionsphilosophie 1841–1854.
München.
Schmid, W. [1973] 1986: Der Textaufbau in den Erzählungen Dostoevskijs.
München.
Scholem, G. 1973: Der Sinn der Tora in der jüdischen Mystik // Zur Kabbala und ihrer Symbolik.
Frankf.a.M. P. 49–116.
Scholem, G. 1980: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen.
Frankf.a.M.
Смирнов И.П. 1977: Художественный смысл и эволюция поэтических систем.
М.
Сологуб, Ф. 1975: Стихотворения. Б-ка поэта. Большая серия.
Л.
Соловьёв, Вл. 1911–1914: Собрание сочинений. В.С. Соловьёва, 2-е изд.
СПб.
Starobinski, I. 1980: Wörter unter Wörtern. Die Anagramme von Ferdinand de Saussure.
Frankf.a.M.
Степанов, Ю.С. 1985: В трёхмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства.
М.
Texte I (1969): Texte der russischen Formalisten. Band I: Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa,
München.
Texte II (1972): Texte der russischen Formalisten. Band II: Texte zur Theorie des Verses und der poetischen Sprache,
München.
Топоров, В.Н. 1981: Из исследований в области анаграммы // Структура текста – 81.
M. С. 109–121.
Топоров, В.Н. 1981: Имена // Мифы народов мира. Т. I. С. 508–510.
Топоров, В.Н. 1982: Письмена // Мифы народов мира. Т. II. С. 314–316.
Топоров, В.Н. 1983: Пространство и текст // Текст: семантика и структура.
М. С. 227–284.
Топоров, В.Н. 1987: Заметки по реконструкции текстов // Исследования по структуре текста.
М. С. 99–132.
Топоров, В.Н. 1987b: К исследованию анаграмматических структур (анализы) // Исследования по структуре текста.
М. С. 192–283.
Топоров, В.Н. 1988: О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках.
М. С. 7–60.
Trabant, I. 1985: Die Einbildungskraft und die Sprache. Ausblick auf Wilhelm von Humboldt // Neue Rundschau, 3/4. P. 161–182.
Тынянов, Ю. 1965: О Хлебникове // Проблемы стихотворного языка. Статьи.
М.
воспроизведено на www.ka2.ruUsener, H. 1929: Göttemamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung.
Bonn.
Vico, Giambattista 1966: Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker. Nach der Ausgabe von 1744 übers.
Von E.Auerbach, Reinbek bei Hamburg.
Wolf, U. [ред.] 1985: Eigennamen. Dokumentation einer Kontroverse.
Frankf.a.M.Zima, P. 1978: Der mimetische Diskurs. Ein Versuch über Marcel Prousts Noms de pays: le nom (Ortsnamen. Namen überhaupt) // Kritik der Literatursoziologie.
Frankf.a.M. P. 178–232.
Воспроизведено по:
Wiener slawistischer Almanach, 21. 1988. P. 185–222.
Перевод В. Молотилова
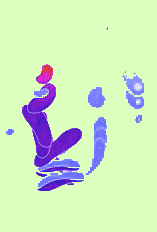
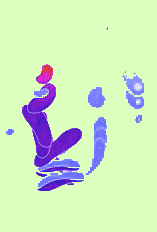
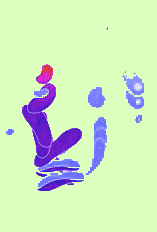
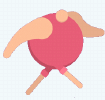
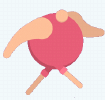
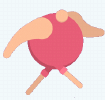
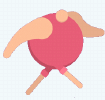
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()