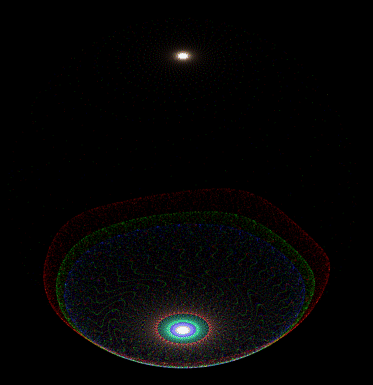О. Ханзен-Лёве
Ономатопоэтика Велимира Хлебникова. Имя и анаграмма.
Продолжение. Предыдущие главы: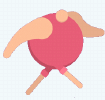
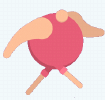
Начнём с простейшего случая — металингвистического поэтического текста (части), — который в наиболее чистом виде представлен в следующем отрывке. Между прочим, следует отметить и здесь тесную связь расчленения слова-тела и упомянутого выше культового жертвоприношения “слова-плоти” как “пищи богов”:
Плаха плохо только тем,
Что на ней рубят головы людям.
Так государство и ты
Очень хорошее слово со сна —
В нём есть 11 звуков:
Много удобства и свежести.
Ты росло в лесу слов:
Пепельница, спичка, окурок,
Равный меж равными;
Но зачем оно кормится людьми? ‹...›
То зачем эта пища богов?
II: 19
11-буквенное слово ‘государство’ есть “слово-вещь”; “словотворец” тоже состоит из “звуков”, он тоже “вещий” и “вещный”:
Да, есть реченья князь и кнезь.
Вершинней тот из них, кто вещ,
И меньше тот из двух, кто вещь.
Огрезьте грязь приказом: грезь!
И стану я из звуков весь.
НП: 270
В случае паронимии, хорошо здесь представленной, в качестве дифференцирующего элемента используется фонема (‘меч’, ‘мяч’ и т.д., или здесь:
князь |
кнезь |
вещ |
вещь и т.д.), которая актуализируется, даже персонифицируется.
34
В случае анаграмматики звукам присущи не отрицательно определяемые (функциональные) дифференциальные (т.е. апофатические) качества, а их собственные сущности — носители значения, фигуры и лица, подобно “имя-слову” и “звуко-людям”. Персонифицируя Мировой Алфавит, они выходят из вторичного уровня Текста 2 в область нарративной фикции Текста 1, — этот процесс Хлебников назвал в поэме «Царапина по небу»
Порывом в языки |
Соединением звёздного языка и обыденного (III: 75):
Где рой зелёных Ха для двух,
И Эль одежд во время бега,
Го облаков над играми людей,
Вэ толп кругом незримого огня,
Ча юноши, До ласковых одежд,
Зо голубой рубахи юноши,
Пе девушки червонная сорочка,
Ка крови и небес, ‹...›
Эс смеха, Да веревкою волос,
Где рощи — Ха весенних тел,
А брови Ха для умных взоров. ‹...›
В мифопоэтической “звукописи” “божественные звуки” летят к человеку сверху (Божественные звуки, слетающиеся сверху на призыв человека, III: 336), функциональные “фонемы” выходят на мифопоэтически декорированную сцену и начинают, предварительно находясь в рабском состоянии “объектного языка”, близкий к говорению акт:
Мы
Были жратвой чугуна,
Жратвою, — жратва!
И вдруг же завизжало,
Хрюкнуло, и над нею братва как шершнево жало,
Занесла высоко
Кол
Священной
Огромной погромной свободы.
Это к горлу же
Бэ
Приставило нож, моря тесак.
Хрюкает же и бежит, как рысак.
Слово братва, цепи снимая ‹...›
Свободы пожар! Пожар. Набат.
Хрюкнуло же, убежало. — Брат!
НП: 61
Исторический фон, мифизированный здесь, — мировая война, в ходе которой мать-земля (а значит, и родная речь) “съедена” (Тогда шкуру стран съедает моль гражданской войны, III: 325) — и только отдельные звуки могут спасти себя, освободившись от ограничений условного языка (от рамок лексемы) и вступив в новые братства:
Расскажи про наше страшное время словами Азбуки! Чтобы мы не увидели войну людей, шашек Азбуки, а услышали стук длинных копий Азбуки. Сечу противников: Эр и Эль, Ка и Пэ ! ‹...› Мы знаем: Эль — остановка широкой площадью поперечно падающей точки, Эр — точка, прорезавшая, просекшая поперечную площадь. Эр — реет, рвёт, рассекает преграды, делает русла и рвы.
Пространство звучит через Азбуку.
Говори!
III: 325
“Звуко-люди” Эр, Ка, Эль и Гэ, эти воины азбуки, были действующими лицами этих лет | Богатырями дней (там же, 330); их фонетическая форма отделена от письменной формы наличных лексем:
‹...› Если орёл, сурово расправив крылья косые, тоскует о леле, | Вылетит Эр, как горох из стручка — из слова Россия.
III: 327
Сравните с этим также:
Упало Гэ Германии
И русских Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала.I: 188Но рушатся первые цепи
И люди сразились и крепи
Сурового Како!
Как? Как? Как?
Так много их:
Ка... Ка... Ка...
Идут, как новое двуногое,
Колчак, Корнилов и Каледин. ‹...›
Шагает Ка,
Из брёвен наскоро
Сколоченное ‹...›
I: 294–29535
И тот, чья месть горда, надменна, высока,
В потомстве Каина не видит „ка”.II: 80
В нижеследующем отрывке текста и имя поэта (Асеев), и гипостазированная форма “буквы” или “слова” (Глагол) — также продукт фрагментации языкового тела России войной — являются отправными точками метаморфоз:
Когда сошлись Глагол и Рцы
И мир качался на глаголе
Повешенной Перовской,
Тугими петлями войны,
Как маятник вороньих стай —
Однообразная верста!
Столетий падали дворцы,
Одни осталися Асеевы,
Вы, Эр, покинули Расею вы,
И из России Эр ушло,
Как из набора лишний слог,
Как бурей вырвано весло...
И эта скобок тетива,
Раскрытою задачей,
От вывесок пив и пивца
I: 294
Это “расчленение” и пересборка словарных тел (особенно топонимов) часто происходит в результате битв (войны и расчленения трупа). Здесь незамедлительно включается мотивация инсценировки анаграммы:
Дремали здесь мёртвые битвы
С высохшей кровью пены и пана.
Это Бештау грубой кривой,
В всплесках камней свободней разбоя,
Похожий на запись далёкого звука,
На А или У в передаче иглой
И на кремневые стрелы ‹...›
НП: 52
В следующей цитате графическая фиксация слов (“надпись”) также (де)трансформируется из-за внешних воздействий:
На глухом полустанке
С надписью «Хапры»,
Где ветер оставил «Кипя»
И бросил на землю «ток»,
Ветер дикий трёх лет. ‹...›
III: 228
Где Волга скажет „лю”,
Янтцекиянг промолвит „блю”,
И Миссисипи скажет „весь”,
Старик Дунай промолвит „мир”,
И воды Ганга скажут „я”,
Очертит зелени края
Речной кумир. ‹...›
Язык любви над миром носится
И Песня песней в небо просится. ‹...›
И в чертежах прочту судьбы я ‹...›
I: 189
‹...› И мир лишь падеж к слову „любовник — я”
II: 283
Процесс языковой замены представлен как метаморфическая трансформация. В архаическом языковом космосе хлебниковского «Зангези» налицо тотальная анаграмматичность и паронимичность. Во многих других текстах — особенно в гротескных и сатирических жанрах — эта тотальность противопоставлена нетворческому бытовому и рассудочному языку. Это тот фон восприятия, на котором словесно-художественный процесс (включая анаграмму) приобретает комические черты. Как это часто бывает, “забавное” здесь — обратная сторона “космического”.
Наиболее прозрачными являются те случаи, когда процесс письма представляет собой именно тот уровень действия, на котором “разворачивается” (обычно субститутивное) изменение в алфавитном или фонемном статусе существующих слов или имён. Это “написание иначе” обычно представляется как волюнтаристский акт освобождения от орфографических правил, программно постулируемое нарушение которых, помимо простого эффекта отчуждения, запускает и новаторские поэтические процессы:
Я хочу слово чёрный писать через “о”.
А вы любите в поле кузнечика.
Разорвано вновь кимоно,
И краснеет прекрасное плечико.
НП: 263
Следующий пример демонстрирует преобразование ‘кОроль’ в ‘кролИК’, где опущение фонемы /о/ компенсируется добавлением морфемы {ик}. Эта же морфема встречается и в лексеме #дИКий#, семантика которой связана с контекстом значения, маркируемого ‘кроликом’. Тот факт, что ‘кролик’ и ‘король’ на самом деле этимологически родственны (вспоминается и немецкое ‘Küniglhase’), является такой же частью игры преобразования, как и развитие трансформации фонемы в графемную плоскость, которая так популярна в футуризме: из лексемы (точнее, из графемного фонда слова ‘король’) вычеркнутая графема /о/ напоминает по своему написанию “кольцо”: “пропуск” кольцеобразного /о/ воспринимается буквально и, таким образом, становится “подлинным” (или постановочным) разворачивающимся действием. Кольцо
катится по полу после падения слова (находящегося где-то “наверху”) или соскальзывания с пальца
короля. Появление графемы или фонемы /о/ дважды в ‘кольцо’ и трижды в ‘золотое’ дополняет картину:
36
Ныне в плену я у старцев злобных.
Хотя я лишь кролик пугливый и дикий,
А не король государства времен,
Как зовут меня люди:
Шаг небольшой, только „ик”,
И упавшее О, кольцо золотое,
Что катится по полу.
II: 246
Остается дополнить трансформацию фонемы /ик/ из ‘дикий’ в гексаморфную восклицательную лексему #ик#, выражающую эффект неожиданности от опасной, словоразрушающей “оплошности”.
В следующей строфе того же текста роковая роль /о/ скрыта в слове ‘он’, которое, в свою очередь, вырезано из лексемы #сон#, а также из некоторых других слов в окрестности. Инверсия от “сон” к “нос” точно так же очевидна. В этом контексте следует отметить важную роль “слона” в мифопоэтике Хлебникова, анаграмматическая связь которого с описываемым здесь комплексом дополняется его паронимическим происхождением от “слово”:
Меня проносят на слоновых
Носилках — слон девицедымный.
Меня все любят — Вишну новый,
Сплетя носилок призрак зимний. ‹...›
И вы, зачарованы сном,
Сплетайтесь носилками тесно. ‹...›
НП: 259
Связь между словами
“слон” и
“конь”, а также между “имя” и “носитель” (т.е. “носитель имени”) очевидна в следующей цитате:
37
Длинные руки из камня слонового токарь прекрасного рока высек и выточил для восхищения и взоров. ‹...› Спускались камня слонового шуйцы. ‹...›
Но конский череп был поднят на темя, как шлем. ‹...›
Сейчас вселенная — жемчужная раковина для жемчужины твоей смерти. Ты новый звук, вошедший в её слух. Крыло водяное объемлет тебя и уносит. Я старого лебедя шея. Так я спасу от страданий. Жизнь им имя, чело их носитель. Время страданий твой век. ‹...›
НП: 314–315
Вы были строгой, вы были вдохновенной,
Я был Дунаем, вы были Веной. ‹...›
Панна пены, панна пены,
Что вы — тополь или сон?
Или только бьётся в стены
Роковое слово “он”?
II: 246
Инверсионная звуковая форма ‘он’ — ‘но’ — может быть не менее эффектно “вырезана” из другой лексемы — процесс, овеществленный в следующем фрагменте текста “разбитым оконным стеклом”
окНО:
38
В избе бревенчатой событий
Порой прорублено окно —
Стеклянных дел
Задумчивое но.
Бревенчатому срубу,
Прозрачнее окна,
Его прозрачные глаза,
На тайный ход событий
Позволят посмотреть.
I: 293–294
‹...› Город был поднят бивнями звёзд,
Чёрные окна темнели как О, ‹...›
III: 226
‹...› Что катятся в окно,
Ручей-печаль, чей бег небесен, ‹...›
Из небытия людей в волне
Ты вынул ум, а не возвысил
За смертью дремлющее “но”.
Или игрой ночных очей ‹...›
На лоне ночи светозарных ‹...›
Иль мне не быть сказкой суждено?
Но пощади меня! Отважен
Переверни концом копьё!
I: 158
‹...› Утратил вожжи над собой
Я в этот год, забывший, кто я.
Но поздно, поздно бить отбой,
Пускай прикроют песни Ноя.
Носатый бес отворит двери,
И вас засыпет град вопросов. ‹...›
Я со стены письма Филонова
Смотрю, как конь усталый, до конца.
И много муки в письме у оного,
В глазах у конского лица.
НП: 237
‹...› Ведь это вы сидели в ниве,
Играя полночью на нитях кос.
Ведь это вы, чтоб сделаться красивей,
Покрылись мёдом — радость ос. ‹...›
Мы вместе сидели на скошенном жите,
Здесь не было “да”, но не будет и “но”.
Что было — забыли, что будет не знаем.
Здесь божия матерь мыла рядно
И голубь садится на темя за чаем.
II: 238; V: 400
Всем нижеследующим примерам присущ комический эффект: решение добавляется к звуковой загадке (по собственной инициативе), более того, “решение” даётся без реальной постановки задачи. В рамках поэзии гротеска здесь нужно было бы говорить о каламбуре анаграммы, в контексте сатирически-комической родовой функции “абсурдных” головоломок-анаграмм:
‹...› Слушай, там в дверях дощечка:
«Прошу стучать».
Браток поставил “к” — вышло:
«Прошу скучать»
На дверях гроба молодого,
Где сёстры мёртвого и вдовы.
Ха-ха-ха!
I: 264
Тиран без T
I: 239
Недаром, приделай -атый —
Из бога выйдет богатый.
В один гроб закопать их лопатой!
III: 249
‹...› Лети в материк А
Письмо летерика.
III: 206
‹...› И по-немецки пел кулёк:
Я есмь, я есмь, я был.
Из храма
Мы вынем р и вставим ель.
Для хлама
Нужный свиристель.
НП: 235
Но Эль настало — Эр упало.
Народ плывёт на лодке лени
И порох боевой он заменяет плахой,
И плащаницами — прашу... и голодом старинный город,
И гордых голыми.
А Эр луга заменит руганью,
Латы — ратью ‹...›
Застроит храмом хлам и в городах изгонит голод.
III: 328
Это шествуют Творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.
I: 184
‹...› О ком,
Речи несутся от края до края.
Что брошено ими “уми”
Из умирая.
I: 284
‹...› Тает в дымчатых сумерках лес, но
Ещё милей туманное слово “прелестно”.
Ах!.. Мы изнемогли в вечной вечного алчбе!
А дитя, передразнивая нас, пропищало „бе!”
II: 284
Особо загадочную анаграмму Хлебников ставит в гротескном обрамлении своей пьесы «Маркиза Дэзэс» (НП: 86 = IV: 236).
Развеяли ветра. Над бездною стою. Не “ять” и “е”, а “е” и “и”!
Не “ять” и “е”, а “е” и “и”! Голос не умолкший смерти.
Кого — себя? Себя для смерти! Себя, взиравшего! о, верьте, мне поверьте!
Н. Харджиев и Т. Гриц в своём комментарии к этому тексту предлагают в качестве решения расшифровать каламбур к смерти как смерьте (т.е. как повелительное наклонение, соответствующее рифмующемуся слову ‘(по)верьте’, тоже повелительного наклонения). Такого рода вербализации отнюдь не редкость для хлебниковских неологизмов. Впрочем, решение даёт сам автор — до и после:
Мои имения мне принесут земную мощь!
В “вчера” мы будем знать улыбку тёщ. ‹...›
Убийца вещей, я в сердце миру нож свой всуну!
Божество. Стать божеством. Завидовать Перуну.
Я новый ужас влагаю в “смерьте”.
IV: 235–236
Бог от “смерти” и бог от “смерьте!”
IV: 237
Помимо мифопоэтической проблематики (женского) мотива смерти (и отсылки к символической фигуре Анимы, например, у А. Белого или Вяч. Иванова), этот пассаж отвечает и футуристическому требованию разрушения старого правописания, реформа которого — наряду с ликвидацией твёрдого знака в окончаниях слов — повлекла за собой и ликвидацию буквы “ять”. Оглядываясь назад, футурист В. Каменский в своей книге «Путъ энтузиаста» (М. 1931, 133) вспоминает требование: „‹...› выкинуть осточертевшие буквы ять и твёрдый знак”. У Хлебникова тоже есть целый ряд аналогичных пассажей, которые, что любопытно, иногда тоже связаны с мотивом “смерти”:
Смерть смерти будет ведать сроки,
Когда вернётся он опять,
Земли повторные пророки
Из всех письмен изгонят ять.
I: 185
Стал невесел он, как деверь,
Не даёт старик тебе вер.
Прямо старого не взять,
Вижу кож и рукоять.
Но вы сделали ошибку,
Вместе е поставлю ять.
Чу, сокрыв свою улыбку,
Хочет малый год пенять.
НП: 36
В отличие от замены “ять” на “e”, “ять” и “ы” находятся в оппозиции:
Изберём даа слова: лысина и лесина. Горы, лишённые леса, зовутся лысыми; самое место изчезнувшего леса — лысиной; отдельное дерево, часть леса — лесина.
Не должно ли приписать обратность смысла в этих различающихся гласной словах переменой ять на ы? Считать носителем величины сходства л·с, а путями неравенства — ять и ы?
НП: 325
Различие между “е” и “ять” в звёздном языке Хлебникова указывает на элементарную вертикальную оппозицию: /е/ обозначает движение вниз (упадок, упадать, V: 189), в то время как Ять — соприсутствует бытию льнения кверху или самый краткозвучный носитель смысла бытия (НП: 328 — ср. Н. Башмакова: 211). Именно в этом проявляется фундаментальная полярность ‘вещи’, которая, следуя закону гравитации, тянет “вниз”, а ‘вѣщий’ (пишется с “ять”) — пророчествующего “poeta vates”, и его невесомое воспарение, в категориях “пространственного состояния”, — вверх.
ѣ — это и (типо)грамма, и морфема, и лексема, чьё анаграмматическое олицетворение предстаёт в виде женственной “Смерти”. Естественная, архаическая динамика революции и войны имеет “наборную кассу литер”, из чего становится ясно, что космический “наборщик” сродни демиургическому “словотворцу”:
Ах, драки знаков свинцового набора, что они лежат в другом порядке, в порядке другого слова, чем то, которое им по сердцу, их кладёт свинцовой пылью одетая рука, а они обвиняют друг друга, и думают, что ять больше виноват, чем е.
IV: 307
Космический “наборщик”, который создаёт исторические законы и всегда их перекомпоновывает, оказывается универсальным анаграмматиком, в чьих руках исторические факты и цифры именуются “судьбой”:
Столетье мира кончил точкой
Наборщик “рок” без опечатки ‹...›
НП: 450
С этой точки зрения правильное написание собственного имени приобретает судьбоносное значение, поскольку выбор правильной графемы решает вопрос между жизнью и смертью, войной и миром:
Я предвижу ужасные войны из-за того, через ять или е писать моё имя.
IV: 48
4. Имя Бога
Имена богов в мировых религиях лишь в ограниченной степени являются именами собственными, хотя боги „приобретают личность, историю и миф лишь тогда, когда у них есть имена” (Kittel, V: 243); имя суть выражение “значительности”. Поэтому знание (правильного) имени Бога необходимо человеку для обретения „магической власти над Богом” (посредством призывания) (там же, 243): „Когда имя произносят или взывают к нему, вызываемый появляется и действует ‹...› Подразумевается точное знание всех имён, конечно” (там же). Согласно Блуменбергу (1981: 88), существует
острое соперничество между ориентацией теории на идеал отображения и идеалом имени. Ибо имя вещи не может быть воспринято из её образа или суммы её образов, но даёт власть даже над тем, что невозможно себе представить.
Согласно Платону, имя становится “эйдосом” того существа, которое оно обозначает, а внешняя форма слов, напротив, — скрывает этот “эйдос”, ибо люди утратили знание истинных имён богов. Этимология образует мост между условной символикой имён и мифо-магическим их происхождением.
В архаическом мышлении речевой акт тождественен действию (Фрейденберг, 1936: 104 и далее). В акте инвокации, т.е. назывании имени божества, его сущность становится явной и действенной: „Всякое слово тождественно действию; всякое вызвание есть воспроизведение действия.” (там же). Действие же приводит к изменению имён: „герой делает только то, что сам означает” (там же, 249).40
В Ветхом Завете этимология имён тоже является главным источником знаний; имя является частью обозначаемого лица. Прежде всего, это относится к энергетическому действию имени ‘Яхве’, которое „заменяет лицо” (Kittel, 5: 257). Сам Яхве оглашает своё имя перед Моисеем, чтобы „объявлять его насущность” (259), ибо имя призываемого Бога действует через самое себя: „Бог есть само имя” (250) — и наоборот: имя есть Бог, божественное, Мана. Именно в Каббале — как, вообще, в (иудейском) гнозисе имя Божие считается существенной сущностью любой теологии: „Ибо язык Божий не имеет грамматики. Он состоит только из имён” (Blumenberg 1979: 43). Таким образом, ветхозаветный рассказ о Творении является доказательством „всемогущества языка” (57).
Понимание имени Бога как высшей концентрации божественной силы (“dynamis”) представляет собой связь между магической или архаико-мифической концепцией языка и мистической или гностической каббалой (G. Scholem 1973: 55 и далее). Тора находится в центре каббалистической магии речи. В целом это рассматривалось как тайная комбинация букв, все из которых могли быть получены из фонетики имени Бога (Яхве) (57). Комментарии к Торе Моисея бен Нахмана (Scholem 1973: 57) имеют решающее значение для этой магии имен, которая была развита главным образом в Испании на рубеже XII века: „У нас есть достоверное предание, что вся Тора состоит из имён Бога, а именно: точно такие же слова, которые мы читаем, могут быть выведены совершенно другим способом — как эзотерические имена”. Таким образом, Тора образует двойной текст: поверхностный, экзотерический — и загадочный, эзотерический, который может быть раскрыт посредством лингвистических мистических созерцаний. С этой точки зрения вся Тора образует „паутину прозвищ” из эпитетов Бога, все из которых разворачиваются из Тетраграммы (Яхве) (Scholem 1973: 62): „Тора есть имя Бога, потому что это живая ткань, “Текст” ‹...›, в котором истинное имя, Тетраграмматон, скрыто и косвенно выражено...” (там же). Это основное имя изменяется „перестановкой и комбинацией” — техника, которой владеет только посвящённый; он использует её, чтобы добраться до начальной точки криптограммы (то есть имени Бога) (63).
За этим каббалистическим языком стоит архаичная идея о том, что буквы образуют тело бога, что буквы его имени — это „Он Сам” (64). Следовательно, чтение букв этого имени есть соприсутствие с божественной сущностью. Другое древнее представление связывает этот процесс приобщения с “надеванием одежды”, тех самых облачений, той фактуры, из которой и на которой написано имя Бога (Scholem 1973: 182). Аналогичный процесс происходит и при христианском крещении. Здесь тоже речь идёт об „облачении духом”.
Буквы — самые настоящие строительные блоки, из которых зиждится Творение, в том числе человек (Голем в Каббале) (221). Всё Творение состоит из комбинации буквенных элементов (ср. греческое στιχεια), и отсюда следует, что всё сотворенное ‹...› „происходит от имени” (ср. также G. Scholem 1980: 138, 145, 163). Мистическое знание идёт по “пути имён”, точнее, имён букв, рассмотрение которых ведёт назад, к истокам. Деррида также ссылается на эту каббалистическую традицию, когда цитирует рабби Таля: „Бог — дитя своего имени” (J. Derrida 1976: 110, также 160 и далее). Однако в центре внимания современного человека находится не доступ непосредственно к первоначалу (которое кажется принципиально недоступным) — внимание сосредоточено на том, что “Бог-Демиург” — не творец, а „субъект трудов и манёвров, вор, мошенник, фальшивомонетчик, псевдоним, узурпатор, противоположность творческого художника, сущность ремесла и хитрости — Сатана.” (Derrida 1976: 278).
В мифопоэзии Хлебникова боги фигурируют как имена (собственные) и, наоборот, имена — метонимы божеств или хотя бы той Маны, той священной вещи, которую они означают.
Имя бога призывая,
В час истомы и досуга ‹...›
II: 51
‹...› множество имён, множество богов мелькнуло в сознании ‹...› Имена, вероисповедания горели как сухой хворост. Волхвы, жрецы, пророки, бесователи — слабый улов в невод слов 1000 ‹...› Имя Иисуса Христа, имя Магомета и Будды трепетало в огне, как руно овцы, принесённой мной в жертву 1918 году. Как гальки в прозрачной волне, перекатывались эти стёртые имена людских грёз и быта в мерной речи Флобера.
IV: 116
Ему заметно отдают
И угол и уют,
Богов родимых имена,
Ему покорны племена.
II: 69
И всё лишь ступюг к имени, даже ночная вселенная.
IV: 16
Мы верим, он бродит у водопада и повторяет имя Нефертити.
IV: 63
Ты помнишь имена этих славянских богинь?
V: 179
Святче божий!
Старец, бородой сед!
Ты скажи, кто ты?
Человек ли еси,
Ли бес?
И что — имя тебе?
Молчал.
Только нёс он белую книгу ‹...›
III: 309
Магически-мифическая действенность и святость вырастают непосредственно из сущности имени Божия, которое здесь, правда, не христианское, а (славянское) языческое:
На вилы,
Железные вилы, подымем
Святое для всех господа имя!
Святое, седое божие имя.
На небе — громовержец,
Ты на земле собольи шубы держишь?
III: 275
‹...› И на доске золотой имя записано: первою шла ‹...›
I: 218
„Скажи, соседка, — мой Создатель!
Кто та живая богоматерь?”
„Её очами теневыми
Был покорён страстей язык,
Её шептать святое имя
Род человеческий привык”.
I: 150
А имя, что носит
святой,
Давно уже краем забыто.
I: 115
То Лобачевский — ты,
Суровый Числоводск.
Для нас священно это имя.
НП: 194
‹...› И страшных имён мы не будем бояться.
III: 149
Странное свойство случая, оно проводит вас равнодушным мимо того, чему присвоено имя страшного ‹...›
IV: 40
О, какое страшное имя! Но почему только сейчас заметила я его? Только произнесла, и уже всё окрасилось в тёмный цвет и стало мрачным.
IV: 187
Я же шептал в темноте
Имя Мехди.
V: 36
Когда, наконец, я оберну свой ремень вокруг солнца, носящий моё
имя ‹...›
V: 131
Его ночными именами
Ночей одену голоса я.
V: 42
Было громкое имя и разговоры (хозяина) но телефону ‹...›
V: 129
Но для того, чтобы привести в исполнение своё намерение, им нужно услышать священное слово “ка”
IV: 209
Говорить (возвещать) “во имя Бога” (έν τω ονόματι, Kittel, 5: 261, 271) означает переносить энергетику носителя имени (божества) в данный знак текста:
Вы даже прямо говорите к юношам нашей земли и от имени юношей вашей ‹...›
V: 155
Ка от имени своих друзей передал мне поцелуй Аменофиса ‹...›
IV: 69
“Мана” имени, его аура, излучается как на его носителя, так и на окружающих: имя составляет “славу” своего носителя, она почти тождественно ему, сопутствует ему в памяти народа:
41
‹...› часто даёт большее счастье, чем всё, что делает славу и громкое имя, например, полководца.
IV: 298
Но он на далёком студёном море славит русское имя.
IV: 166
О, вы, что русские именем,
Но видом заморские щёголи,
Заветом „своё на не русское выменим”
Вы виды отечества трогали.
НП: 208
Он ушёл, но имя славится
В голосов бряцаньи общем,
Где ура, звон чаш и здравица.
НП: 390
В эти дни я был пустой обоймой и хотел все имена, все славы и все подвиги земного шара ‹...› вложить в пустую обойму моей души ‹...›
IV: 71
Царица я! копьём охоты,
Именам знатным кину: прочь!
II: 130
Имена гордые, народы, почестей хребты,
Над всем, всё попирая, призрак прыгал.
II: 107
Где Россия произносит имя казака, как орел клёкот.
НП: 288
Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола.
IV: 30
Гилеи великой знакомо мне имя ‹...›
II: 116
И не должны ли мы приветствовать именем „первого русского, осмелившегося говорить по-русски” — того, кто ‹...›
НП: 322
Горит свеча именем разум в подсвечнике из черепа ‹...›
II: 146
“Безбожное” имя, напротив, чуждо, страшно, смертоносно:
Имя прочтёте моё тёмное, как среди звёзд Нева,
Среди клюкву смерти проливших за то, чему имя старинное “родина”.
А имя моё страшней и тревожней
На столе пузырька
С парой костей у слов “осторожней,
Живые пока!”
III: 16
Не забудьте, впрочем, громко назвать меня по имени. Моё имя несколько страшное, именно оно звучит: „чорт”, но это не значит, чтобы я не был вежливым молодым человеком.
IV: 205
Это в замки забралась
Грозная тень — непрочитанная книга,
Имя ей — Хам.
III: 245
Безбожной веры имя.
Нет пойду тайком сосать
У коровы доброй вымя.
III: 156
Я улыбнулся — я молчал...
И вежливо холодно ледяными
Глазами друг мой отвечал:
И прошептал чужое имя.
V: 53
————————
Примечания 34
34 См. как параллельный пример у Хлебникова, V: 43: ‹...›
И у моей смерти есть право быть: ушло е, пришло я. ‹...›
Слово “таинственная” мне понравилось потому, что в нём скрывалось слово “воинственная”. |
Вы знаете, есть слово князь и кнезь. |
Вы знаете, вы моря панна! |
Вас вхохновила в море пена |
Сказать певцу: „Туда, где грязь, иди и грезь” |
Голодных глаз таинственная резь, | ‹...› Сравните также: ‹...›
Правда е, правда не, правда есть. Правда не... (IV: 108).
 35
35 В случае с А. Кручёных это ‘как’ приобретает вполне анально-эротический, “како-фонный” смысл: „История как анальная эротика началась Акакием Акакиевичем Гоголя и кончилась ыкязыкаких-ом Зданевича. Есть три К К в столице Невской К К Арсениев К К Случевский О третьем же К К Мы помолчим пока...” (А. Кручёных 1973: 259). Кручёных утверждает, что „бессознательный как” есть слово-“сдвиг”, язык “зауми” парадигматичен (см. A.H.-L. 1989a). Ссылка на ‘К’ Кафки в его романе «Процесс», который здесь подробно не рассматривается, несомненно, отсылает нас к той языковой каббале, с которой Кафка был основательно знаком.
 36
36 У Пушкина сопоставимые процедуры выполняют в первую очередь комическую функцию; поэтому они появляются почти исключительно в эпиграммах: „За Нетты сердцем я летаю | В Твери, в Москве, | И Р и О позабываю | Для Н и В” (А.С. Пушкин III: 100).
 37
37 В гоголевской “нозологии” “нос” выполняет не только тематическую функцию (как исходный пункт нозологического развития), но и как анаграмма в повести «Нос»: с одной стороны, является “частью” его “нос-ителя”, с другой — производной от ‘сон’. О языке «Носа» в психоанализе см. также Abraham-Torok 1979: 75.
 38
38 См. также:
Чёрные окна темнели как О, | ‹...› (III: 226). Парадигма “окно” развивается в следующем метапоэтическом тексте:
Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной “второй смысл”, когда оно стекло для смутной, закрываемой им тайны, спрятанной за ним, когда через слюду обыденного смысла светится второй, тёмной избой в окне слова... Это речь, дважды разумная, двоякоумная = двуумная. Обыденный смысл лишь одежда для тайного. (цитата по B. Lönnquist 1979: 56). См. также: ‹...›
Ты вынул ум а не возвысил |
За смертью дремлющее н“о”, |
Или игрой ночных очей ‹...› (Хлебников, «Поэт», цит. по B. Lönnquist 1979: 78).
 39
39 Об отказе поэтов России от орфографических реформ см.: В.П. Григорьев 1979: 265 („Тема “йот” в русской поэзии XX в. ждёт своего исследователя”). Хаим Русинов предпринял попытку продвинуться в этом направлении (с интенсивным использованием материала на иврите) в статье «Ещё раз о сонорных согласных Эр и Эль», Бер-шева, 1984 (опубликовано в 1989 г. в Wiener Slawistischen Almanach).
 40
40 См. также О. Фрейденберг (1978: 114 и далее) об именах богов как тотемным именам, которые превращаются в собственные имена племён; см. также Э. Кассирер 1925, II: 56. J. Derrida (1972: 295) оправдывает идеал нефонетического письма („écriture”) каббалистическим культом букв, на который Шеллинг также подробно ссылается в своей мифологии (Schelling VI: 148 и далее, 163 и далее, здесь многое об имени Бога ‘Иегова’). И наоборот, “анонимность” божества часто также является выражением его апофатической сверхъестественной природы и невыразимости (ср. о “неведомом боге” у гностических апофатиков K. Rudolph 1980: 70 и далее). У Дионисия Ареопагита Бог и безымянен, и имеет много имён одновременно (Dionisius 1911, Введение, X), сверхъестественные существа раскрываются через их имена или их этимологические производные (32 и далее). О творческой функции этимологии в теории образа Потебни см. R. Lachmann 1982: 35. Имя Бога должно оставаться “непроизносимым” (R. von Ranke-Graves 1985: 322 и далее), ни в коем случае не быть раскрытым, потому что однажды такое случилось, и „враги его народа могли обратить против него разрушительную магию” (там же, 53; о Яхве, там же, 340 и далее; также J. Derrida 1972: 164 и далее, 173 и далее.
 41
41 Связь между “имя” и “слава” особенно навязчива у Пушкина: „‹...› Желаю
славы я, чтоб
именем моим | Твой слух был поражён всечасно” (А.С. Пушкин, II, 253–254); „‹...› Он взошёл. Он
славу именует... | Плачь, муза, плачь!..” (II: 263); ‹...› Россия вспрянет ото сна, | И на обломках самовластья | Напишут наши
имена! (I: 346). В случае с Маяковским эта канонизация “имени поэта” иронична: „‹...› Люди! Когда канонизируете
имена | погибших, | меня известней, — | помните.” (Вл. Маяковский, I: 74).
Воспроизведено по:
Wiener slawistischer Almanach. 21. 1988. P. 159–174, 209–210.
Перевод В. Молотилова
Продолжение 
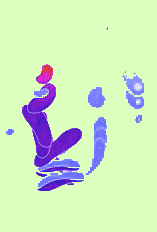
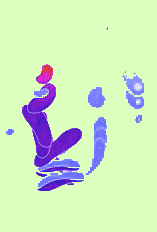
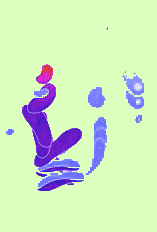
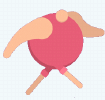
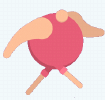
![]()