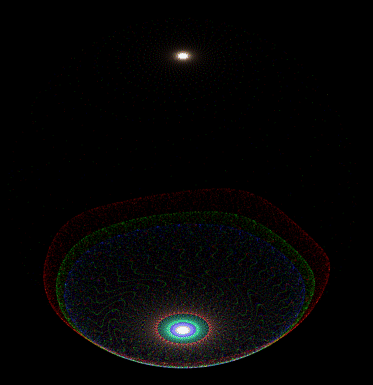О. Ханзен-Лёве
Ономатопоэтика Велимира Хлебникова. Имя и анаграмма.
Продолжение. Предыдущие главы: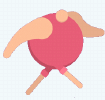
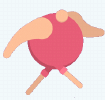
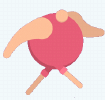
5. Личные имена
5.1. Имена собственные
Если имя индивидуума равнозначно его психике и если — как это, по-видимому, и происходит в мифологическом мышлении — психика считается двойником индивидуума, то и имя есть своего рода “двойник” человека или (литературная) фигура. В повести Хлебникова «К»а, например, душа делится натрое: Ху и Ба = слава, добрая или худая, о человеке. А Ка — это тень души, её двойник, посланник ‹...› (IV: 47). В этом смысле имя олицетворяет внеземного “двойника” индивида, его вторую, мифологически-магическую природу, которая вызывается через называние имени. Связь между “именем” и (коллективной) “народной душой” предельно ясна в следующем отрывке:
‹...› свобода искусства слова всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность жизни. Эти пределы в том, что природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлечённого, а вот этого именно. Искусство всегда хочет быть именем душевного движения, властным призывать его. Но имя у каждого человека одно.
НП: 334
С антропологической точки зрения имя индивидуума коренится в идее тотема (Cl. Lévi-Strauss 1973: 167 и далее, О. Фрейденберг 1978: 31 и далее, E. Durkheim 1984: 127 и далее, 143 и далее). Антропологи должны продемонстрировать, „что имена собственные являются неотъемлемой частью систем, которые мы рассматриваем как коды: как средства фиксации значений путём их перевода в термины других значений” (Lévi-Strauss 1973: 201). Таким образом, индивидуальное имя является частью коллективного наименования (203); человеческий коллектив носит имя тотема (или название племени), которое первоначально (согласно Фрейденберг 1978: 31) означало не что иное, как “человек”. Таким образом, принадлежность к роду гарантировалась языком, а не кровным родством. Индивидуум есть член “тела” (“тотема”) клана (как и „герои, гении, лары, маны — „члены тотемистического коллектива””, Фрейденберг 1978: 42). Все они двойники друг друга и самих себя, а значит, „двойники вдвойне” (там же).42
“Имена богов” суть имена тотемов (там же, 114 и далее), постольку они — те “собирательные имена”, которые становятся именами собственными племён. Архаическое представление о покровителе (а это и есть олицетворение ответственности поименования) — по О. Фрейденберг (1978: 125) — переходит к понятию “двойника души” умершего. Позже, в греческой и еврейской религии, таковой становится ангелом, чьё имя носит смертный (сюда же относится ангел-хранитель как потусторонний двойник человека, а также святой покровитель в христианском наречении имени в ходе инициационного акта крещения). Остаётся добавить, что каждый обряд инициации связан с наречением или переименованием. В нескольких местах Хлебников использует “именины” как резюмирование этой связи с тёзкой: ‹...› В день трёх именинниц | Вы ведь одна! У сестры тень надежды ‹...› (НП: 271), или:
Здесь люди задолго до смерти покупают место для своей могилы. И в дни именин — за место последнего покоя платят сторожу жалованье, чтобы он соблюдал порядок. Так они завоевывают весомый земной рай.
IV: 218
Таким образом, архаическое личное имя есть часть коллективного имени и, следовательно, имени бога, поскольку индивидуум является членом коллективного народного тела (сравните с этим и бахтинскую концепцию карнавального тотемного тела). В тотемном мышлении есть только всеобъемлющее “собирательное я” (Фрейденберг 1936: 139): „Первый персонаж — множественно-единичный; он безличен, безымянен (одно имя тотема для всех), зооморфен, космичен ‹...›” (там же, 224).
Эмиль Дюркгейм (1984: 79) также видит в душе “двойника” (архаичного человека), точнее, „разделённое тело” (там же, 86). Потому что „для первобытного человека имя — это не просто слово ‹...›, оно — часть существа и даже существенная часть ‹...› Таким образом, каждый человек имеет двойную природу: в нём есть два существа: человек и животное” (там же, 186), имя которого носит род (там же, 189): „Имя вещи служит также именем индивидуума. Это его личное имя, его первое имя, которое прибавляется к собирательному тотему, подобно преномену римлян к имени рода...” (там же, 219). Через имя тотемного животного человек участвует в природа животного (220): „‹...› наоборот, животное рассматривается как двойник человека, как его alter ego ‹...›” (221; „Индивидуальный тотем обладает всеми существенными свойствами охранительного предка и выполняет ту же роль. ‹...› На самом деле оба состоят из удвоения души. Тотем, как и предок, есть душа индивидуума”, там же, 379).
Таким образом, имя, которое носит индивидуум, является не просто обозначением, а „существенной частью самого индивида” (225). Итак, если имя и психика проявляют парадигматическую принадлежность индивидуума (к роду), то именно тело играет роль индивидуализирующего фактора (там же, 366), что представляется диаметрально противоположным индивидуальному психологизму современной мысли (ср. также M. Mauss II: 225, 236, 239, 242.; M. Mauss I: 90 и далее., 111, 119, 123). В примечании М. Мосс также указывает на эту двойную природу человека, по крайней мере обыкновенного, наивного:„ Обычный человек уже раздваивается и чувствует себя душой, но он не хозяин себе”. (M. Mauss: II, 169).
По мнению Ю. Лотмана и В. Успенского (1973: 287), система имён собственных образует свой уровень в рамках естественного (т.е. немифического) языка, “язык в языке” (или “мифологический уровень” естественного языка), причём имена собственные составляют ядро этого мифического языка. Этот уровень является „первичным, природным, несимволическим” (там же), он представляет собой мифологическое пространство, составленное из „совокупности тех предметов, которые носят имена собственные” (288). Детский язык также склонен „рассматривать все слова как имена собственные” (290).43
Поэтому потеря имени (как и тени!) есть, в конечном счёте, потеря души („Только когда исчезает имя, исчезает и весь человек”, Kittel 5: 243); вычёркивание имени из книги мира и жизни есть полная смерть, полная потеря памяти о человеке (“имя” и “память” — почти синонимы, имя гарантирует поминовение, присутствие в коллективной памяти).
Парадигматическим текстом для такого сочетания “имени” и “памяти” является известное стихотворение Пушкина «Что в имени тебе моём?», где становится очевидным анаграмматическое переплетение обеих лексем:
Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный ‹...›
Оно на памятном листке Оставит мёртвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нём? забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных. ‹...›
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.
Пушкин III: 163
Ср. с Хлебниковым:
А он, потерявший имена,
Стоит молчалив, одинок.
А ветер забился всё крепче и крепче,
Суровый и бешеный моря глагол!
Но имя какое же шепчет
Он, тот, кому буря престол?
II: 250
Эта статья пишется вербой другим взором в бесконечное, в “без имени”, другим способом видеть её.V: 14644
Приятно общность знать племён,
Потерян в толпе древяниц
И перед неимеющим имён,
Благоговея, падать ниц.
II: 74
Я истекаю степью и именем ...
Ищут приюта думы в нигде.
II: 283
Я с голубым цветком горшок,
А имя я забыл.
III: 382
Один знаток всех уверял,
Что в вкусе коз есть сходства уйма,
Ему я имя потерял,
Но с ... материнским поцелуем.
НП: 50
Летели незурные стоны,
Своё позабывшие имя ‹...›
III: 341
А имя, что носит святой,
Давно уже краем забыто ‹...›
I: 115
5.2. Имена литературных деятелей ("имя героя")
В «Декларации заумного языка» Кручёных призывает к неологической поэзии, включающей в себя изобретение фамилий: „Сюда же относится выдуманные
имена и фамилии героев, названия народов, местностей, городов и проч., например: Ойле Блеяана, Мамудя ‹...› Свидригайлов, Карамазов, Чичиков и др.” (Заумники, 13). У Хлебникова литературный герой — не столько повествовательная фигура (и лишь метонимический представитель своего имени), он ещё и “культовый герой”, который с его магическим именем образует единство, имя как бы реализуется через свой мифический текст жизни.
45
Вольные сыны Дона в драгоценных венках, усыпанных крупным жемчугом, и серебряных зипунах, там и здесь мелькали на улицах. Имя Разина ‹...›
IV: 89
‹...› Седоволосый старец времён
И ветхий рукой дует и дует...
В плошадь твою вихрем полета имён
Усопших, рождённых, женатых ‹...›
V: 22
‹...› С вами я встретился, точно Айвенго,
И прочитал имя это, но иначе.
НП: 267
5.3. Имя поэта
Если мифопоэт является (или стремится стать) более чем автором текстов, идентифицируемым по частному имени, то к нему применимо лингвистическое магическое правило, согласно которому носитель имени неразрывно с ним связан, что он реализует своё имя, и что его тексты раскрывают его имя, поскольку мифический текст всегда является раскрытием имени.
46
Имена поэтов (как и все другие мифические имена) подчиняются закону фонетических имён:
Вспомним, что в земле, называемой “Германия”, г и ш начинают до двух десятков самых славных имён слова и разума этого народа (Шиллер, Шлегель, Шопенгауэр, Шеллинг, Гёте, Гейне, Гейзе, Гегель), вспомним завоевательное б в русском искусстве и охраняющее свободу и честь независимости в её жизни х, мы говорим и открываем особую природу заглавного звука, звука имени, независимую от смысла слова, присваивая ей имя провода судьбы.
В первой согласной мы видим носителя судьбы и путь для воль, придавая ей роковой смысл.
Этот волевой знак иногда общ у разных имён: Англия и Альбион, Иберия, Испания.
V: 188; V: 191
Имя поэта есть “звук” (‹...›
О полки с книгами, где имя писателя звук |
И общий труп — читатель этой книги, III: 288) — и наоборот, звук есть имя, звук есть сам поэт, поэт есть олицетворение имён-звуков: „‹...› И вероятно не случaйно фамилия одного из героев Сейфуллиной —
Кручёных” (А. Кручёных 1925: 28). В коротком тексте «Самострел любви» Кручёных встречается как прилагательное:
Хотите ли вы |
стать для меня род тетивы? |
Из ваших кос кручёных ‹...›, НП: 181). Поэтому Хлебников может говорить и о “лучах” имён поэтов-футуристов (
Наш ответ на войну — мышеловкой. Лучи моего имени, V: 259).
47
Существуют ли правила дружбы? Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк может быть не были друзьями в нежном смысле, но судьба сплела из этих имён один веник.
V: 269
И теперь, когда мы слышим милые и родственные голоса с берегов далекого Ниппона, ‹...› мы присваиваем себе гордое имя Юношей Земного Шара. Авось и через 100 лет мы останемся ими. Да будет светел путь этого нового имени. Государство времени озаряет люд-лучами дорогу человечества ‹...›
V: 213
Лондонский маленький призрак,
Мальчишка в 30 лет, в воротничках, ‹...›
Бледного жителя серых камней
Прилепил к сибирскому зову на “чоных”. ‹...›
Вы очаровательный писатель —
Бурлюка отрицательный двойник.
III: 292
И стекла широко звенели
На бурлюков „хо-хо-хо!” ‹...›
Какая сила искалечила
Твою непризнанную мощь
И дерзкой властью обеспечила
Слова: бурлюк и подлый нож
В грудь бедного искусства.
III: 290
Семь папаш добивались чести быть для нас обезьяной Дарвина ‹...› Ловкие старички продевают сквозь наши пути нити старых имён: Уитмэиа, Даниила Заточника, А. Блока и Мельшина. К. Чуковский развозил по всем городам ‹...› имена Бурлюков, Кручёных, Хлебникова [наши имена] ‹...› Но если наш иимена вызывают зависть ‹...›
V: 249
Несомненно, зафиксированная здесь реализация или персонификация “звуко-имён” гораздо более архаична, чем семантическое развитие имён собственных, т.е. этимологизирующая деривация. По Якобсону ([1921] 1972), в практической речи имена собственные являются лишь автоматизированными “ярлыками”, они „уже не вызывают никакого вербального опыта”: напротив, художественное личное имя „этимологизирует” вещественное, реальное основное значение, из которого оно получено. Иногда Хлебников обнажает этот процесс:
Бродники известны летописи, как особенные кочевые славяне в южной России. ‹...›
Принято выводить его имя от глагола: бродить, вести бродячий образ жизни.НП: 336 И тогда, если на груде тлеющих страниц случайно останется слово Кант, то кто-нибудь, знакомый с шотландским наречием, переведёт это слово через “сапожник”. Вот всё, что останется от мыслителя.V: 183Одна: Кант... Конт... Кент... Кин...IV: 20248
‹...›
Иль может быть, Пушкин иль Ленский
По ниве идёт деревенскойI: 16249
В последней цитате Пушкин-сочинитель ставится на одну доску с его литературным героем, который, в свою очередь, обретает статус авторства. “Словесность-миф” (классическая русская литература XIX в.) “олитературивается” в отношении автора и наделяет дееспособностью литературного героя. Оба свободно перемещаемы и без труда могут входить в биографическое или литературное взаимодействие с другими персонажами (авторами или героями), принадлежащими к совершенно другой пространственно-временнóй системе.
Как и все мифические имена, пушкинское восходит к своим языково-магическим “звуко-именам”, т.е. прежде всего к семантике начального согласного /п/:
П начаты её слова: Перун, парень, пламя, пар, порох, пыл, песни и сам пламенный Пушкин.
V: 210
Наиболее распространённой
этимологизацией имени ‘Пушкин’ является отсылка к слову “пушка”, относящемуся к сфере мотивов “война” и, прежде всего, “труба”.
50
В следующем отрывке процесс этимологизации, так сказать, обнажается.
‹...› Кланялся низко
Нижегородец Минин.
Справлялись Мина именины,
А рядом
Самых красивых в Москве богородиц
В глубинах часовен
Хохот глушил гор Воробьёвых.
Это Пушкин, как волосы длинные,
Эн отрубил
И победителю песен их бросил.
Мин победил.
Он сам прочёл Онегина железа и свинца
В глухое ухо толп. ‹...›
Было проделано чудо жестокости,
Въелось железо человечеству до кости,
Пушки отдыхали лишь по воскресеньям ‹...›
III: 353–354
И из Пушкина трупов кумирных
Пушек наделаем сна.
II: 252
Умолкнул Пушкин.
О нем лишь в гробе говорят.
Что ж! Эти пушки
Целуют новых песен ряд.
НП: 262
И слугою войны — порохом —
Подано столько печенья
Из человечины
Пушкам чугунным.
Это же пушек пирожного сливки! ‹...›
Сельская голь стерегла свои норы
Пушки-обжоры
Саженною глоткой ‹...›
V: 18
‹...› это заводский гудок, протягивающий руку из пламени, чтобы снять венок с головы усталого Пушкина — чугунные листья, расплавленные в огненной руке.
V: 223
‹...› время от времени слышались выстрелы — и вот перемирие заключено. Вырвались пушки. Молчат.
IV: 112
Книга войны за зрачками пылает,
Того, кто у пушки, с ружьём, но разут ‹...›
III: 16
Есть буря в крике: „здравствуй, тьма!”
Бабочку прошлого — мы прошлое ранили
Пушкою. Чума — ‹...›
Пушкин нам жалок,
Исчезли Баяны ‹...›
II: 290
„Верую” пели пушки и площади, ‹...›
III: 171
В деревню едут пушкари:
Зачем? К кому? И что им надо?
НП: 261
Мост между ‘Пушкиным’ и “пушкой”, таким образом, во многом образован общностью материала (памятник Пушкину может быть отлит из чугуна точно так же, как артиллерийское орудие; наоборот, сам Пушкин был жертвой выстрела и т.д.).
Гоголевская «Шинель» (Хлебников называет её плащ), из которой, как говорят, вышла вся послегоголевская литература, мифизирована:
— Ведь они и я мы оба звуки! — гневно воскликнул я, ‹...› Между тем и чёрный писатель закутался в плащ Гоголя, с своим острым клювом грача над чёрным камнем ‹...›
V: 135
————————
Примечания 42
42 Согласно Р. Якобсону ([1921] 1972: 119) „Собственные имена, фамилии, в практическом языке — ярлыки, связанные с называемым объектом лишь ассоциацией по смежности и не вызывающие нормально никаких словесных переживаний. Иное дело в эмоциональном языке и в поэзии. В последней наблюдаем ‹...› подновление значения, — в юмористическом применении у Пушкина ‹...›” . О магической функции имени собственного см. также Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 6, 950–967: „Так же, как и материальные части тела длительно в sympathetischem в связи с этим посвящением ‹...› имя является неотъемлемой частью, значение которой имеет решающее значение для судьбы именуемого и наречение которого имеет непосредственное влияние на именуемого” (там же, 950–951). Важный анализ семантики имен в общерусской литературе и центральной роли (личных) имен в культуре, ориентированной на вербальность, можно найти в Т.М. Николаева 1987: 133 и далее.
 43
43 Подробнее о связи между “именем” и “памятью” см. A. Nosziczka 1985: 245 и далее; см. также A.H.-L. 1985.
 44
44 См. Пушкин: „‹...› Презренной чернию забытый, | Без
имени покинул свет!..” (А.С. Пушкин, II: 193).
 45
45 В гротескной поэтике “натуральной школы” имя служило, между прочим, отправной точкой звуковых жестов героя, как бы концентратом его словесного существования (ср.:
Ю. Тынянов. Иллюстрации. 1929. С. 504). Так, Гоголь превратил „речевую маску” героя в „предметную маску” (Тынянов, «Достоевский и Гоголь», тексты I: 31 и далее, 317 и далее; Р. Якобсон 1982: 40; Б. Эйхенбаум, I: 130 и далее; A.H.-L. 1978: 274 и далее). О функции имени собственного в повествовательном тексте см. также:
R. Barthcs. S/Z.
Frankf.a.Maine. 1976: 98 и далее; о М. Прусте см. P. Zima 1978: 183 и далее, 217.
 46
46 См:
В. Иванов. Борозды и межи.
М. 1916; Г.А. Левинтон 1983: 152 и далее. Многие примеры имён как лиц у Хлебникова можно найти в A.H.-L. 1985: 51–54.
 47
47 Маяковский цитирует и других поэтов — часто как “pars pro toto” за их творчество или определённый пародийный стиль: „‹...› месяц улыбается и заверчен, как | будто на небе строчка | из Аверченко ‹...›” (Маяковский, I: 91); „„‹...› Сегодня на Верхарна обиделись небеса ‹...›” (I: 118); ‹...› И — | как в гибель дретноута | ‹...› | сквозь свой | до крика разодранный глаз | лез, обезумев, Бурлюк ‹...›” (I: 186). Комплексную реализацию семантики имени можно найти в «Облаке в штанах» Маяковского: „‹...› Я, | златоустейший, | чьё каждое слово | души новородит, | именинит тело, | говорит вам ‹...›” (I: 183–184). Здесь упоминание Отца Церкви Иоанна Златоуста (рус. “золотые уста”) обнажает семантический контекст, который оперирует двойной функцией “Марии” как Богородицы (соответствующей Иоанну Златоусту) и как возлюбленной или музы.
 48 А. Белый
48 А. Белый. Петербург, 116 и далее, глава «Конт-Конт-Конт» (особенно 119).
 49
49 Этот отрывок относится к Пушкину „‹...› И долго, долго толковали. | Давнишни толки стариков. | ‹...›” (
А.С. Пушкин. Истина. 1816. I: 210). — Упоминание об этом идёт от И.П. Смирнова). См. Н. Башмакова 1987: 198, а также Р. Якобсон [1921] 1982: 119 и далее.
 50
50 См. А.Х.-Л. 1986b.
Воспроизведено по:
Wiener slawistischer Almanach. 21. 1988. P. 175–184, 210–211.
Перевод В. Молотилова
Окончание 
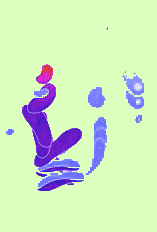
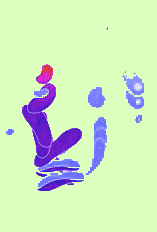
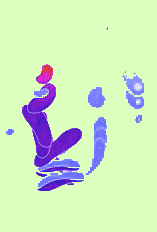
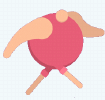
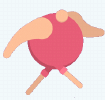
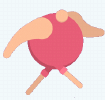
![]()
![]()