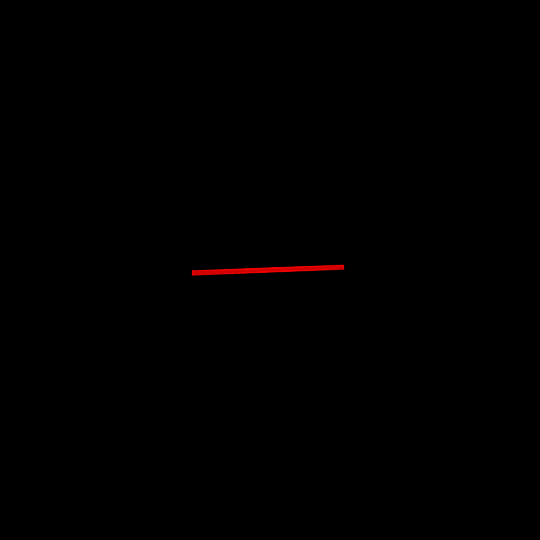Юлия Арапова
Баня Хлебникова
Сопроводительная записка В. Молотилова 
Эти воспоминания конца 1920-х годов* принадлежат московской художнице Юлии Григорьевне Араповой (псевдоним Юлиан Кольцов, 1889–1976). В них читатель найдёт не только трагикомическое описание Велимира Хлебникова последних лет его жизни (зима 1920–1921 гг.), но и взгляд изнутри на богему юга России первых лет революции. В Тифлисе, например, бурную деятельность развили дадаисты Алексей Кручёных, Игорь Терентьев и Илья Зданевич. Несомненен повествовательный дар этой художницы большой силы и убеждённости, в середине 1920-х годов ученицы знаменитого Павла Филонова. Уже одно это заставляет ожидать большего, нежели бытовых подробностей: её наставника Хлебников считал в высшей степени самобытным и прозорливым художником. Привитый ей Филоновым интерес к славянской мифологии и биологический подход к окружающей среде был, как известно, близок мировоззрению Хлебникова. То, что поэт с такой кротостью доверился Араповой в тяжёлое для него время, удивления не вызывает: “дарительница еды” была для него не особью противоположного пола, а художницей-авангардисткой, вхожей в его “ближний круг”: Филонов, Казимир Малевич, Владимир Татлин и Пётр Митурич (муж сестры Хлебникова, с которым тот в последние месяцы жизни особенно сблизился). Пребывание Хлебникова на юге Российской империи в пору её распада было кратким, но плодотворным: в Тифлисе, например, прежде чем перебраться в Баку, он создал величественные поэмы «Ладомир» и «Поэт», а в самом Баку часами делился своими воззрениями на словесность и математику с Вячеславом Ивановым и Борисом Томашевским. О ту пору Баку, Одесса, Севастополь и Симферополь были пристанищем толп беженцев, которые оказались перед фатальным выбором: покинуть родину или остаться. Хлебников, судя по воспоминаниям Араповой, к числу таковых не принадлежал; заметим, что на описываемую ниже помывку он вовсе не напрашивался, а бытовых неурядиц не замечал вообще. Подобно Филонову, Хлебников руководствовался задачами высшего порядка, о чём пишет “будетлянин второго призыва” Николай Асеев:
‹...› Он жил —
не ища
ни удобства, ни денег,
жевал всухомятку,
писал на мостах,
гранёного слова
великий затейник ‹...›
(Цит. по «Литературной газете», М., 1961, 11 февраля)
————————
* Арапова оставила два варианта одного и того же эпизода “бани”, один короче другого. Первый приведён ниже с незначительными вставками из другой рукописи. Сноски — переводчика на английский, многоточия и кавычки — автора.
Джон Э. Боулт
* * *
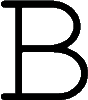
от как среди нас появился Велимир Хлебников.
Это произошло днём, точнее вечером, во время концерта цыган, которых милосердная Юлия спасла от преследований ЧК и едва ли не от смерти.
Всё началось в Кисловодске. Мы оказались там после Большого театра, где Анатолий Афанасьевич
1
был главным художником; свои обязанности он передал Фёдору Фёдоровичу Федоровскому,
2
талантливому и пылкому, вполне подходящему на эту должность.
История нашего переезда на юг долгая и трагическая. В Кисловодске на нас напали бандиты, отняли всё и умчали награбленное на телегах и в фургонах. Но, по счастью, оставили в живых.
Четверо цыганок из бывшего кабаре белых не смели и носа на улицу высунуть, одна только Галина шла на самопожертвование, отдаваясь втихаря по ночам “прохожим”, и этот промысел кормил её и подруг.
В Баку мы переехали вместе с бродячим театром. Мы с А.А. упросили директора В.Г. Сахновского3 принять цыган. Приехав, те оказались на улице: ни под каким предлогом нельзя было зарегистрировать по месту жительства. На улице и без гроша в кармане. А мы занимали огромную комнату, то есть в бытовом плане были обеспечены прекрасно, и я, переговорив с А.А., выделила часть её цыганам. Они туда перебрались и устроились как нельзя лучше.
принять цыган. Приехав, те оказались на улице: ни под каким предлогом нельзя было зарегистрировать по месту жительства. На улице и без гроша в кармане. А мы занимали огромную комнату, то есть в бытовом плане были обеспечены прекрасно, и я, переговорив с А.А., выделила часть её цыганам. Они туда перебрались и устроились как нельзя лучше.
Репертуар у них был белый, и мы попросили поэта Сергея Городецкого4 переиначить их песни на советский лад. Он это дело провернул, и мы решили представить публике цыган как сочувствующих новой власти. Я разослала приглашения всей бакинской элите, и вечером мы дали концерт, весьма успешный. Там были все, вплоть до Бескадаровой, жены местного комиссара.5
переиначить их песни на советский лад. Он это дело провернул, и мы решили представить публике цыган как сочувствующих новой власти. Я разослала приглашения всей бакинской элите, и вечером мы дали концерт, весьма успешный. Там были все, вплоть до Бескадаровой, жены местного комиссара.5 Пришёл и Хлебников. Кто мне о нём рассказал, и кто представил, уже не помню. После концерта цыган он к нам зачастил.
Пришёл и Хлебников. Кто мне о нём рассказал, и кто представил, уже не помню. После концерта цыган он к нам зачастил.
Хлебников был очень высоким, довольно костлявым человеком и казался ещё выше, потому что был ужасно худым. Лицо изрезано глубокими морщинами, напоминая сложенную кое-как старую кожаную куртку. Глаза у него были маленькие, но острые, под нависшими, выгоревшими на солнце бровями. Жил он как беспризорник, спал под навесом на пляже и питался отбросами, которые удавалось раздобыть... Солдатская шинель из серого сукна прикрывала “амуницию”, а “костюм” состоял из двух мешков: в одном была проделана дыра для шеи, это была его блуза, второй мешок был разрезан пополам так, чтобы одно полотнище оборачивало правую, а другое — левую ногу; всё это сооружение скреплялась гвоздями, проволокой и булавками, воткнутыми тут и там. Рукава из мешковины были приделаны всё теми же булавками и проволокой; подпоясан он был обрезком каната. Там, где швы на “брюках” не сходились, виднелось нечто грязное дочерна, поэтому едва ли не все встречные отворачивались — кто в смущении, кто с отвращением. Телом это назвать было нельзя: оно больше походило на кожаную куртку поверх скелета и казалось твёрдым, как железо.
Именно так выглядел Хлебников, когда мы впервые с ним познакомились. Он приходил к нам без всякого стеснения и особенно любил вечера, когда у нас бывал Вячеслав Иванов. Они часто вели заумные беседы, и Хлебников пропагандировал свою “теорию чисел”. По образованию он был математик и обращался с числами, как с послушными рабами, не встречая малейшего сопротивления в их стороны. Сначала нам было очень трудно вообще что-либо понять, поэтому он перешёл к более понятным примерам и доказательствам. Он сказал, что на основе вычислений можно предсказать какое угодно мировое событие — как прошлого, так и будущего — если принять их неизменность и повторяемость как закон. После такого разъяснения суть его теории показалась мне разумной, стройной и убедительной. Не могу сказать, что всё правильно поняла, но, когда я его слушала, всё казалось доходчивым и простым — как аксиома.
Я была склонна ко всему “из ряда вон” до такой степени, что часто приглашала его отобедать, ещё не зная, в каких ужасных условиях он жил. А когда всё-таки узнала — долой церемонии: всякий раз, когда он уходил, заворачивала ему отбивную или кусок баранины... Не знаю, замечал ли он вообще сунутый ему свёрток.
Было лишь одно неудобство, которое причиняли его визиты, и, вполне возможно, оно и было главной причиной, из-за чего в дома его не приглашали, сторонились и старались выкинуть из головы. Например, в это время по соседству с нами жили Сергей Городецкий, артист балета Булгаков,6 скульптор Сергеев7
скульптор Сергеев7 и художники Любимов8
и художники Любимов8 и Кочергин.9
и Кочергин.9 Сами будучи нищими “людьми богемы”, Хлебникова они считали юродивым и знали о нём только по пародиям на О, рассмейтесь, смехачи и т.д. Хлебников был весь в паразитах — они буквально кишели на нём, и было противно видеть, как жирные, раскормленные вши перебирались с воротника на рукав и обратно, а Хлебников, не замечая их, долго и страдальчески чесался. Это было трудно вынести, но мы боялись отпугнуть беднягу — наш дом был его стол и кров. Денег у него не было (если только я не суну мелочь в карман шинели, которая разваливалась на куски); обут он был в добротные футбольные бутсы, перевязанные крепкой бечёвкой. Разумеется, у него было “личное кресло” в нашем доме, но мне надоело “убираться” после каждого его визита, тем более, что они порой затягивались, и насекомые, разнежась в тепле, расползались повсюду. А это было опасно, потому что сыпной тиф свирепствовал и после войны, заболевали во множестве.
Сами будучи нищими “людьми богемы”, Хлебникова они считали юродивым и знали о нём только по пародиям на О, рассмейтесь, смехачи и т.д. Хлебников был весь в паразитах — они буквально кишели на нём, и было противно видеть, как жирные, раскормленные вши перебирались с воротника на рукав и обратно, а Хлебников, не замечая их, долго и страдальчески чесался. Это было трудно вынести, но мы боялись отпугнуть беднягу — наш дом был его стол и кров. Денег у него не было (если только я не суну мелочь в карман шинели, которая разваливалась на куски); обут он был в добротные футбольные бутсы, перевязанные крепкой бечёвкой. Разумеется, у него было “личное кресло” в нашем доме, но мне надоело “убираться” после каждого его визита, тем более, что они порой затягивались, и насекомые, разнежась в тепле, расползались повсюду. А это было опасно, потому что сыпной тиф свирепствовал и после войны, заболевали во множестве.
Потом он стал бывать у Константиновых,10 хотя старушка его терпеть не могла. Лидия Алексеевна приняла Хлебникова радушно, но она панически боялась за своих детей, и вообще была одержима “чистоплотностью”. О том, чтобы лишить нашего гостеприимства его — бездомного, одинокого и всеми брошенного — не могло быть и речи, поэтому мы сговорились хорошенько его вымыть. Однажды, улучив момент, когда ни старушки, ни Константинова не было дома, мы нагрели воды, погрузили Велимира в состоянии Адама в нашу большую ванну и приступили к помывке. Я вымыла ему голову, которая криком кричала о ножницах и расчёске; потом мы двинулись вниз, и самое удивительное было то, что он не замечал полового различия, не стеснялся того, что две молодые женщины намыливают его — большого, взрослого мужчину — как будто это ребёнок, и мы знай ворочали его куда хотели — вправо, влево, на живот, на спину. Вымыть удалось на славу — явился совершенно другой человек, который явно смаковал вновь обретённое чувством покоя и благополучия, а его тело вернуло цвет кожи, а не кожаной куртки. Мы сшили для него серую толстовку из шинели А.А. Хлебникову она понравилась, он даже позволил Константинову нарисовать его в обновке, но портрет сгорел в Тифлисе вместе со всем остальным имуществом семейства.
хотя старушка его терпеть не могла. Лидия Алексеевна приняла Хлебникова радушно, но она панически боялась за своих детей, и вообще была одержима “чистоплотностью”. О том, чтобы лишить нашего гостеприимства его — бездомного, одинокого и всеми брошенного — не могло быть и речи, поэтому мы сговорились хорошенько его вымыть. Однажды, улучив момент, когда ни старушки, ни Константинова не было дома, мы нагрели воды, погрузили Велимира в состоянии Адама в нашу большую ванну и приступили к помывке. Я вымыла ему голову, которая криком кричала о ножницах и расчёске; потом мы двинулись вниз, и самое удивительное было то, что он не замечал полового различия, не стеснялся того, что две молодые женщины намыливают его — большого, взрослого мужчину — как будто это ребёнок, и мы знай ворочали его куда хотели — вправо, влево, на живот, на спину. Вымыть удалось на славу — явился совершенно другой человек, который явно смаковал вновь обретённое чувством покоя и благополучия, а его тело вернуло цвет кожи, а не кожаной куртки. Мы сшили для него серую толстовку из шинели А.А. Хлебникову она понравилась, он даже позволил Константинову нарисовать его в обновке, но портрет сгорел в Тифлисе вместе со всем остальным имуществом семейства.
После этой “купели” Хлебников мог бывать где угодно. Тайну его “преображения” мы держали строго при себе.
————————
Примечания  1
1 Муж Араповой (1876–1949), известный художник и сценограф.
 2
2 Фёдор Фёдоровский (1883–1955), художник-оформитель Большого и других театров на протяжении 1920-х, 1930-х и 1940-х годов.
 3
3 Василий Григорьевич Сахновский (1886–1945). В это время Сахновский сотрудничал с Государственным свободным театром сатиры в Баку.
 4
4 Сергей Митрофанович Городецкий (1884–1967), бывший символист, друг Блока.
 5
5 Сведений о Бескадаровых не сохранилось.
 6
6 Алексей Дмитриевич Булгаков (1872–1954). До революции выступал на сцене Мариинского и Большого театров, выезжал в Париж с Русским балетом Дягилева. В середине 1920-х годов вернулся в Большой театр.
 7
7 Владимир Александрович Сергеев (1883–195?). Член АХРР в конце 1920-х гг. Автор нескольких бюстов писателей, в том числе Льва Толстого.
 8
8 Александр Михайлович Любимов (1879–1955), известный карикатурист и мультипликатор; около 1919 года оформлял Окна КавРОСТА.
 9
9 Николай Михайлович Кочергин (1897–1974). Известен графическими работами малого формата; вместе с Любимовым работал в КавРОСТА.
 10
10 О Константиновых иных сведений, кроме того, что глава семейства был художником, а Лидия Алексеевна его женой, не сохранилось.
Воспроизведено по:
Yulia Arapova. Khlebnikov’s Bath // Russian Literature Triquarterly, 13 (1975). P. 463–467.
Перевод В. Молотилова.
Изображение заимствовано:
Арапова Ю.Г. (1889–1976). Белые ночи на Марсовом поле. 1924. Карандаш.
Благодарим Джона Э. Боулта (Institute of Modern Russian Culture, IMRC)
и Юрия Левинга (Professor and Director of Graduate Studies
Role Department of Slavic Languages and Literatures, Princeton)
за содействие web-изданию.
————————
Помывка
Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит.
Н.В. Гоголь. Мёртвые души
С грязного не треснешь, с чистого не воскреснешь.
Русская поговорка
В. определённо считал его явлением необычайным.
„От него пахнет святостью, я чую этот запах при входе его”, — сказал мне В. раз.
„Он между гениальностью и безумием”, — сказал мне В. в другой раз.
М.С. Альтман. Хлебников в Баку (из дневников 1919–1924 гг.)
Именно так подмывало перевести английское “bath”. Омовение? Купель? Всё мимо. Потому что этими вот самыми руками набрано:
Имеются сведения о том, что именно тогда Хлебников “завшивел” (Russian Literature Triquarterly, 13 (1975). P. 465–467). Из мемуаров художницы Юлии Араповой «Баня Хлебникова» следует, что в зиму 1920–1921 поэт имел „отёчный вид и вшей”. Брезгуя собирать их после его посещений, но не желая лишать гостеприимства „бездомного, одинокого и всеми покинутого” Хлебникова, они с подругой „погрузили Велимира в состоянии Адама” в ванну и вымыли его: „Появился совершенно другой человек”.
Рэймонд Кук. Велимир Хлебников. Переосмысление. Гл. «Башня толп», прим. 1
Глубины подсознания, вот почему помывку победила баня. Произведений Романа (Рудольфа) Валентиновича Дуганова на Хлебникова поле множество, на мнение web-издателя вполне разумно положиться: лучшее у Дуганова — «Замысел “Бани”». Ещё не больно-то высунешься с Хлебниковым: „Считаю это преждевременным”, — слова главписателя СССР Г.М. Маркова, переданные мне устами Ю.М. Нагибина (Фрумкина). И Дуганов растворил Хлебникова в пьесе о революционном чистилище, см.: сб. статей «В мире Маяковского». Кн.1. М.: Сов. писатель. 1984 г. С. 394–434. О ту пору я был к нему вхож, и на вопрос, не зачата ли статья на остановке, Дуганов просиял: нашёлся-таки пристальный читатель.
Именно в 1984-м над Реутовым воспарил будетлянский дух Челомея, ибо тело предали земле. Мы и думать не смели, что преемник превзойдёт учителя. Таки превзошёл. Герберт Ефремов (род. 1933) зовут.
«Баня» — остановка автобуса у дома 14 по улице Победы, где обитали Дугановы-Шефтелевичи. Наташа была чуткая собеседница, но затруднилась сообщить, где у них удобства (Ира сразу же, тотчас, но это Ира). И на этой остановке я со страшной силой учился властвовать собой: до метро ещё пилить и пилить, да и там отлить негде. Тихо Браге, кстати говоря, так и умер: от разрыва мочевого пузыря на приёме у короля.
С Рэймондом Куком связаться не удаётся по сей день, но продолжаю надеяться на обязательность Хенрика Барана: обещанного три года ждут. А потом от ворот поворот, так и передайте. Одновременно запрос о Куке к Джону Боулту и его стремительный ответ: понятия не имею, а воспоминания Араповой пришлю. И прислал.
Все меня спрашивают, где я научился так лихо переводить. Делал жизнь с кого, иначе говоря. С Наума Гребнева (1921–1988). Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, / Не в землю нашу полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей. Расул Гамзатов, я тоже так подумал. Только вот у аварцев сроду ни рифмы, ни ритма не бывало: что вижу, то пою. Науму Исаевичу руководящие по части дружбы народов товарищи вверили подстрочник, и он таки не подвёл. Не обольщаясь насчёт лавров. И у Семёна Липкина (1911–2003) довелось брать уроки заочно, земля ему пухом.
А теперь поговорим о приручении Велимира Хлебникова посредством пищи. Юлия Григорьевна сообщает, что подаяние Хлебников принимал, и это сомнений не вызывает. Другое дело, как он с такими подачками управлялся.
И когда ему нужно было уезжать, мы ему готовили, конечно, корзиночку с провизией, потому что знали, что ему неоткуда взять, он голодный будет ехать, пирожков ему клали, что было, в общем. Он брал с благодарностью, потом доходил до поворота дороги, которую нам с дачи видно было, оставлял акуратненько корзиночку на дороге и уходил. И так каждый раз.
Из воспоминания Асеевой (Синяковой) Ксении Михайловны
Размочив слезой комок в горле, продолжаю.
Так или иначе, Хлебников был голодный, а мы со своим пайком второй категории чувствовали себя богачами. Раз в месяц нам насыпали в мешочки крупу, муку и сахар, отваливали брусок масла и омерзительную свиную голову. Все это мы отдавали старушке дворничихе в Доме Герцена, где мы только что получили комнату. Она кормила нас кашей и заливным, и мы старались забыть, из чего оно сделано. Масла, конечно, не хватало, и мы прикупали сметану, чтобы сдобрить кашу. Старушка жила в подвале главного дома. Она была ласковая и добрая, и Мандельштам привёл к ней Хлебникова. С тех пор он каждый день приходил к нам обедать, и мы вчетвером — со старушкой — вкушали сладостную пищу. В те годы и каша, и сметана, и то, что перепадало сверх этого, ощущалось как полное благополучие. Особенно чувствовала это старушка, потому что нам — нищим — иногда попадал на зубок даже бифштекс, а она, порядочная и оседлая, за долгие голодные годы забыла даже вкус пищи.
Старуха встретила Хлебникова не то что приветливо, а радостно: она обращалась с ним, как со странником и божьим человеком. Ему это нравилось — он улыбался. Мандельштам ухаживал за ним гораздо лучше, чем за женщинами, с которыми вообще бывал шутливо грубоват. Я, способная нахамить каждому по моде того времени и по глупости, с Хлебниковым своих свойств проявлять не смела, потому что боялась и Мандельштама, и старушки — за это мне бы здорово попало. Хлебников обедал, отдыхал с полчаса и уходил, чтобы вернуться на следующий день, о чём мы трое — старушка, Мандельштам и я — никогда не забывали ему напомнить. К нашему удивлению, он был пунктуален и ни разу не опоздал. Из этого я вывела заключение, что он умел смотреть на часы. Ручных у него, конечно, не было: такая роскошь водилась только у больших начальников и у “бывших людей”. Четверть века мы жили без ручных часов. Они возникли только после войны. В 22-м году, кажется, уже пустили большие электрические часы на улицах, а может, у Хлебникова в кармане лежала отцовская луковица. Такое иногда случалось.
Разговор с Хлебниковым был немыслим: полное отсутствие контакта. Он молча сидел на старухином стуле с прямой спинкой, сам — прямой и длинный, и непрерывно шевелил губами. Погружённый в себя до такой степени, что не слышал ни одного вопроса, он замечал лишь совершенно конкретное и в данную минуту существенное; на просьбу „откушать еще” или выпить чаю отвечал только кивком. Мне помнится, что, уходя, он не прощался. Несмотря на шевелящиеся губы, лицо оставалось неподвижным. Особенно неподвижна была вся голова на застывшей шее. Он никогда не наклонялся к тарелке, но поднимал ложку ко рту — при длине его туловища на порядочное расстояние. Я не знаю, каким он был раньше, но вскоре мне подумалось, что его сковала приближающаяся смерть. Потом мне пришлось увидеть застывших в неподвижности шизофреников, но они ничуть не напомнили мне Хлебникова. В позах шизофреников всегда есть что-то неестественное, нелепое. Их позы искусственны. Ничего подобного у Хлебникова не замечалось; ему было явно удобно и хорошо в его неподвижности и погружённости в себя. Он, кстати, не ходил, а шагал, точно отмеривая каждый шаг и почти не сгибая колен, и это выглядело вполне естественно благодаря форме бедер, суставов, ног, приметных даже в диком отрепье, в которое он, как все мы, был одет. Могу прибавить, что нельзя себе представить большей противоположности, чем Мандельштам, динамичный, сухой, веселый, говорливый и реагирующий на каждое дуновение ветра, и Хлебников, закрытый и запечатанный, молчащий, кивающий и непрерывно ворочающий в уме ритмические строки.
Н.Я. Мандельштам. Из «Второй книги»
Голод не тётка: свиная голова с антрекотом дружит не весьма, но куда денешься. Отобедает Хлебников, с полчаса отдохнёт, и уходит. Куда. В общежитие ВХУТЕМАСа, подсказывает Николай Леонидович Степанов (1902–1972), земля ему пухом.
С. Телингатер — тогда студент — жил тоже в нашей квартире и знал Хлебникова по Баку — откуда оба они приехали в Москву. Я помню, несколько раньше Кручёных рассказывал, что Хлебников жил некоторое время у Маяковского. Вскоре Хлебников поселился в нашей квартире в первой комнате налево, где жили Телингатер, Плаксин и Томас. Все к Хлебникову тепло отнеслись и были рады ему. Когда я заходил в эту комнату к моим товарищам, я встречал Хлебникова, он часто сидел около кровати, на которой лежали тетради. Мне запомнилось первое впечатление от него: прежде всего, огромные серые с голубизной глаза, странное отчуждённое продолговатое лицо — весь он напоминал одинокий утёс. Жесты, движения были медленными, спокойными. Всё время меня не покидало чувство, что, хотя он рядом, но в то же время где-то далеко. Мне запомнился его голос, он тоже звучал одиноко, особенно по контрасту с обычно бойкими голосами моих вечно спорящих товарищей, которые, правда, притихали рядом с необыкновенным соседом. Нам казалось, что никто так верно не оценит и не почувствует подлинное искусство, как мы. Я замечал, что у Хлебникова был озабоченный вид. Но не житейскими делами был он озабочен, хотя они у него были очень плохими.
С Хлебниковым я разговаривал иногда, он держался скромно, поражая своей почти детской искренностью и простотой. ‹...›
Хлебников ходил в старой солдатской шинели. Один раз мне запомнилось, как на углу у Мясницких ворот он стоял и держал в руке ломоть хлеба, о котором он, видно, забыл. Мимо него проходили люди, проезжали извозчики, машины, но он ничего не видел и не слышал — так он был поглощён какими-то неожиданно налетевшими на него мыслями. ‹...› На дверях комнаты, где он жил, иногда висела записка, написанная не очень чётко рукой Хлебникова, с просьбой по возможности его не беспокоить, так как он работает. Он очень много в это время писал, и часто до поздней ночи. Мы все очень старались, чтобы ему было спокойно.
Александр Лабас. Из воспоминаний
Телингатеру, Плаксину и Томасу эта записка на двери наверняка плешь проела, наверняка. И тут в очередной раз подняла голову применяемость Хлебникова к обстоятельствам (протеизм, если угодно): деваться из общежития некуда, но странствовать в недрах оного комендант не запретил.
В 1922 году, в декабре месяце, после долгой разлуки я снова встречаю Велимира Хлебникова, которого потерял из виду с моими разъездами. Да и сам он эти годы был в отлучке. ‹...›
Итак, встретились мы на каком-то вечере во Вхутемасе. ‹...› И тут же на вечере, не помню кто, но кто-то из молодых поэтов, видя, что я разговаривал с Хлебниковым, подошёл ко мне и сказал, что трудно сейчас бедному Велимиру: живёт неустроенный, ночует в коридоре студенческого общежития Вхутемаса на Мясницкой улице, в доме, где жил и я. У меня тотчас появилась мысль предложить ему переехать ко мне, тем более что я жил один, и он — насколько я знал его, деликатнейший человек — мне не мог бы помешать работать. ‹...›
Встретившись с Хлебниковым через несколько дней, я и предложил ему переехать ко мне. Он очень охотно и с большой радостью принял моё предложение и с поспешностью в тот же вечер перебрался в мою квартиру. ‹...› Всё имущество Велимира составлял белый узелок, с которым подмышкой он и пришёл. С большой любовью и осторожностью он его развязал, вынул оттуда чернильницу, ручку и большую пачку неаккуратно, довольно беспорядочно сложенных листков бумаги, как чистых, так и испещренных мелким бисерным почерком в разных направлениях. Чернильницу и ручку он пристроил на табуретке, пододвинул её к своей кровати, а все листки бумаги с поспешностью были брошены под кровать, откуда они извлекались по мере надобности. Причём, как он в этом хаотичном хозяйстве разбирался и находил то, что ему было нужно, непонятно. ‹...›
Женское общество Велимир очень любил, но и страшно смущался. ‹...›
Вспоминаю, как он однажды таинственно вытащил из внутреннего правого кармана пиджака какую-то бумагу, бережно сложенную, и с сияющим лицом показал мне. Это было удостоверение личности, выданное за подписью наркома просвещения А. Луначарского, с просьбой всем оказывать помощь и содействие поэту В. Хлебникову. Это был единственный документ Велимира, который он бережно хранил. ‹...›
Он любил мир, природу, человека и космос и через музыку чисел, через логику арифметических знаков выводил законы космических событий. Эти свои исчисления-предсказания он передал при мне художнику Митуричу, который последнее время довольно часто нас посещал. Митурич их отпечатал на больших листах кустарным способом в количестве сто экземпляров. С какой радостью, с какой сияющей улыбкой встретил Велимир первый экземпляр «Вестника» и «Досок судьбы», которые принёс ему Митурич!
С Митуричем я был знаком и встречался раньше в декоративной мастерской ПУОРа на Остоженке, где мы работали, а я, не имея жилплощади, даже жил на верхнем этаже этой мастерской, но, правда, недолго. Вот так неожиданно во второй раз меня судьба свела с Митуричем. Он, как хорошая нянька, со вниманием и лаской относился к Хлебникову. ‹...› Так дожили мы до весны, и к концу своей жизни у меня он начал жаловаться на здоровье. Дважды навещала его какая-то незнакомка в чёрном. В один из приездов Митурич сказал мне: „Я его возьму лучше к себе за город, там хороший воздух и покой. Он окрепнет и поправиться”. Но поправиться Хлебникову не удалось. Он умер на даче у Митурича через полтора месяца с большой скромностью и невероятным мужеством, перенося все трудности своей болезни и смерти.
Евгений Спасский. Встречи с будетлянами и жизнь с Велимиром Хлебниковым
Но где тут приручение посредством пищи? А вот:
Общежитие вхутемасовцев размещалось в двух восьмиэтажных зданиях на Мясницкой ул., д. 21. Там стихийно стали возникать в каждой квартире коммуны со своими номерами, например: комбыт №1 или комбыт №2. Проживающие студенты в количестве 20–25 человек объединялись в коммуну, в каждой такой квартире было 6–7 больших комнат, и всё, что получалось по карточкам или коллективно зарабатывалось, сдавалось в общий котёл коммуны. Туда же шли полученные из дому или от АРА посылки. Ежедневно поочерёдно устанавливали очередь дежурных, в обязанность которых входило готовить обед и ужин на всю коммуну и убирать общие места пользования. ‹...›
Небольшой хлебный паёк, пшено, сахарный песок, а ещё дополнительно закупалась картошка и немного сала — вот весь рацион питания, из чего приготовлялись обеды и ужины. ‹...›
В таких обстоятельствах и на этом фоне в общежитии ВХУТЕМАСа появился Хлебников. Велимир в среде молодёжи нашёл товарищей, которые, насколько могли, его бескорыстно материально поддерживали. Это ему импонировало.
Но в силу своей большой скромности и человечности он не хотел ни для кого быть обузой, поэтому его образ жизни был похож на кочевника, то есть он ютился понемногу то у одного вхутемасовца, то у другого. Когда он появился в нашей коммуне, его здоровье уже было сильно подорвано. Не умея приспосабливаться и не будучи признанным широкой публикой, Велимир страшно нуждался и голодал.
И вот однажды, в один из вечеров поздней осени 1921 года в нашу коммуну, помещавшуюся в квартире №82, явился Велимир Хлебников. ‹...› Появление Велимира для нас оказалось неожиданностью, хотя мы все его хорошо знали, — он иногда выступал на больших вечерах вместе Маяковским, Каменским, Есениным.
Хлебников был одет в большой серо-желтоватого цвета длинной поношенной поддёвке с меховым воротником, на голове с круглой чёрного цвета шапочкой. Высокий, с задумчивыми большими глазами. Он без всяких лишних слов тихим голосом попросил его принять в нашу коммуну, так как ему негде жить и питаться.
Все присутствующие коммунары с восторгом такую его просьбу приняли, и мне, как одному из активистов-комсомольцев, пришлось проявить личную инициативу по устройству быта для нового члена нашей коммуны. Я предложил ему соседство, и он согласился. ‹...› В маленькую комнатушку при кухне и вселился вместе со мной Велимир Хлебников. Жить нам было крайне тесновато — мой топчан был хорош для моего небольшого роста, но для Велимира он был коротковат. Укрывался он своей поддёвкой. Подушка у нас была одна. Я же укрывался небольшим одеялом и шинелью. Часто мне приходилось спать у товарищей в других комнатах.
Велимир, после нашего согласия принять его в коммуну, тут же принёс свой багаж, состоявший из большой связки его рукописей и небольшого личного архива. Ежедневно и в одно и то же время, после нашего скудного завтрака, Велимир куда-то рано уходил со своими некоторыми рукописями и приходил поздно вечером. Поужинав со мной, он обыкновенно садился что-то писать, обрабатывал свои ранее написанные стихи и просиживал до 2–3 часов ночи. Работал он много и упорно. ‹...› Иногда, после позднего ужина, мне удавалось кое о чём с ним побеседовать, а позже Хлебников стал поручать мне переписывать под его диктовку начисто наброски его стихов. Такая работа меня очень радовала, но она была и трудна, так как его стихи оказались сложными и по тематике и по набору слов. Все его рукописи валялись в углу комнатушки — Велимир не соблюдал какого-либо порядка для своих бумаг и к ним относился крайне небрежно. ‹...›
Сергей Евлампиев. О Велимире Хлебникове
И где же пресловутая наволочка для рукописей, замечу в скобках. Заметив, продолжу о приручении посредством хлеба насущного.
Радости моей не было конца, когда я смог пожать руку Велимира, слёзы душили горло, и я не мог произнести слова приветствия. Велимир сердечно тронут был моим волнением, и мы дружественно смотрели друг на друга. Тут, кажется, я впервые узнал о его семейном положении и сестре художнице Вере Хлебниковой. Делился с ним своими изобретательскими делами, хотел объяснить принцип волнового полёта, но Велимир упорно отклонялся от вникания в технические дела, говоря, что этот храм закрыт для него, и он ничего не поймёт. Тогда как я чувствовал родство своей технической мысли с его философией о мироздании и движении. Он стал посвящать меня в свои поэтические произведения, каждый раз давая при встрече новую рукопись для прочтения.
Так, за четыре месяца нашего общения, я познакомился почти со всеми начисто переписанными материалами, которые можно было печатать.
Ко времени моего приезда Велимир был водворён в комнату Спасского, художника, который скромно жил один без жены. И Велимир, постелив тулупчик на железную кровать, спал и работал, сидя на ней. ‹...›
Велимир к весне начал хворать. Персидская малярия давала приступы.
Помню, я встретил его на дворе его дома. Я пришёл со своей обычной корзинкой с обедом от Исаковых для Велимира. Его дома не было. Но по выходе из дверей я встретил его. Он шёл в расстёгнутом тулупчике, серый, с блуждающими глазами и трясущимся подбородком. Подмышкой папочка с рукописями. ‹...› Пришли домой, в комнатушке холодно. Я принёс в банке суп и кусок пирога. Получил это от Анны Осиповны с условием, что она будет давать обед, пока он болен. Пока донёс обед с Арбата, он остыл. Но Велимир сразу принимается за еду. Он всовывает пирог в банку с супом, разминает ложкой и ест. Он не может жевать пищу, так как у него осталось несколько передних зубов, которые мешали жевать деснами, поэтому он предпочитал есть размягченную пищу.
Обычно мне давалась во время его обеда рукопись. Поев, Велимир усаживался по-турецки на свою железную кровать. На табуретке около — чернила в баночке и бумага. Кладёт папку на ноги и пишет.
Малярия утихает дня за три. Велимир ободряется, бродит по городу. Как-то мы шли по Кузнецкому. Он остановился у витрины с модельными костюмами. Внимательно разглядывал их: „Я бы не отказался иметь такой костюм. Мариенгоф хорошо одевается”. Я же говорю ему, что его костюм соткан из нитей крайностей нашей эпохи. Более честной и прекрасной одежды, чем его, иметь нельзя. На нём был сильно изношенный серый костюм Маяковского, ботинки военного образца, серый суконный тулупчик Маяковского, тоже сильно поношенный, военного покроя, и круглая меховая шапочка. ‹...›
По приезде своём в Москву я вскоре побывал у Бриков. От них я узнал о том, как ехал Велимир сюда в санитарном вагоне и в каком виде он явился к ним. Л.Ю. при этом заявила, что приютить его у себя они никак не могут: „Он хуже маленького ребёнка”, — но что они будут принимать участие в нём и через меня оказывать ему всяческую помощь. Мне же поручалось “присматривать” за ним.
Пётр Васильевич Митурич. Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым
Откашляв вслед за Петром Васильевичем спирающее горло волнение, продолжаем дознаваться: приручил он Хлебникова посредством прикорма или нет.
Вообще Велимир не выказывал никаких своих эмоциональных переживаний. Ни радости, ни печали, ни теплоты приятельских чувств. Нужно было быть весьма проницательным и внимательным к нему, чтобы уловить тончайшие признаки его душевного движения.
‹...› Как-то мы шли с Велимиром по улицам Москвы. Он вёл отрывочную беседу о временны́х закономерностях отдельных личностей. Говорил, что ему нужен секундомер для исследования коротких кусков времени перелётов настроений человеческой души. Он сделал такое замечание: „Люди моей задачи часто умирают 37-ми лет; мне уже 37 лет”. Велимир заметил, что интеллигенты университетские стремятся новую мысль отрицать раньше, чем она ими понята. Своего рода механическая защита своей касты — не допускать мысли, что они могут столкнуться с таким новым учением, которое их может поставить вверх ногами. Велимир не только не возражал на возражения, но просто их игнорировал и продолжал разъяснять следующее положение, если слушатель внимал. Если он не усваивал, Велимир прекращал разговор.
‹...› „Вы завезли меня в малярийное место, — бросил он мне упрёк. — Вы будете отвечать... моё доверие непросто заслужить”. Меня удручало раздражённое состояние больного.
Юрий Дружников. Тайна погоста в Ручьях (возражения В. Молотилова)
Юлия Григорьевна Арапова (Капитанова) покинула бренный мир в уверенности, что уж она-то доверие Хлебникова заслужила. Ничего подобного. Он ей припомнил свой позор.
Есть у Велимира Хлебникова стихотворение, над разгадкой которого вспотели лучшие умы, иные даже загнали себя в мыло. Анфиса Абрамовна, вот кто. Но я вам этого не говорил.
В тот год, когда девушки
Впервые прозвали меня стариком
И говорили мне: „Дедушка”, — вслух презирая
Оскорблённого за тело, отнюдь не стыдливо
Поданное, но не съеденное блюдо,
Руками длинных ночей,
В лечилицах здоровья, —
В этом я ручье Нарзана
Облил тело своё,
Возмужал и окреп
И собрал себя воедино.
Жилы появились на руках,
Стала шире грудь,
Борода шелковистая
Шею закрывала.
7 XI — 21, 5-гор
С пятью горами понятно, то же самое с ручьём Нарзана:
Хлебников, как я уже говорила, не проявлял смущения оттого, что его костюм состоит из самых фантастических элементов. Разве только в фигуре, в движениях чувствовалась некоторая связанность, пожалуй, пришибленность. Он сидел всегда как-то особенно скромно, прижав колено к колену, подтянув ноги в колодках под кресло, и придерживая рукою воротник сюртука. Но лицо его при этом было спокойно, пожалуй, безразлично. Глаза неотрывно смотрели ясным, равнодушным взглядом прямо в глаза собеседника. Он не смущался, когда дачники приносили ему горячую лепёшку или бобовую похлёбку… Брал эти “подаяния” спокойно, непринуждённо и равнодушно. Так же принимал заботы вообще о насущных мелочах.
Жизнь наша в Железноводске была трудна и голодна, и мы частенько сидели без хлеба. В один из таких бесхлебных дней он явился из лесу с грудой лесных груш. Протягивая их нам, он заявил, весьма серьёзно и с убеждённостью: „Оказывается, ими можно отлично питаться”. На эту реплику хозяйка даже рассмеялась в злом восторге: „Куда уж лучше!.. Встал утром: есть у нас что поесть? — А как же — целый лес груш!”
Надо сказать, что Юлия Васильевна (хозяйка) считала Хлебникова кровно обязанным ей за комнаты и поэтому всячески старалась выколотить из него “благодарность”. Она заставляла его слабого и больного (он иногда качался на ходу — этот огромный человек), таскать громоздкие вязанки хвороста из леса. Он таскал их, сгибаясь под тяжестью.
Раз как-то, отчитывая его за непутёвость, она изрекла: „И не стыдно!… Добро бы доктором был или инженером, а то бо-знать что, — так, блаженный какой-то!..” А он в ответ с готовностью подтвердил: „Да, меня ещё в гимназии называли блаженным”.
После скромной трапезы, состоявшей из фасоли и лесных орехов, Хлебников с такой же убеждённостью, как говорил о грушах, заявил: „Фасоль и орехи проясняют мысль”.
Он никогда ни на что не жаловался, не ворчал на тяжёлые условия жизни, не высказывал желания переменить их. Его подчинение тяготам жизни было лишено какого-либо смирения или бравирования — он был просто к ним равнодушен. ‹...›
Его любовь к лесу, к природе сказалась особенно глубоко и даже изящно в одном эпизоде, которым, собственно, и завершаются мои воспоминания о нём, но я думаю, что его можно привести и раньше.
Хлебников постучался к нам глубокой ночью после того, как, простившись, ушёл совсем из Железноводска (“ушёл” я здесь употребляю в буквальном смысле, он ушёл пешком).
На вопрос в чём дело, он ответил просто, что вернулся проститься с нарзаном.
Хлебников любил в лесу одно место, где был нарзанный источник. Источник был плохонький, никакого сооружения вокруг не было: просто из железной трубки нарзан бил сильной струёй в большую каменную чашу и оттуда стекал вниз, на землю. К этому источнику любили мы бегать по утрам купаться. Вечерами там собирались коровы, козы, возвращавшиеся домой. Им нравился вкус нарзана. Вот с этим нарзаном и вернулся проститься Хлебников, вспомнив о нём после того, как ушёл уже за вёрст 10–15 от Железноводска.
Наутро он снова ушёл, и на этот раз навсегда.
Ольга Самородова. Поэт на Кавказе
С руками длинных ночей тоже всё понятно: у ручья он обливался исключительно в тёмное время суток, чтобы сёстры Самородовы не подглядели. Разумная предосторожность. Но что за оторвы надсмехались над ним за убитое двумя тифами и тремя годами голодовок тело?
Как зовут одну из них, вы только что узнали: Юлия Арапова (Капитанова). Сказано не в укор: один только разок подхихикнула подруге. Но мстительный Хлебников к нахалкам таки пристегнул. Хотите верьте, хотите нет. На нет есть подневная роспись трудов и дней от Софии Старкиной, земля ей пухом. Всю роспись доводить до сведения незачем, достаточно хлебниковских наездов в Баку. Как известно, именно здесь он открыл свои знаменитые законы времени:
После походившей на Нерчинские рудники зимы в Баку я всё-таки добился своего: нашёл великий закон времени (а для этого я перечислил все войны земного шара), под которым подписываюсь всем своим прошлым и будущим, в который я верю и заставлю верить других.
Письмо В.В. Хлебниковой в Астрахань от 14 апреля 1921 г.
Приступим, построчно поминая Софию Старкину добрым словом.
| 1920 | |
| 27 апреля | Установлена советская власть в Баку. Незадолго до этого Добровольческая армия разбита в Дагестане. |
| 22 августа | Удостоверение о командировке в Баку на службу выдано Хлебникову Харьковским политпросветом. |
| 1–7 сентября | I съезд народов Востока в Баку. Хлебников на нём присутствует. |
| 25 сентября | Армавир. Хлебников — делегат 1-й конференции Пролеткультов Кавказско-Донецких организаций. |
| конец сентября — начало октября | Хлебников в Дагестане. |
| октябрь | Приезд в Баку. Приглашен к сотрудничеству в «Кавказской коммуне». Поступил на службу в БакКав Роста. Одновременно в художественном отделе служили Кручёных, Д’Актиль, Вечорка и др. Поселился в Морском общежитии на Баиловской ул. Знакомство с М. Доброковским, семьей Самородовых. Встречи с Вяч. Ивановым, преподававшим в университете. |
| 26 октября | Зачислен вольнонаёмным лектором школьно-библиотечной части Политпросвета Волжско-Каспийской флотилии. |
| 30 октября | В Баку на коллегии агитаторов читает лекцию «История социалистического движения». |
| 2 ноября | Письмо Хлебникова к родным: Я провёл две недели в ауле около Дербента, среди горцев. |
| 5 декабря | Баку. В журнале «Военмор» опубликована статья «В мире цифр». |
| 6 декабря | Получил лёгкость на душе: время — логарифм пространства. |
| 17 декабря | Баку. Доклад в матросском университете «Красная звезда» «Опыт построения чистых законов времени в природе и обществе». «Коран чисел». Найдены законы времени. |
| 1921 | |
| 1 января. | Вяч. Иванов предложил Хлебникову писать космическ. поэ. |
| 3 января | Письмо В.Д. Ермилову об открытии законов времени. |
| 21 января | Запись в дневнике М.С. Альтмана о встрече у Вяч. Иванова и разговоре с Хлебниковым. |
| 31 января | „Лектор шк.-библ.-лекц. части Хлебников отчисляется и исключается из списков сотрудников. Основание: заявление Хлебникова”. |
| 15 февраля | Запись в дневнике: Самородов дал обмотки и ботинки |
| 2 марта | „Настоящее удостоверение выдано тов. Хлебникову Виктору в том, что он 17 декабря 1920 г. читал в коллегии лекторов Университета «Красная звезда» доклад «Опыт построения чистых законов времени в природе и обществе», причём в этом докладе указывал, что 21 января 1921 года должно возникнуть где-либо Новое Советское Правительство”. |
| 7 апреля | Письмо Хлебникова из Баку к В.Д. Ермилову о возможности предвидения будущего. |
| 12 апреля | Дарственная надпись на «Ладомире»: Бореньке Самородову от Хлебникова на злую память. Баку. 12 апреля 1921 года. |
| 13 апреля | Получил право выезда в Персию. |
| 14 апреля | На судне «Курск» прибыл в Энзели как участник Гилянского похода Красной армии. |
| август | Уезжает из Баку в Железноводск. Живет на даче у Самородовых. |
| 5 августа | Удостоверение, выданное В. Хлебникову Советом Пропаганды Персии о командировке в Ташкент с заездом в Астрахань. |
| 13 сентября | Написано посвящённое Юлии Самородовой стихотворение «Детуся». |
| сентябрь–октябрь | Письмо к В.А. Хлебникову из Пятигорска. Ехал 7 дней из Баку в Пятигорск. По дороге ограбили и около Хасавьюрта выбросили из вагона. |
| осень | Служит ночным сторожем в Терроста. Читает лекции в Пятигорском университете. Бывает на радиостанции при Доме печати. Написаны поэмы «Ночь перед Советами», «Председатель чеки», статьи «Знаки равенства», «Радио будущего». |
| 1 ноября | Уволен с должности ночного сторожа. |
| 2–11 ноября | Написана поэма «Переворот в Владивостоке». |
| 7 ноября | Написано стихотворение «В тот год, когда девушки…» |
| 10 ноября | Написано стихотворение «Перед закатом в Кисловодск…» с посвящением К.А. Виноградовой. |
| 7 декабря | Запись в дневнике: Я чувствую гробовую доску над своим прошлым. Свой стих кажется чужим. |
| декабрь | Сорвав курс лечения, выехал в Москву, чтобы ускорить издание своих произведений. |
| 28 декабря | Приезд из Пятигорска в Москву. |
Оставляю на самоподготовку вычисление временнóго отрезка, соответствующего рассказу Юлии Араповой (Капитановой). Лично меня гораздо больше занимают ходки Велимира Хлебникова к графам Толстым времён того же Баку. Дело в том, что В. Иванову, не говоря о Петре Митуриче и даже А.Н. Андриевском, Хлебников вещал, а младший бакинский граф Толстой оказался учителем, которого превзойти так и не удалось. Даю наводку на доказательства.
Возможно, Кант бывал упоминаем. Но его труды изучены ещё подростком Витюшей, основные положения и выводы — в безотказной памяти-бездне. Пройденный этап и Кант, и Спиноза. А какие книги не читаны, да к тому же и позарез надобны именно сейчас, в Баку? Предстоит бросок через Каспий, необходимо подковаться. Учение суфиев — второе, что приходит на ум.
Итак, Велимир Хлебников и Борис Толстой ведут бесконечные разговоры о зикре, Омаре Хайяме и тому подобное. При этом Хлебников сидит, а Толстой лежит.
Хотя бы разок поднялся с одра и сплясал. Да ведь и Хлебников, который в дальнейшем
скакал, как бешеный мулла, то есть кружился вприпрыжку, — сгорбился, по своему обыкновению, на краешке стула. При этом любому ребёнку известно, что кружение с подскоками — молитва подлинного суфия. Вина бы выпили, на худой конец. Омар Хайям особенно хорош в подпитии.
Можно и дальше мне ковырять в носу, только зачем. Не лучше ли предположить, что Борис Толстой увлёкся йогой задолго до переезда в Москву — раз, лежачий образ жизни выдуман для отвода родительских глаз — два.
Ничего себе болезненный: вон какую кралю отхватил. Дражайшая половина в кепке ходит, между прочим. Потому что краля — крайне левая. Боря полёживает, а она ему охапками стихи посвящает.
Теперь слушай сюда, как оно было на самом деле. Коротенько, мы оба занятые люди. Велимиру Хлебникову действительно повезло пересечься с носителем редкостных знаний: Борис Толстой продвинулся в йоге до безусловного подчинения тела рассудку. Пульс два удара в сутки — легко. Остановка дыхания с полудня до полуночи — запросто. И тому подобное.
Тому подобное в семейной жизни переводится так: один раз познала продвинутого йога — и ты его Пенелопа навсегда. Коротенько об Индии: розовая дурь там невозможна. Не с кем. У каждой спутник жизни что надо, у любой неприкасаемой. От милёнка к милашке — да вы с ума спятили. Любой индус умеет брать своё, доставляя то же самое источнику бла
женства втрое по будням и впятеро по выходным.
Однако вам подавай любомудрие, а не особенности питания на полустрове Индостан. Сколько угодно и навалом. Это преувеличение у Вечорки, что Хлебников занимал их супружеское ложе всякий раз, как только Боря вставал откушать или прогуляться в пассаж Тагиева за куревом. Ничего подобного, всего разок.
Боря ведь не гнилой колодой валялся, хотя поза вроде бы соответствовала: он оттачивал навык мгновенного обнуления тяги земной. Учился летать, попросту говоря. Покамест парил в полутора вершках над койкой, чтобы мамаша не забила тревогу: „L’esprit malin! Mon fils dans les griffes du Satan!”
Обыкновенное самообладание, никакого потустороннего вмешательства. Было показано Велимиру Хлебникову. Вот это да-а-а. Расскажите, как вы научились. Поведал вкратце; подробнейшее руководство к действию — на тумбочке слева. Lisez-vous en français? Dans un tel cas, lisez attentivement cela. Permettez maintenant de restaurer les forces. Merci.
Хлебников давай глотать и эту, и ту, и вон ту книги. Пока Борис восстанавливает силы, приземлясь. Очухался — вопросы, вопросы, вопросы. Тот самый Хлебников. Который. Бывало, соблаговолит. Открыть рот. Единственно телесного пропитания ради. Или для поучения. Любознательных несмышлёнышей.
Начитался книг, выспросил подробности у графа — надо самому обнулить силу тяготения. Тут-то его Марья Дмитриевна и застукала. Дай, мол, гляну, не ворует ли наволочки для набивки своей бредятиной.
Бесстрашный человек, разумеется. Борис Дмитриевич Толстой — бесстрашный человек, в совершенстве владел тем, что индусы называют ‘абхай’. И перегнул палку.
В. Молотилов. Целитель. Гл. «Чижик-пыжик»
Как многим по сию пору неведомо, Ю.М. Нагибин (Фрумкин) заступился за подзапретного наряду с Хлебниковым Осипа Эмильевича Мандельштама в самый разгар андроповщины. Вот почему я предложил ему возвысить голос, и он таки возвысил. Статью в «Новом мире» сократили вдвое, но тиснули: бодаться с Добрыней на коне дураков нет. Заступник земли Русской — вот кто такой Юрий Нагибин, если хотите знать. Мать сыра-земля ему пухом.
Сообщаю без всякого удовольствия, что лет до сорока не знал ни строки Мандельштама. Преувеличение, да. Две строки знал. От Ильи Григорьевича Эренбурга. Две строки Мандельштама вкупе с притчей. Притчей и закруглю дозволенные речи.
Мы оба родились в 1891 году; Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребёнком, капризным, обидчивым, суетливым. До чего несносный, минутами думал я, и сейчас же добавлял: до чего милый! Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение.
Был он маленьким, щуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночь у стен Акрополя; и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка.
Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убегал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых “либералов” и строго сказал им: „На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама, вы ответите „нет”. Вас спросят, кормили ли вы его, и, если вы ответите „да”, вам многое простится”. В самые трагические минуты он смешил нас газеллами:
Почему ты всё дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.
Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь: Воспоминания. Т.1.
М.: Советский писатель. 1990. С. 309–310.


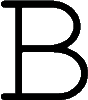 от как среди нас появился Велимир Хлебников.
от как среди нас появился Велимир Хлебников.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()