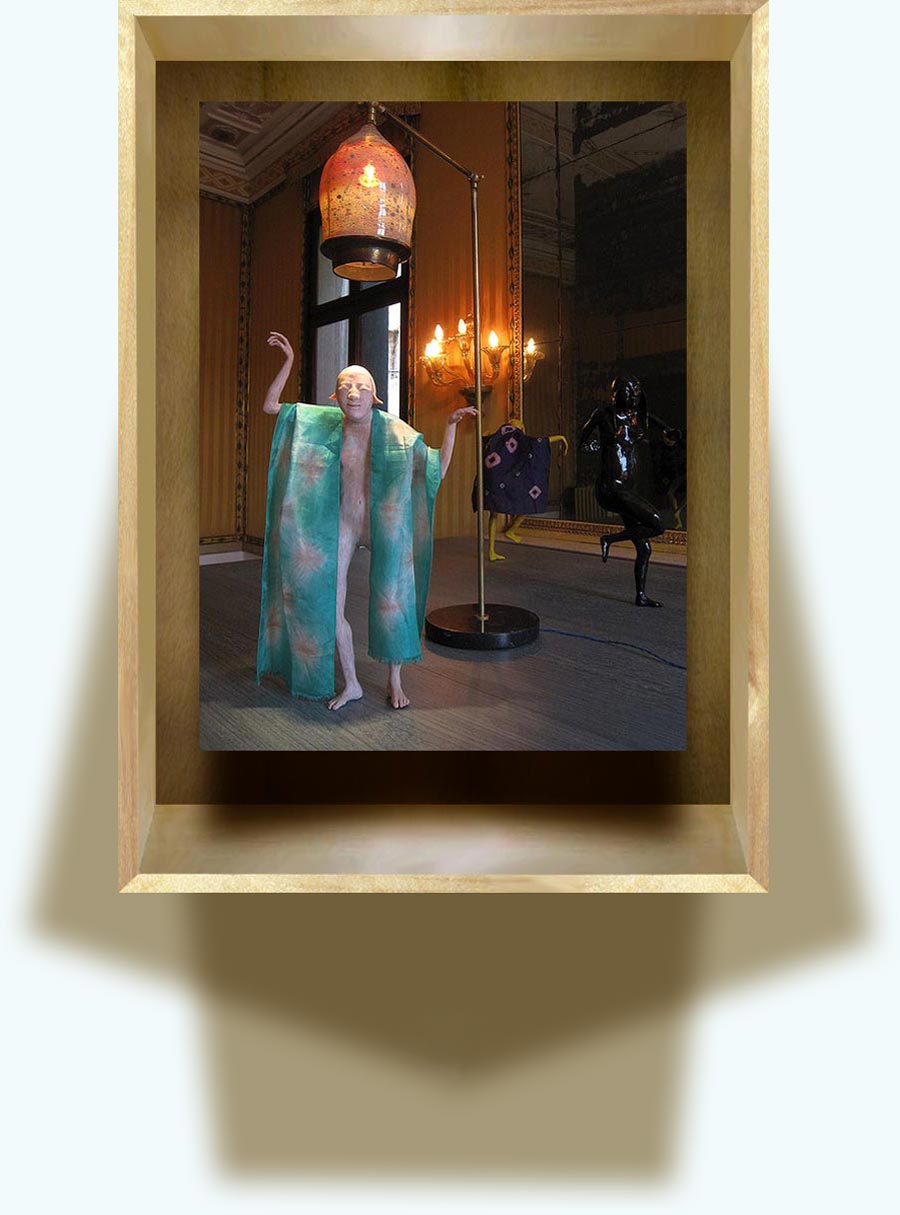
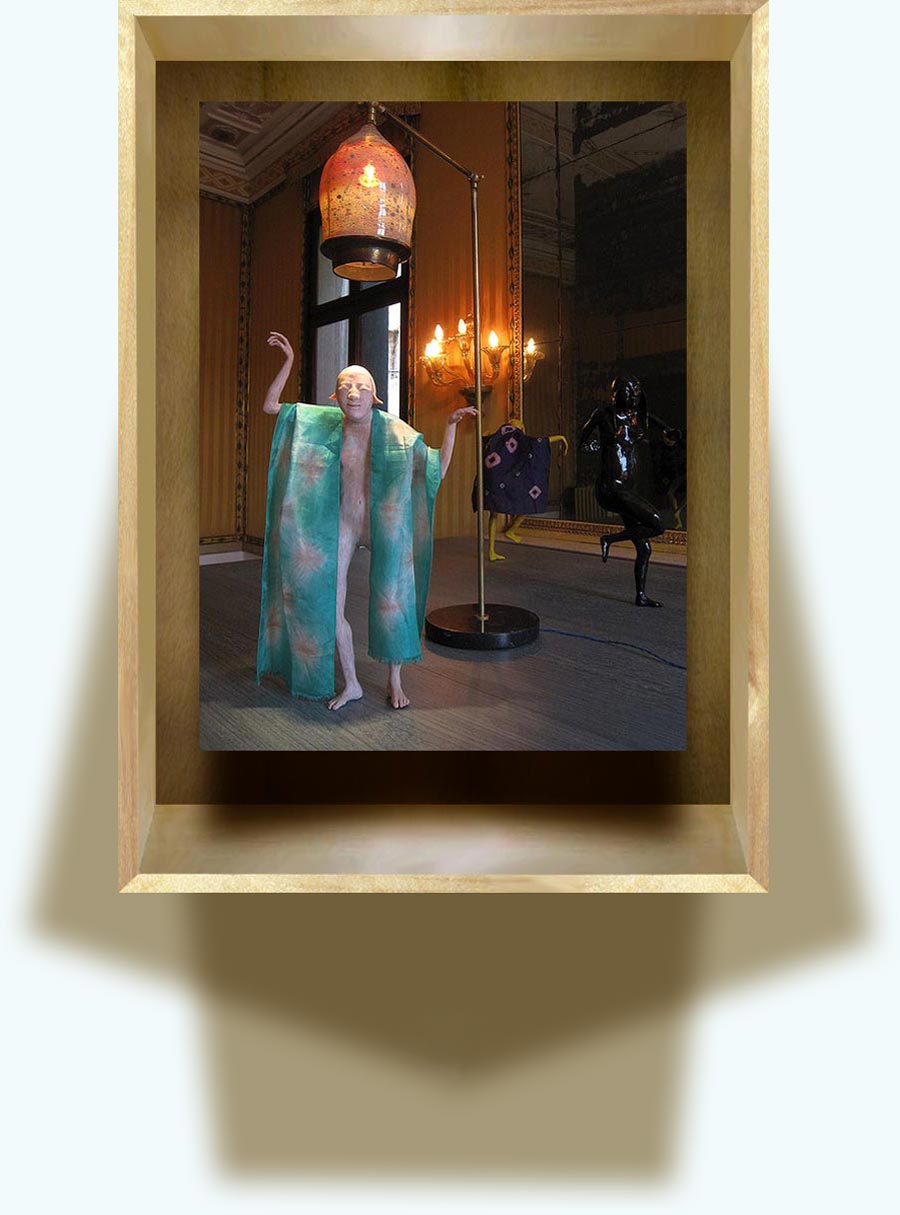
Шёл 20-й год. Баку только что советизировался. К нам хлынули художники и поэты. Центром большинству из них казалась КавРОСТА, художественным отделом которой заведовал С. Городецкий. В качестве кого-то подвизался и Алексей Кручёных.
В октябре или ноябре, прямо с вокзала, туда попал и Хлебников. Там его впервые увидела. Хлебников был назначен составлять лозунги и четверостишья для плакатов, а сестра была копиисткой плакатов. Кто ему устроил это место, я не знаю, но думаю, что С. Городецкий. Это давало ему паёк, некоторый намёк на жалованье, и больше ничего. С непокрытой спутанной гривой волос, бородатый, в замызганной ватной солдатской кацавейке, в опорках, сквозь дыры которых сверкали голые красные пятки, на босу ногу, появился Хлебников в КавРОСТА.
В руках вертел он скверную самодельную тросточку, был рассеян, замкнут, совсем не нарочит. Но вокруг себе распространял атмосферу некоторой неестественности и напряжения. Все эти подпитавшиеся и приодевшиеся художники и поэты, и “просто граждане” чувствовали себя неуютно рядом с лохматым, бородатым поэтом. Необычным казалось и зрелище такой внешней запущенности. За нею чудилось нечто ненатуральное, почти юродивое. Тем более что сам Хлебников был прост и равнодушен к этой стороне своей особы.
Он молчал, пристально глядел на работавших вокруг него и непринуждённо помахивал неразлучной тросточкой. Некоторым (ныне покойному режиссёру Угрюмову) он был даже неприятен нарочитой, как им казалось, непристойностью всяких несоответствий: положение – костюм, рост – голос.
Никто не проявлял ни малейшего участия в судьбе Хлебникова. Кручёных же, хотя и вертелся около него и называл его „Витей”, делал не больше. А между тем, можно было по тем временам помочь голодному, раздетому и разутому Хлебникову.
Когда сестра спросила у Кручёных — отчего это так, он наговорил ей целую кучу слов о невозможном характере Хлебникова, о том, что помогать ему совершенно бессмысленно, так как завтра же он будет по-прежнему и бос и гол. Очевидно, эти соображения ему казались вполне удовлетворительными и совершенно его успокоили. А между тем, Хлебников был голоден до болезни, до психоза.
Кавростовское его существование было весьма своеобразно. Днём он бродил по отделу, писал лозунги и стихи. Ходил обедать в столовку, где не съедал, а поглощал должные порции пшена так, что создавалось впечатление, что он может его есть без конца. Ночью он укладывался тут же, в отделе, на огромном столе, среди неоконченных плакатов, клеевых красок и всякого хлама.
Одеяла у него не было и не было подушки. Впрочем, у него вообще ничего не было. Были только рукописи.
С мужской половиной своих сотоварищей по службе он не сходился. К женщинам относился доверчивее. Те же с ним были проще и теплее. Охотно разговаривал, улыбался, и даже среди работы царапал экспромты. Вот один из запомнившихся мне (он предназначен секретарше отдела Богот):
В КавРОСТА он пробыл не долго. Он ли пришёлся не по вкусу, ему ли самому не понравилась работа, я не знаю, но только вскоре он очутился в П/О Каспийского флота. Он занял место преподавателя ораторского искусства в «Матросском университете» (так называлась в просторечье школа для военных моряков). Тот, кто знал голос Хлебникова, его манеру говорить, она хорошо показана у Петровского, тот представляет всю парадоксальность такого назначения. Однако это было так.
В пустой, нетопленой, прохладной комнате, укрытый куском расписного холста, очевидно декорации, спал Хлебников. Кроватью ему служили три ящика. Один из них — клетка из-под кур — был набит его рукописями. В такой обстановке в первый раз увидал мой брат, военмор, работавший в качестве художника в политотделе флота.
В проходной комнате общежития Хлебников пробыл всего несколько дней. Его перетащил к себе художник Доброковский, заведующий художественной мастерской П/О. Мастерская, находившаяся тут же (в общежитии), служила одновременно художнику и жильём. Тут брат познакомился ближе с Хлебниковым.
Новое жилище оказалось тоже не из комфортабельных. Повсюду кучами были свалены дрова, книги, сундуки, старые табуретки, холст для плакатов. Посреди комнаты лепилась “буржуйка”, на которой варили клей, кипятили прямо в ведре чай. Неподалёку приткнулся стол, заваленный книгами, красками, кусками глины для лепки. Тут же саженный подрамник с неоконченными плакатами. В потолке тусклая электрическая лампочка. В воздухе вечный запах клеевых красок.
Вскоре после водворения Хлебникова весь разнообразный инвентарь мастерской покрылся ворохами его рукописей. Они валялись всюду — на дровах, на сундуках, под столом, у печки. Но Хлебников неизменно утверждал, что этот беспорядок для него есть величайший порядок. И, действительно, прекрасно в нём ориентировался.
Жилось ему на новом месте несколько лучше. В комнате было тепло. Спал он уже не на ящиках, а на солдатской койке. Укрывался не декорациями, а пальто.
Сколотили ему кое-какую обувь и одежонку. Но голодал он по-прежнему ужасно. Один матросский паёк был не в состоянии удовлетворить изголодавшийся до последних пределов организм. И брат несколько раз наблюдал такие сцены: Хлебников сидит перед жестяным ведёрком, в ведёрке сырой разбухший горох. Горох плавает в воде, и он вылавливает его прямо рукой и затем отправляет в рот. То, что брат застаёт его за такой первобытной трапезой, не смущало его. По привычке воспитанного человека он даже любезно протягивал ведёрко с горохом, предлагая отведать. На брата эти зрелища производили удручающее впечатления, но некоторые его настроений не разделяли: считали, что Хлебников дурит от лени.
А между тем, здесь меньше всего дела было в лени. Хлебников действительно не знал и не догадывался, что можно пойти на двор, напилить дров, затопить печку и сварить горох. Он был абсолютно беспомощен и беззащитен перед натиском всевозможных житейских мелочей. Жизнь не любит таких людей. Но Хлебников, очевидно, мало думал об этом и шёл на удары, не защищаясь, рассеянный и равнодушный.
Немногие же попытки приспособиться приводили обычно к казусам вроде следующего.
Хлебников был страстным курильщиком (кстати, табак он всегда хранил в двух женских ридикюлях). Табак у него кончился, и он как-то вечером отправился в татарскую лавчонку, чтобы попытаться обменять на табак единственную имевшуюся у него вещь — какой-то мешок из плотной ткани. Он вертел перед татарином этот мешок, пытаясь выдержать полагающиеся при этом убедительные интонации, и говорил: „Мешок крепкий… хороший мешок…” Татарин небрежно помял пальцами ткань и возвратил с медлительным пренебрежением и брезгливостью: „На шьто такой мэшок? Пилахой мэшок… совсем пилахой…” И Хлебников тут же покорно и охотно засоглашался: „Да? Плохой? Пожалуй, он действительно неважный, плохой…” Бог знает, чем бы закончилась эта сцена, если бы наблюдавший её брат не увёл его и не устроил дела с табаком по-иному.
Матросы, жившие в том же общежитии, поглядывали на Хлебникова с любопытством, но считали его чудаком. Впрочем, благодушное отношение у некоторых переходило в более сложное чувство. Так один из них сказал как-то брату: „Это, должно быть, человек великий…” А друг его — Курносов в знак своей признательности подарил ему маленькую баранью шапочку-кубанку, с которой Хлебников потом не расставался. На его крупной волосатой голове она казалась особенно миниатюрной и производила чрезвычайно странное впечатление. Хлебников же как-то нарисовал курносовский портрет и подарил его матросу. Тот повесил его у себя над койкой.
На одном из спектаклей в Морском военном клубе матросов Солнышкиным, большим любителем драматического искусства, было прочитано стихотворение Хлебникова «Ты же, чей разум…». Солнышкин читал с пафосом, с драматическим подвыванием, так, как читают в захолустье любители апухтинской музы. Матросы были довольны и дружно аплодировали. Хлебников сам переписывал ему стихотворение, сам разъяснил смысл его и вообще возился с ним, подготовляя к выступлению. Потом, когда Солнышкин был командирован “в центр”, он дал ему рекомендательное письмо к Евреинову.
Хлебников органически не терпел крови и о кровопролитии говорил с отвращением. Как-то раз Б.С. рассказал ему, как он, будучи у Деникина, поднял бунт среди матросов на двух кораблях и увёл их в Красноводск к большевикам из-под самого носа флотилии. Причём это предприятие, окончившееся полной неудачей, не стоило ни одной капли крови. Весь командный состав был отпущен на шлюпке, да ещё с провиантом на все четыре стороны.
Хлебникова чрезвычайно пленил этот бескровный бунт, и он даже предполагал написать поэму на такой сюжет.
Иногда по ночам его заставляли стоять с винтовкой на часах у кассы П/О.
Однажды, наслушавшись от брата рассказов о пиратстве, развившемся на Каспийском море в 17, 18, 19 гг., Хлебников вдруг заявил: „Захватить какой-нибудь корабль, сделаться пиратом!..” Всё это было сказано с такой кроткой волнующе-вопросительной интонацией, что большего контраста между словом и тоном трудно было представить.
Брат рассказал ему в один из вечеров об острове Ашур-Адэ, расположенном против персидских берегов на Каспийском море. Хлебникова очаровала прелесть цветущих лугов острова, покрытых даже в декабре дикими нарциссами, цветами кактусов, и он предложил там устроить резиденцию Председателей Земного Шара. Только справлялся, есть ли там радио.
Доброковский взялся писать его портрет. Он охотно согласился. Но портрет очень удачный и прекрасно передававший испуганное выражение его синих глаз, был утерян потом в суматохе тогдашней жизни. Зимой же он украшал стену их общего жилья. Пробовал Доброковский и лепить Хлебникова. Тот попросил изобразить его с шаром на плече: „Шар — самая совершенная форма”, — сказал он.
Вздумал и брат написать его. „Только с рогами”, — заявил он. Брат согласился и добавил: „С бычьими?” — „Нет, — твердо возразил Хлебников, — с оленьими”.
Зима в этот год у нас была снежная и холодная. Хлебников целыми днями просиживал в мастерской за столом. Окутанный клубами дыма, он без конца писал. Вечерами иногда заходил молодой астроном — немец, и между ними непременно разгорался спор. Спорили о чём-то из высшей математики, о хлебниковском труде с математическими выкладками. Астроном нападал. Хлебников терял свой отсутствующий и равнодушный вид и защищался, нахохлившись, словно большая птица, спасающая детёныша. В хорошую погоду уходил в гости к Вячеславу Иванову, к художнику Маклецову.
Среди зимы уехал Доброковский, и он остался в мастерской полным хозяином. Бывали дни, когда он целыми днями не говорил ни слова. Бывали дни, когда он уходил и долгие часы бродил по баиловским холмам (Баилов — та часть Баку, где находился политотдел). Но голод давал себя знать: в лице и на руках появилась у него нездоровая одутловатость, он ослабел.
Любил расспрашивать о Персии и слушал рассказы о ней с неизменным интересом и мог говорить о ней сам по целым вечерам.
Была у него привычка играть словом. Скажет кто-нибудь почему-либо понравившееся слово, он подхватит его и со своим равнодушным и рассеянным видом начнёт разлагать его на новые слова, к ним прицепит новое, и т.д., и т.д. и кончит двустишием со странной и сложной рифмой.
Составлял гороскопы.
Ходил всегда слегка согнувшись, каким-то пружинившимся и подпрыгивающим шагом. При встрече почему-то отдавал честь. В глазах у него часто мелькало выражение испуга, как у встревоженного животного. Это особенно было заметно при внезапных встречах. Что бы на него не надевали — всё через два дня приходило в такой хаотический вид, что становилось неузнаваемо: ботинки зашнуровывались через пятое на десятое, обмотка сползала к щиколотке, другая просто моталась без дела.
Однажды он опять вздумал проявить свой практический талант и умение приспосабливаться к действительности. Он явился в театр Гротеск, где работали оба мои брата, с предложением написать пьесу. Не успев ничего путного сказать о ней, не узнав даже нужна ли она будет, и будет ли принято предложение, он вдруг решительно потребовал: „Давайте аванс…” И сам, кажется, и удивился, и испугался. Конечно, аванса ему не дали, а о пьесе не захотели и разговаривать.
Я его впервые увидела в Бакинском университете. Мы оба стояли в очереди за студенческим пайком. Паёк был убогий, но стоять за ним приходилось подолгу. Как попал Хлебников в студенты, я не знаю. Думаю, что паёк этот ему устроил Вяч. Иванов, который работал в это время в университете. Мне особенно запомнилась крохотная шапочка на густой гриве нечёсаных волос и большие, какие-то непристроенные руки, торчавшие из коротких рукавов серого, не по росту маленького пальто. Он стоял спокойно и безучастно, не обнаруживая смущения, хотя студенческая публика довольно бесцеремонно обозревала его. Он только сутулился и смотрел всё время мимо.
Наступила весна. Хлебников стал хлопотать о назначении в Персию, о которой думал всю зиму (оттуда он мечтал пробраться в Индию). Его направили в политотдел Персидской революционной армии. Назначение свалилось неожиданно, как снег на голову, и Хлебников принял его с бурной радостью. Брат говорил, что единственный раз он видел его в такой ажитации, в таком восторге. Он бросил даже свой куриный ящик с рукописями, которые потом комендант здания отнёс на чердак, и ринулся на пристань, чтобы в тот же день отправиться с пароходом в Персию.
После отъезда Хлебников как-то скрылся с нашего горизонта.
Затем я и брат уехали в Железноводск и там, конечно, уж ничего нового не смогли узнать о нём. Единственной весточкой была его небольшая поэма, которая недавно появилась в печати отдельным экземпляром и попалась мне среди газет и журналов в железноводской читальне.
В июле брат вернулся в Баку и там снова встретился с Хлебниковым. Первая встреча произошла у моего старшего брата, у которого тогда жил брат Борис. Хлебников казался отдохнувшим, даже помолодевшим, был хорошо настроен. Одет был в косоворотку из какой-то грубой суровой ткани, подпоясан ремешком, уже без обмоток, но на голове была неизменная курносовская шапочка. Пил чай, рассказывал о Персии…
Просидев уже часа полтора или два, он вдруг словно что-то вспомнил и проговорил с деловитой озабоченностью: „Ах, мои продукты могут испортиться!..” И так же деловито стал тащить из-под рубахи чурек.
Он рассказал Борису несколько эпизодов из своей персидской жизни. Оказалось, что в политотделе армии он хоть и числился, но время своё тратил, как хотел. Очень много бродил. И вскоре попал в ужаснейшую горную глушь, где жители деревушки отнеслись к нему доброжелательно, ребятишки окружали его очень доверчиво. Так он и получил свое прозвище “урус дервиша”.
Однажды в одной из таких деревушек его пригласил к себе в саклю местный дервиш. На ковре, постеленном на полу сакли, они просидели друг против друга всю ночь.
Дервиш читал стихи из Корана. Хлебников молча слушал и кивал головой, что полон внимания. Так их и застало утро. Когда Хлебников собрался уходить, дервиш подарил ему посох, высокую войлочную шапку (похожую на православную митру) и джуранки (цветные шерстяные носки, украшенные рисунком, наподобие тех, какими украшают ковры и паласы).
Он говорил брату, что вспоминает об этой ночи и подарок дервиша ему особенно дорог. И очень жалел, что подаренные вещи были у него потом украдены. В тот же период своей бродячей жизни в Персии попал он на службу к одному хану.
Тот взял его в качестве учителя к своему сынишке.
С маленьким ханом всегда занимался и ещё один мальчишка — слуга. Этого мальчишку били палками каждый раз, когда сиятельный ученик не знал урока. Дворец хана отличался своеобразной роскошью. Так Хлебникову запомнилась одна комната, где потолок был весь выложен китайскими блюдами. И другая, где на полу был вделан аквариум с золотыми рыбками, а потолок над аквариумом состоял из большого зеркала, отражавшего его целиком. Хан лежал на подушках, смотрел в потолок, и любовался отражавшимися в нём золотыми рыбками. Хан был большой мечтатель. Целыми днями просиживал он на подушках, нюхал розу, молчал и мечтал. Всем хозяйством управляла его жена, женщина деловитая и энергичная.
Когда брат спросил его — почему он так скоро вернулся из Персии, Хлебников сказал ему приблизительно следующее: Персия давила его древностью своей многовековой культуры. Он ощущал её как колыбель человечества, и тяжесть зрелости её чувствовалась ему во всем, даже в красных цветах граната. Ему надо было передохнуть от ощущения этой тяжести, надо было набраться сил. Вот почему он отложил свой план пробраться дальше в Индию и вернулся в Россию.
Больше Борис его не видел. Тот вскоре уехал в Железноводск. Оттуда он в Баку уже не возвращался.
В Железноводске никто из нас его не ждал. И встреча с ним поразила своей неожиданностью.
Я подымалась к себе на дачу на Железную Гору, и столкнулась с ним внезапно, и нелепо. Он шёл вместе с моей сестрой. Он был одет в старый, длиннополый сюртук, с чужого плеча. Воротник был поднят и плотно закрывал шею (потом я поняла почему — внизу не было рубашки). На босых ногах — деревянные с ремешками сандалии. Голова, как и прежде, покрыта крохотной курносовской шапочкой. В руках он держал нечто вроде проволочного чемоданчика (в таких по железной дороге возят кур), плотно набитого бумагами. Мы пожали друг другу руки. Он молчал. „Вы что же, в Железноводск приехали?” — неловко спросила я. Он ответил покорно, быстро и односложно: „Да, сюда”. — „Где же вы думаете устроиться?” — „Я? — он оглянулся и протянул руку. — Я думаю здесь…”. Это „здесь” был полуразрушенный, заброшенный санаторий, с неиспорченным, правда, плато для солнечных ванн на крыше. На эту крышу он и показывал. „А как же в дождь?” — „Там внизу есть комната, я думаю…” К сожалению, нет возможности передать интонации хлебниковского голоса. Какая-то неподражаемая, наивная птичья деловитость и рядом полное равнодушие, незаинтересованность во всём, о чём говорилось… Понятно, что я не могла решить этот вопрос так же просто. Мы забрали его к нам на дачу. Я отправилась выторговать у нашей хозяйки свободную комнату. Хозяйка, старушонка крохотная, смешливая и злая, долго ломалась. Пришлось пустить в ход и отца-сенатора (хотя и я, грешный человек, едва-едва знала, что отец вообще-то существует), и писательскую славу, и бедственное положение. В конце-концов комната была получена. Я привела её в жилой вид, постелила постель, повесила полотенце, разложила на письменном столе ручки, перья, чернила… Комната была уютная, удобно обставленная, и я в тайне надеялась на эффект. Но эффекта не получилось. Хлебников попросту ничего кроме письменного стола не заметил. Но на письменный стол он смотрел как очарованный. Он не мог сразу поверить, что это он будет работать за “настоящим” письменным столом. Вечером, когда я принесла ему ужин, я увидела его уже работающим за этим столом. На нём были разложены какие-то бумаги, карандаши, куски тиснёного линолеума, кажется, клише, и чадила крохотная коптилка.
Так зажили мы бок о бок, ежедневно встречаясь. Но отношения между нами вначале были очень сдержанными. Он много работал, а когда заходил в нашу комнату, то скорее ронял фразы, чем разговаривал. Мы обе с сестрой были застенчивы и молчаливы. Я в те годы была занята совсем не литературой, от многого отстала и не дерзала заводить разговоры на близкие ему темы.
Сестра же жила вся в своем замкнутом мире и больше слушала, чем говорила. Но потом он с большой простотой и всегда неожиданно делился с нами кое-чем. Помню, как подробно он объяснял мне свой, как он называл, главный труд… Я ничего не поняла в этом “альбоме” (мне почему-то рукопись с его главным трудом представляется в виде альбома с какими-то бурыми толстыми листами), с цифровыми, алгебраическими выкладками. То же, что поняла, показалось мне чем-то средневековым и невероятным.
Читал он часто и свои стихи… Мне особенно запомнилось «Саян», «Ты же, чей разум…» и понравилась их архаика.
Почти семь лет отделяют меня от лет, которые описываю. И от разговоров, вернее, от того, что говорил Хлебников, остались только обрывки.
Он любил Мурильо.
Считал гениальным Белого, советуя читать его «Серебряный голубь». Он говорил, что эта книга — лучшая из тех, которые он читал.
Вспоминая о Маяковском, он сказал, что, когда в последний раз он видел его, тот бродил по Москве задумчивый и был похож на принца.
Высоко ценил Евреинова.
Не любил Сергея Городецкого.
Очень тепло, как о человеке, отзывался о Вячеславе Иванове.
Когда пришло известие о смерти Блока, он был страшно поражён и все его разговоры в эти дни сводились в конце-концов к Блоку.
Он переживал его утрату, как утрату очень близкого человека.
Сестре моей он как-то сказал: „Мы оба с вами с облак сорвались”.
Хлебников, как я уже говорила, не проявлял смущения оттого, что его костюм состоит из самых фантастических элементов. Разве только в фигуре, в движениях чувствовалась некоторая связанность, пожалуй, пришибленность. Он сидел всегда как-то особенно скромно, прижав колено к колену, подтянув ноги в колодках под кресло, и придерживая рукою воротник сюртука. Но лицо его при этом было спокойно, пожалуй, безразлично. Глаза неотрывно смотрели ясным, равнодушным взглядом прямо в глаза собеседника. Он не смущался, когда дачники приносили ему горячую лепёшку или бобовую похлёбку… Брал эти “подаяния” спокойно, непринуждённо и равнодушно. Так же принимал заботы вообще о насущных мелочах.
Жизнь наша в Железноводске была трудна и голодна, и мы частенько сидели без хлеба. В один из таких бесхлебных дней он явился из лесу с грудой лесных груш. Протягивая их нам, он заявил, весьма серьёзно и с убеждённостью: „Оказывается, ими можно отлично питаться”. На эту реплику хозяйка даже рассмеялась в злом восторге: „Куда уж лучше!.. Встал утром: есть у нас что поесть? — А как же — целый лес груш!”
Надо сказать, что Юлия Васильевна (хозяйка) считала Хлебникова кровно обязанным ей за комнаты и поэтому всячески старалась выколотить из него “благодарность”. Она заставляла его слабого и больного (он иногда качался на ходу — этот огромный человек), таскать громоздкие вязанки хвороста из леса. Он таскал их, сгибаясь под тяжестью.
Раз как-то, отчитывая его за непутёвость, она изрекла: „И не стыдно!… Добро бы доктором был или инженером, а то бо-знать что, — так, блаженный какой-то!..” А он в ответ с готовностью подтвердил: „Да, меня ещё в гимназии называли блаженным”.
После скромной трапезы, состоявшей из фасоли и лесных орехов, Хлебников с такой же убежденностью, как говорил о грушах, заявил: „Фасоль и орехи проясняют мысль”.
Он никогда ни на что не жаловался, не ворчал на тяжёлые условия жизни, не высказывал желания переменить их. Его подчинение тяготам жизни было лишено какого-либо смирения или бравирования — он был просто к ним равнодушен.
Он любил природу, лес, животных, любил говорить о них. Целыми часами он, несмотря на свою слабость, бродил по Железной Горе. Раз, вернувшись, с такой прогулки, он явился ко мне. В руках он бережно держал свою знаменитую шапочку. В ней что-то пищало. Несколько смущённо, но очень серьёзно он объяснил мне, что это слепые бельчата, что он подобрал их на лесной тропинке, что, очевидно, они выпали из гнезда, что их надо накормить кислым молоком и лучше, если при помощи соски. Я взялась за это дело. Но ничего хорошего у меня не получилось. Кислого молока не было, самодельную соску они брали плохо и всё время выползали из его шапки (он отдал ее, находя, что в шапке им удобнее: напоминает гнездо). Питомцы наши стали подыхать. Каждое утро он справлялся о их судьбе. И когда узнавал, что окончил своё существование ещё один, кажется, всерьёз огорчался. Так и не удалось нам выходить ни одного.
Его любовь к лесу, к природе сказалась особенно глубоко и даже изящно в одном эпизоде, которым, собственно, и завершаются мои воспоминания о нём, но я думаю, что его можно привести и раньше.
Хлебников постучался к нам глубокой ночью после того, как, простившись, ушёл совсем из Железноводска (“ушёл” я здесь употребляю в буквальном смысле, он ушёл пешком).
На вопрос в чём дело, он ответил просто, что вернулся проститься с нарзаном.
Хлебников любил в лесу одно место, где был нарзанный источник. Источник был плохонький, никакого сооружения вокруг не было: просто из железной трубки нарзан бил сильной струёй в большую каменную чашу и оттуда стекал вниз, на землю. К этому источнику любили мы бегать по утрам купаться. Вечерами там собирались коровы, козы, возвращавшиеся домой. Им нравился вкус нарзана. Вот с этим нарзаном и вернулся проститься Хлебников, вспомнив о нём после того, как ушёл уже за вёрст 10-15 от Железноводска.
Наутро он снова ушёл, и на этот раз навсегда.
Единственная книга, которую он взял с собой, был Уитмен в переводе Чуковского. Отзыв Чуковского о нём, как о русском Уитмене, он, видимо, высоко ценил, и, когда давал мне прочесть строки, указывающие на это сходство, я впервые увидела в его лице отражение внутренней гордости.
Работал он в Железноводске чрезвычайно много. Пересматривал какие-то старые записи, что-то рвал, что-то вписывал в большую книгу, похожую по формату и по виду на конторскую. Лес вокруг нашей дачи был усеян листочками его черновиков. Он разбрасывал их без сожаления. Они белели всюду: на кустах, на траве, под деревьями. Хозяйка видеть не могла этих листочков: „И на что только человек время тратит!..” — ворчала она, снимая их с розовых кустов…
А Хлебников всё пускал да пускал свои листочки по ветру, мало заботясь воркотней хозяйки.
Я сама не блистала практическими способностями, но то, что в этом отношении представлял Хлебников, даже и меня ужасало, и тогда я принималась тормошить его расспросами, пытаясь найти источники, из которых можно было извлечь хоть небольшое обеспечение для него, хоть на некоторое время. Время близилось к холоду, мы должны были вернуться домой, а он был бос и гол и при том даже очень болен. Вокруг никого и ничего.
Когда я начинала ему говорить на эту тему, он мне отвечал такими, например, фразами: „Буду пробираться в Горскую республику, там, говорят, дают всем даром обувь, одежду”, — а когда я, чуть не плача от этой детской неразумности, спрашивала его: „Да где же вы видели такие республики, где людям что-нибудь даром дают? Нет их, таких республик, забудьте об этом!..” — он очень покорно и кротко соглашался: „Да? Вы думаете, нет таких?”
В другой раз, “вразумляя” его всё в этой области, я спросила: „Ну вот, издана ваша поэма, получили вы за неё деньги?” — „Нет”. — „Ну, так давайте напишем”. — „Куда, кому надо писать?” — „Написать, собственно надо Серёже Есенину”. — „Ну, так пишите Есенину…” — „Да, надо написать”.
Конечно, никому и ничему, в конце концов, так и не было написано.
Рассказал он мне раз и о том, что получил по тому времени довольно крупную сумму в Персии, при ликвидации политотдела. На мой вопрос — где же она, он признался, что её забрал в долг один сотрудник политотдела Абих, и всю её прокутил. „Где же он сейчас?” — „В Баку”.
Тогда я пристала к нему, чтобы он, не откладывая, написал бы Абиху письмо, а брат мой сходит к нему и поговорит с ним как следует. Хлебников, правда, послушался и письмо написал. Но когда брат пошёл по указанному адресу, оказалось, что Абих из Баку уехал, а куда — неизвестно. Так и пропали все деньги Хлебникова.
В Железноводске Хлебникову пришлось столкнуться с неким Зонаревским. Это бывший эмигрант, бывший скульптор, бывший фотограф, бывший председатель Железноводского исполкома, а в описываемые времена просто неудачник, живший тут же на даче, в кухне, спавший в ванне и декламировавший Маяковского.
Он влетал к Хлебникову с треском и шумом. Ещё издали на лестнице звучал его сумасшедший смех, и развевались ленты его лохматки.
Он рассыпался парадоксами, французскими словечками, сверкал маленькими с сумасшедшинкой глазками и хвастал, хвастал без конца.
Мне всегда казалось, что в такие минуты в комнату влетает стая галок. Хлебников сразу съёживался, ещё скромнее сжимал колени, глубже прятался в кресло. И без того человек не болтливый, он при нём совсем замолкал и отделывался односложными “да”, „нет” и смотрел на Зонаревского застланным, почти тупым взглядом. Но тем больше распалялся Зонаревский, чем больше замыкался Хлебников. Он хохотал, язвил, колол, показывал своё явное всяческое пренебрежение к Хлебникову, свое превосходство над ним. Мы видели, что эти встречи тяжелы для Хлебникова, и постоянно старались предотвратить их, пока, наконец, Зонаревский на нас не обиделся и не перестал ходить совсем. Разговоры их невозможно ни запомнить, ни передать. Это была какая-то бешеная скачка слов, словечек, усмешек, выкриков, с одной стороны, и чрезвычайно скупые, неохотные реплики — с другой.
Я привела это воспоминание только потому, что уж очень резок был контраст между этими двумя людьми, и они, очевидно, сразу почувствовали свою полярность.
Раз как-то сестра привела его на крышу того заброшенного санатория, где он собирался селиться. Барьер, огораживающий плато в одном месте был разрушен, и из пролома открывался превосходный вид вниз, на ущелье. Сестра, ничего не подозревая, подвела его к пролому. Он вдруг в ужасе отпрянул, попятился, отступил вглубь и забормотал, не скрывая своего страха: „Нет, нет, не могу, боюсь, нет…” А между тем сознание реальной опасности было ему, по-видимому, мало свойственно, судя по тому, как он недоумевал, когда его спрашивали — боялся ли он бродить один, без оружия по горной глуши Персии, где население вовсе не мирное и далеко не идиллистически настроено.
Но, очевидно, в нем было какое-то обаяние для обитателей этих диких горных гнёзд, потому что, судя по его рассказам, его так же хорошо и даже как-то особенно хорошо встречали в Гунибе. И воспоминание о пребывании его там, как он сам признавался, было одно из самых хороших и дорогих ему. Я теперь уже не смогу указать, к которому времени относится его путешествие туда, и по какому поводу было оно предпринято.
Я уже писала, что Хлебников был болен. Это чувствовалось во всём, хотя он и не жаловался: в лице, истощённом, сером и безжизненном, и в походке, неверной и колеблющейся по временам, и в большой физической слабости. У него долго тряслись руки, когда он притаскивал из леса хворост для хозяйки. Он сгибался под своей ношей, как старик, в то время как я таскала такие же охапки свободно без ущерба для себя.
Наконец он слёг с высокой температурой, ознобом, почти бредом.
Как раз перед этим, утром я узнала от своих, что ему сильно нездоровиться. Опускаясь во двор дачи, я столкнулась совсем неожиданно с ним внизу, в сенях. Он выходил, шатаясь и придерживаясь за стены. Я его окликнула: „Что с вами? Вам нездоровиться?” Он болезненно передернулся, словно обороняясь, прислонился к стене и забормотал испуганно и беспомощно: „Да, но я уйду, уйду, здесь есть больница…” „Господь с вами — только и могла я проговорить, — что это вы придумали!”
Он отлежался и через неделю встал, но стал ещё плоше, ещё слабее.
Нам оставалось жить в Железноводске неделю. В Баку он ехать не хотел, к отцу в Астрахань — почему-то тоже, хотя отец дважды писал ему в Железноводск.
Мы стали уговаривать его устроиться в санаторий, в Пятигорск. Он как будто бы послушался. Съездил туда, о чём-то хлопотал. Между прочим, поместил в тамошней газете стихотворение на тему о голоде (жуткое стихотворение, что-то о матери, коре и пауках). И, наконец, 10–15 октября, он ушёл от нас в Пятигорск (как раз тогда, когда он возвратился проститься с нарзаном).
Больше мы его не видели.
Только от ездившего туда, если не ошибаюсь, Зонаревского мы узнали, что он вовсе не в санатории, а служит ночным сторожем в редакции местной газеты. Насколько это известие было верно, судить не берусь, но оно было последним, что мы слыхали о нём. Дня через два мы уехали из Железноводска. И только почти через год до меня дошла новая весть о Хлебникове — это была весть о его смерти. Эти воспоминания, затеянные через семь лет, передают только малую долю того, что можно было бы ещё сказать. Мне пришлось выпустить всю ту часть воспоминаний, в которой главным моментом были наши личные с ним отношения. Писать о них несвоевременно, да и придало бы им неприятный характер самовыпячивания. Тот же небольшой, фактический материал, который я привожу, целиком у меня достоверен, он либо наблюдался непосредственно, либо был узнан со слов самого Хлебникова. Все же остальные случаи я оговариваю.
Что касается обрисовки Хлебникова как личности, то она, понятно, субъективна, как и всякое восприятие одного человека другим. Но таким он именно нам вырисовывался тогда в своих движениях, манере и прочем, и тут я тоже ничего не старалась присочинить к нему.
20 марта 1928 г.| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||