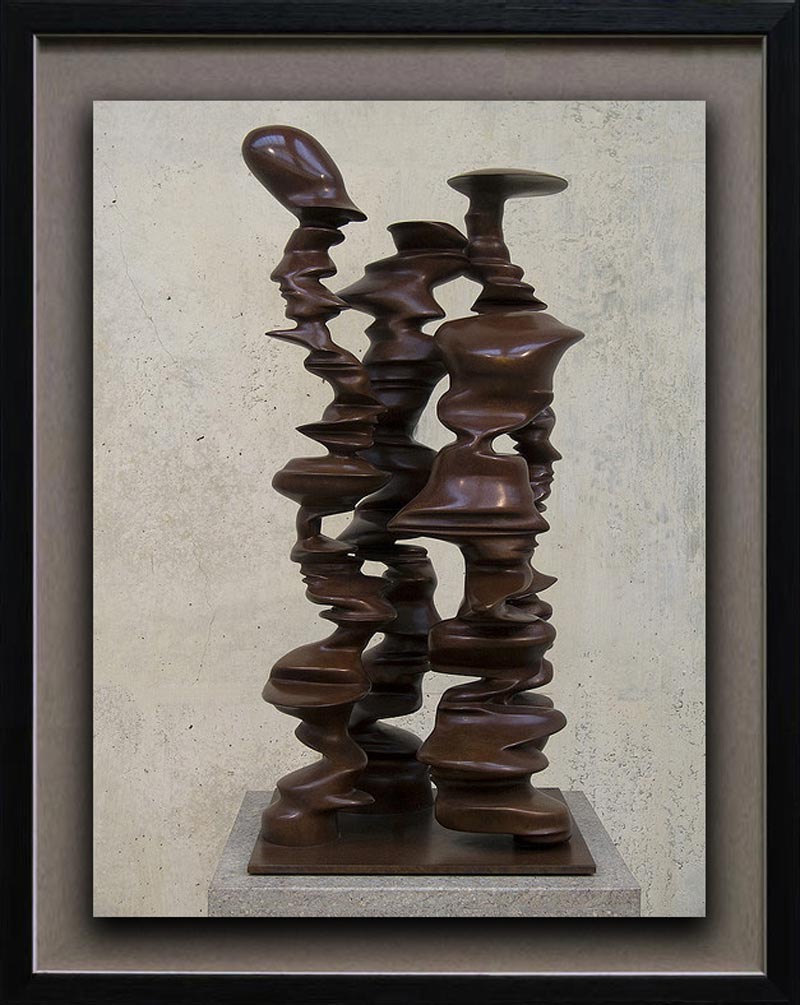
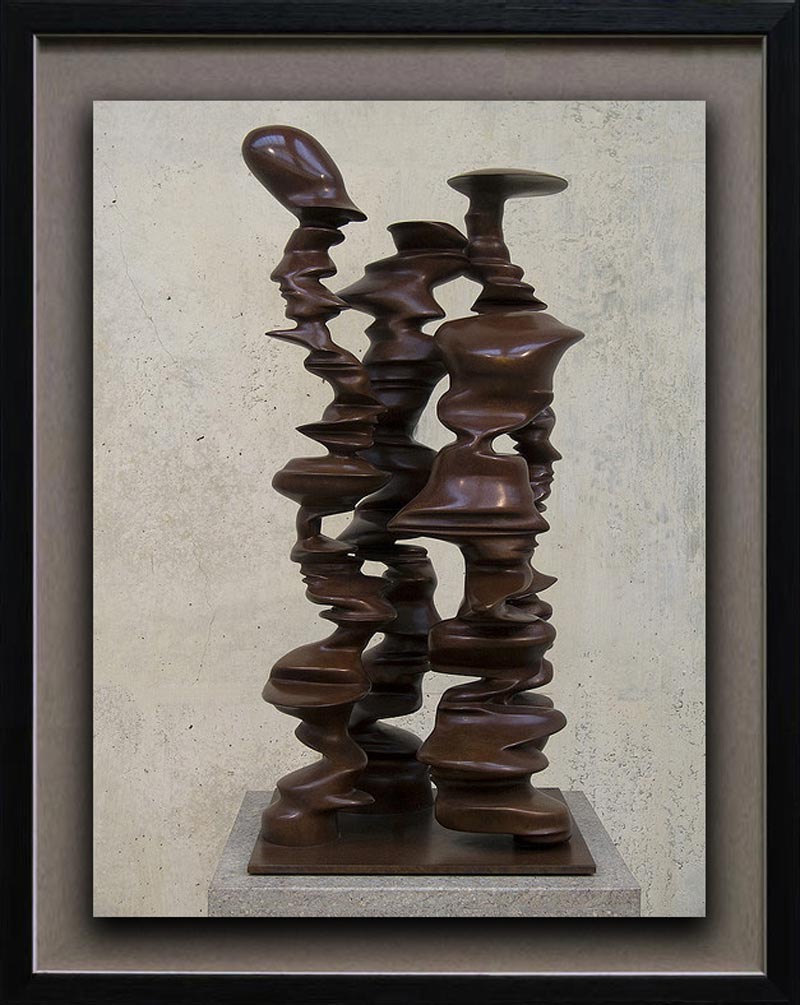
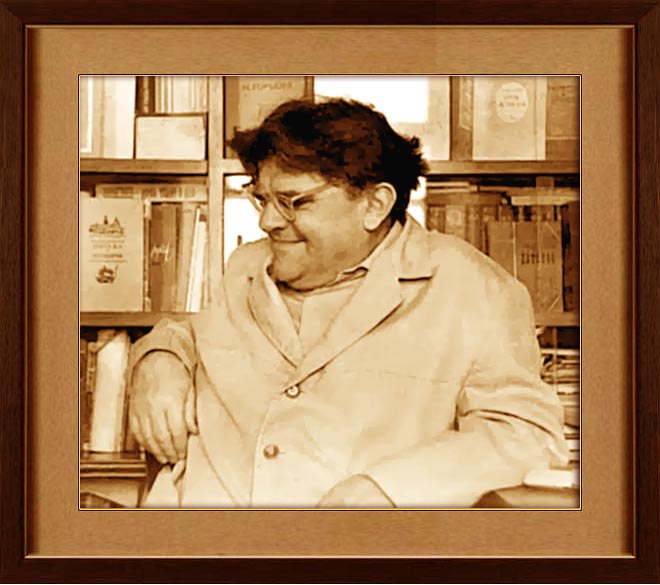 Внутренне он был подготовлен к этой деятельности опытом своей ранней собирательской работы в Литературном музее, организацией стенографических записей современников в созданном в предвоенные годы музее Маяковского. Естественно, что в новых условиях, записывая на магнитофон интересного и знающего человека, он не ограничивал его строгой тематикой, — напротив, всячески поощрял открыть все шлюзы памяти, быть откровенным и свободным в своих чувствах и оценках. „Прошу вас говорить правду и только правду. Считайте, что мы с вами перед судом Истории” — несмотря на шутливую интонацию, эти слова произносились им с хорошо ощутимым сердечным пафосом и свидетельствовали о высокой ответственности за свою работу.
Внутренне он был подготовлен к этой деятельности опытом своей ранней собирательской работы в Литературном музее, организацией стенографических записей современников в созданном в предвоенные годы музее Маяковского. Естественно, что в новых условиях, записывая на магнитофон интересного и знающего человека, он не ограничивал его строгой тематикой, — напротив, всячески поощрял открыть все шлюзы памяти, быть откровенным и свободным в своих чувствах и оценках. „Прошу вас говорить правду и только правду. Считайте, что мы с вами перед судом Истории” — несмотря на шутливую интонацию, эти слова произносились им с хорошо ощутимым сердечным пафосом и свидетельствовали о высокой ответственности за свою работу.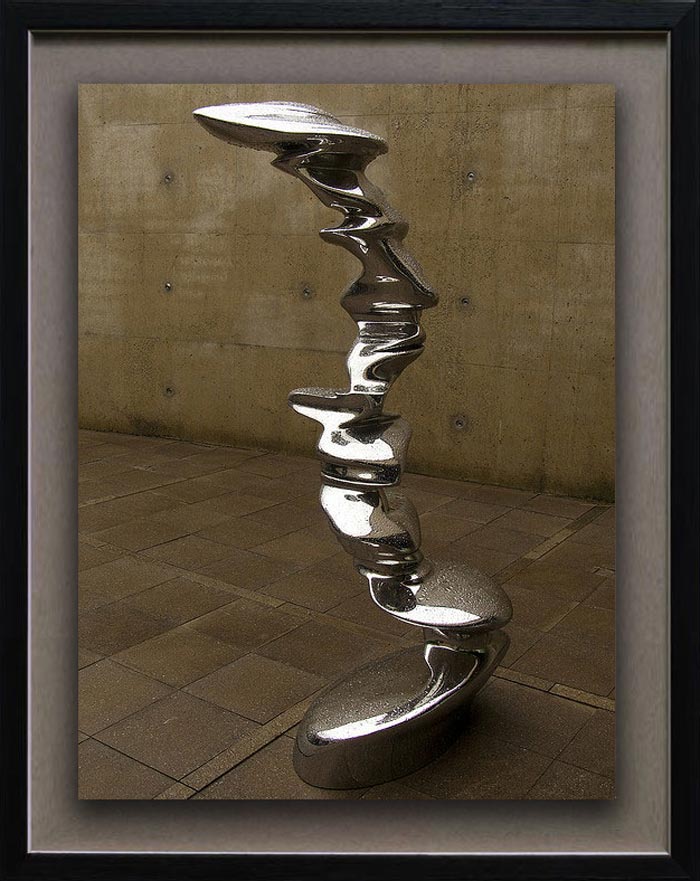
Якобсон Роман Осипович (1896–1982) — лингвист, литературовед;
автор первой аналитической работы о поэзии В. Хлебникова
(«Новейшая русская поэзия. Набросок первый», 1921),
а также известной статьи о смерти В. Маяковского как литературном факте
(«О поколении, растратившем своих поэтов», 1931).
Я.: ‹...› я купил — даже помню где — в книжном магазине «Образование» на Кузнецкой улице1![]()
![]()
![]()
![]()
Д.: «Багровый и белый», «Ночь».
Я.: „Угрюмый дождь скосил глаза...” Да. „...А за решёткой чёткой...” Да. И тут азарт... Мы очень все тогда, и лазаревцы,5![]()
Д.: «Крылышкуя золотописьмом...»
Я.: Да-да. Это всё сильное произвело впечатление...
Ну, тут уже начали появляться одна книжка за другой. Я ходил на разные выступления Маяковского уже как поэта, всё же считая, что на первом месте не он, а Хлебников. Тут очень любопытно, что создалось среди тогдашних вот, значит, художников вокруг футуризма... создалось, собственно говоря, довольно сильное раздвоение. Были, с одной стороны, сторонники Маяковского и так далее, но больше было такое радикальное крыло, которые говорили: „Нет, Маяковский — это импрессионист, Маяковский — это декадентство, а, собственно говоря, настоящее — это Хлебников”. Среди этих людей, чтобы не быть голословным, были Малевич,6![]()
![]()
![]()
Я.: Матюшин. Вот эти были против Маяковского за Хлебникова и за всю группу “заумников”. Много об этом я слышал разговоров. И, собственно, я помню хорошо, что когда вышли обе пьесы: пьеса «Победа над солнцем»10![]()
![]()
Д.: Символизма или XIX века?
Я.: Нет, символизма, нет... символизма, импрессионизма и так далее... Я лично, я помню, переменил отношение к Маяковскому только после того, как прочёл «Облако в штанах», которое уже потрясло меня — стихом... и многим...
Д.: А Кручёных воспринимался, что же, тоже... так сказать, Хлебников и Кручёных — это бралось таким?..
Я.: Да, Хлебников и Кручёных брались вместе.
Д.: Всё-таки... ведь дистанция-то огромная.
Я.: Да. Но... в Кручёныхе было много, что очень поражало, изумляло: новые пути и новое какое-то понимание — это всё ново было.12![]()
Д.: Ваш отец, так сказать, был интеллигент такого чеховского поколения?
Я.: Да-да-да. Слушайте, он читал реалистом ещё первое издание «Братьев Карамазовых», оно только что вышло.... Но, между прочим, я сейчас сам прочёл лекцию, одну из лекций — читал именно «Пушкин и Хлебников»...
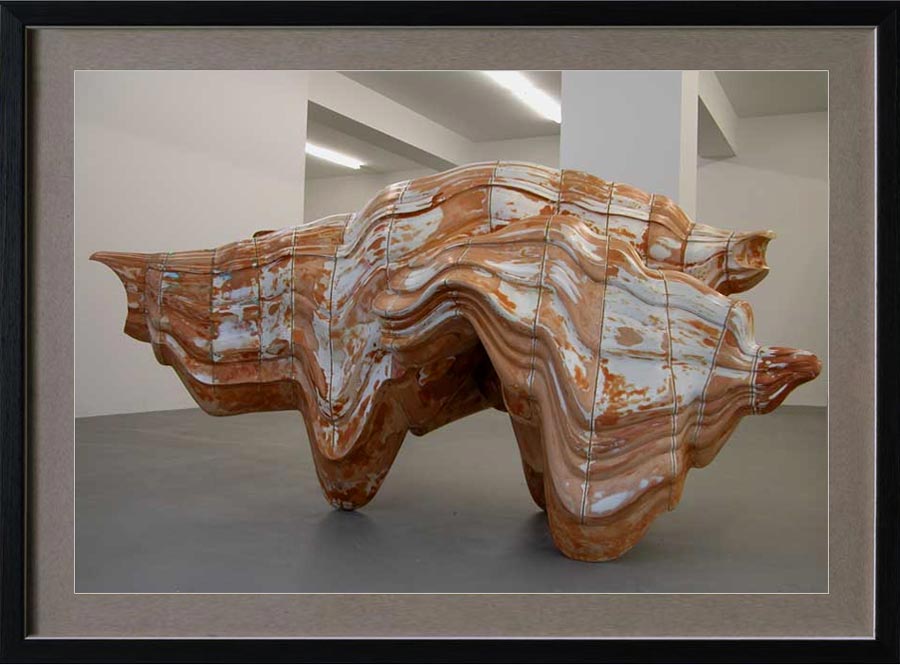
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) — писатель, литературовед;
первая его книга «Воскрешение слова» (1914)
стала одним из теоретических постулатов авангардной поэзии
(в основе книги — доклад, прочитанный
в художественно-артистическом кабаре «Бродячая собака» в декабре 1913 г.).
Ш.: ‹...› Хлебников прочёл в «Бродячей собаке» стихи, в которых было слово “Ющинский-13”, посвящённые Мандельштаму, то есть он обвинил Мандельштама в ритуальном убийстве. Мандельштам...
Д.: Простите, я не понял. “Ющинский-13” — это что же?
Ш.: Ющинский был человек по делу Бейлиса. А там было 13 уколов, ритуальное число.
Д.: Ах, вот оно что. Вот она, разница поколений. Даже не помню.
Ш.: Да, теперь так. Мандельштам вызвал Хлебникова: „Я как еврей и русский поэт, считаю себя оскорблённым и вас вызываю...”1![]()
Д.: На дуэль? Тогда ещё были дуэли?
Ш.: Были дуэли. Я сам дрался на дуэли. Другим секундантом должен был быть Филонов. Мы встретились при Хлебникове. Павел Филонов сказал: „Я этого не допущу. Ты — гений. И если ты попробуешь драться, то я буду тебя бить. Потом это вообще ничтожно. Вообще, что это за пустяки... ритуальное убийство”. Хлебников сказал: „Нет, это тоже интересно, я [нрзб. — Ред. Предположительно: “думаю, что даже имело смысл”] футуриста соединить с каким-нибудь преступлением, как Нечаев”.2![]()
Д.: Это уже...
Ш.: Это сумасшествие, да. Вы не забывайте, что у нас ведь тоже были сумасшедшие. Сумасшедшие мы были.
Д.: Кто — мы?
Ш.: Футуристы... Ну мы, конечно, их помирили, а Хлебников сказал, что он был не прав, что сказал глупость.
Д.: Значит, Мандельштам его вызвал?
Ш: Да. Мандельштам. Но Мандельштам Хлебникова страшно любил. Так же, как Блок очень любил Маяковского.
Д.: Да.
Ш.: Видите, Маяковский — поэт не признанный, неоценённый.
Д.: Тогда?
Ш.: И сейчас. Именно сейчас. Потому что он сейчас, он несёт ответственность за все ошибки революции. Потому что он продолжает существовать, а те люди умерли. И он, значит, несёт ответственность. Кроме того, он поэт, изучаемый в школе, поэтому он несёт ответственность вместе с Пушкиным... А он старший поэт времени, старший, по крайней мере, пятидесятилетия.
Д.: Конечно, я считаю, может, столетия...
Ш.: Может, и столетия, может, и столетия... И он поэт новой любви, новой России и будет понят скоро, ну, через 10 лет.
Д.: Третье пришествие Маяковского будет.
Ш.: Да.
Д.: Два уже было...
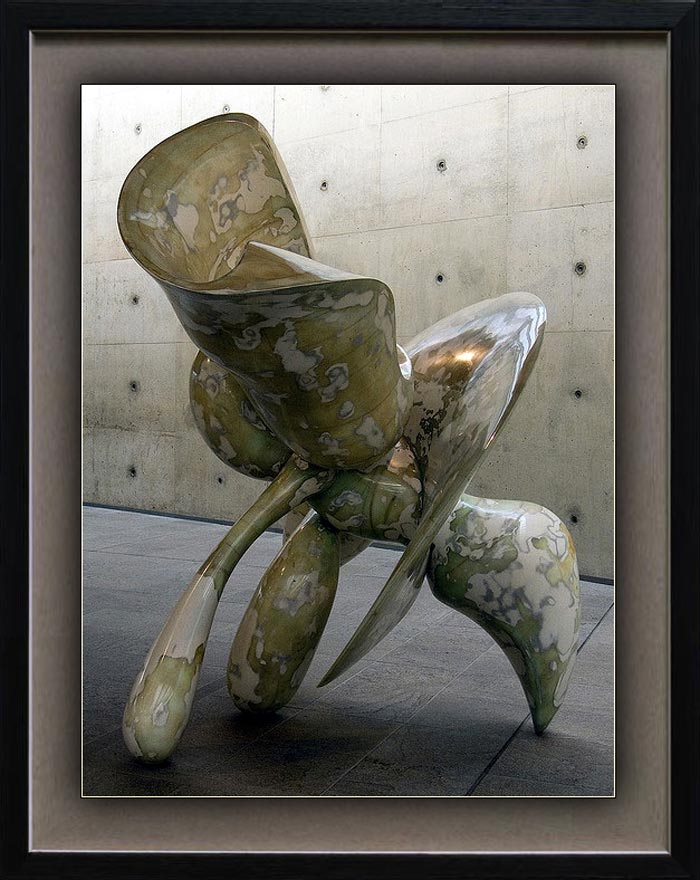
Бобров Сергей Павлович (1889–1974) — писатель, стиховед,
по образованию математик, автор нескольких научно-популярных книг по математике,
в том числе — «Волшебный двурог» (1949).
Литературную деятельность начинал как поэт в группе «Лирика»,
которая вскоре превратилась в «Центрифугу» — одно из ответвлений футуризма.
См. его статью «Бука русской литературы» («Печать и революция». 1923. № 3).
Д.: ‹...› Мне очень интересно ваше соотношение... Центрифуги с Гилеей.
Б.: ‹...› Во втором сборнике «Центрифуги» Хлебников есть.1![]()
Д.: Вы его видели, знали?
Б.: Видал, знал. Ну, как вам сказать? Это был самый настоящий бродяга, самый настоящий. Когда он появлялся в Москве, так просто было страшно смотреть, до какой степени он нищ, гол и грязен. Потом он неожиданно исчезал, проваливался. Где он был, что он делал — никто толком не знал. Потом появлялся опять с новыми стихами. Ведь вы знаете, отчего он умер? Он умер оттого, что жил в Прикаспии, в тростниках, и там заболел колоссальной малярией, и такой малярией, что плазмодий2![]()
Я помню такой случай: я был у Асеева в гостях. Поздно засиделись. Часа два ночи. Расходимся. Ночь лунная, яркая. И лютый мороз! Мы с Велимиром прощаемся. Я протягиваю ему руку, и к моему удивлению, рука у него почти горячая. Я говорю: „Витя, что такое с вами?” [Далее передает манеру речи Хлебникова. — Ред.] „Да у меня, — говорит, — температура”. — „Большая?” — „Да когда я к Коле шёл, было 38,5”. А одет он был ... в худой солдатской шинели. „А что с вами?” — „Да это старая история — малярия”. А через полгода он от этой самой малярии и помер. Он не лечился. Это был очень странный человек, чрезвычайно. Но необычайно талантливый человек. Ну, самое главное его изобретение — это самовитое слово, то есть когда поэзия действует собственным звуком...
Так вот, значит, «Гилея» — это, главным образом, были Маяковский и Хлебников. Они оставили глубокий след на русской литературе, в то время как Кручёных никакого значения в литературе не имел и иметь не будет. Во-первых, это возрождение русского старинного стиха и быта — это Хлебников: каменные бабы русской литературы. Художник необыкновенно чуткий к слову... Он отличался необычайными качествами: находил людей в домах без адреса... Он ведь был, знаете, студентом-математиком. Он в Казанском университете кончил два курса математического факультета. Учился у крупного русского математика Васильева,3![]()
Если вы не знаете, что такое “сладкая вода”, так это, имейте в виду, морские жители сладкой водой пресную называют.
Видите, какая история, стихи Хлебникова в своих лучших образцах дают необыкновенную гармонию стиха, то есть никто так, как Хлебников, не умел вытащить из слова всю его красоту. Какой-нибудь такой стишок: “...и любиков смеянье в грустилищах зари” — что такое “любики” и что такое “грустилище” никто не знает, а в общем получается очень понятно и живо. Или знаете: У колодца расколоться так хотела бы вода... и т.д. Ну и много других вещей. Ещё у него, знаете, есть:
Вы слышите: Цеп молотит и стучит — как звукоподражание сделано замечательно. Вот в этом отношении он был молодец.
Но когда вы берёте его стихи сейчас и смотрите, то удивляетесь: он зацепится за какую-нибудь ассоциацию и всё, и поехала новая. Начинает описывать процессию, которая выходит из Кремля, в процессии идёт девушка-брюнетка с чёрными косами. Кончен бал! Он забыл о процессии, он будет писать о чёрных косах, о черноте и т.д. Вот такая, как бы вам сказать, неопределенная ассоциативность его поэзии. Она мешает, но, тем не менее, всё-таки очень хорошо. Вот это и был зачинатель русского футуризма.
Д.: Вы помните какие-нибудь его высказывания непосредственно?
Б.: Ну, высказывания все очень странные, просто даже удивительно...
В памяти остался один разговор. Однажды приходит ко мне Хлебников. Знаете, он сидел всегда так: согнувшись, и рот всегда был немножко приоткрыт, вот так. „Ну, Велимир, что скажете?” — „Я пришёл, чтоб спросить вас, что вы думаете об Эйнштейне?” А тогда Эйнштейн был в большой моде. Ну, я начинаю рассказывать, что знал. Знал я немного, но всё-таки, по моей любознательности, я много таких книжек начитался. Он выслушал всё, сказал, что ему не нравится. „Почему не нравится?” — „Ну, это, — говорит, — научный жаргон, больше ничего”. — „Ну, а как же тяготение?” — „Да и тяготение — тоже научный жаргон. Ну, почему тяготение? Я легко могу построить мир, где не будет ни света, ни тяготения”. Так сказать, сразу обрубил те основные корни, на которых держался Эйнштейн,6![]()
Они, конечно, замечаются верно, но не в таком смысле, в каком он понимал. Он понимал так, что периоды в теории чисел совпадают с явлениями историческими. Этого до сих пор никто ещё доказать не смог.
Д.: Простите, вы не думаете, что, может быть, его увлечение числовыми рядами непосредственно связано с тем, что он был учеником Васильева?
Б.: Трудно сказать, потому что потом, вслед за этим, через несколько дней один молодой человек, не помню его фамилии, но он тоже в Союзе [поэтов. — Ред.] бывал, рассказал мне престранную историю, что они с Хлебниковым ночью шли по Тверской и Хлебников начал говорить о Лобачевском. Ну, о Лобачевском много говорят. Для обывателя это как бы такой математический футуризм. На самом деле ничего подобного там нету. Это очень серьёзный и глубокий испытатель, гордость русской науки. И вдруг случайно этот человек в разговоре упомянул число Пи, то есть отношение длины окружности к диаметру.
Д.: Это даже я знаю.
Б.: Очень хорошо. Представьте себе, что Хлебников с большим удивлением сказал: „Что это такое за число? Как получается?” Тот рассказал ему обычный школьный рассказ. „Как это интересно. Как замечательно. Я теперь это использую.7![]()
![]()
Д.: Это уж я не знаю.
Б.: Ну, это число — 2,71828... начинается — замечательно тем, что в нём заключён год рождения Толстого. Это обычно отмечают. Толстой тоже любил об этом вспоминать.
Д.: А что значит это [Эйлерово] число?
Б.: А это, знаете, основание для логарифмов, которые называются натуральными. Обычно 10, а для логарифмов натуральных берём это число...
Ну, это для вас интереса особого не представляет. Если вы когда-нибудь возьмете мою книжку «Волшебный двурог», то узнаете, какая связь с гиперболами, с коническими сечениями и т.д. Это очень серьёзно. Но оказывается, что Хлебников и этого не знал. А так как всё это проходится на первом курсе, то он, видите, так сильно забыл математику, что он этого совершенно не помнил. Это был очень странный человек.
Д.: То есть этим рассказом Вы... так сказать...
Б.: ...дезавуирую его математическую образованность.9 ![]()
Д.: То есть вся его мистика числа — чистая лирика? Никаких серьёзных математических оснований нет?
Б.: Нет, нет. Говорят, что кто-то такое что-то нашёл, но я, признаться, не знаю. Если покажут мне, я посмотрю, скажу: да, большое спасибо.
‹...› Так вот, это была Гилея.
Теперь, Маяковский — другого сорта человек. Это был, конечно, такой агитатор, бунтарь, очень крупный человек. В стихе он во многом следовал Хлебникову, но только с большой осторожностью, потому что, например, у Маяковского стих очень часто сбивается на пятистопный хорей, чего у Хлебникова почти не замечается. Маяковский, конечно, одна из крупнейших личностей эпохи, необычайной силы, мощи, большого революционного размаха, большого предвидения...
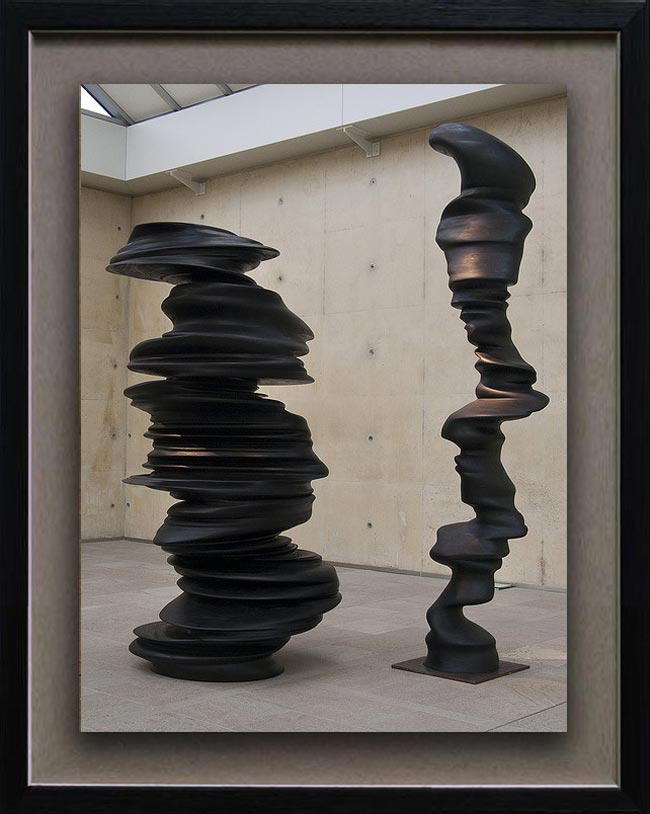
Павлович Надежда Александровна (1895–1980) — поэтесса,
печаталась с 1912 г., несколько книг лирики и стихотворений для детей.
Её воспоминания об А. Блоке см. в «Блоковском сборнике», Тарту, 1964.
П.: ‹...› Был такой Василий Васильевич Васильев.1![]()
![]()
Д.: В 17-м году?
П.: И в 18-м... В 16-м, в 16-м.
Д.: В 16-м, 17-м, 18-м? Так, это факт.
П.: Там, значит, я и познакомилась с Велимиром. Он был удивительный. Это совершенно глаза младенца и ясновидящего. Чистоты этот человек был несказанной. Совершенно. Он был юродивый. И действительно — с какими-то молниями гениальности. И эта гениальность была не только в его отдельных строчках, а вот в его этой теории периодичности явлений... Ведь он правильно совершенно предсказал... в 16-м году, что в 17-м году будет падение великой монархии.3![]()
Д.: Падение государств, а на 40-м — мировой катаклизм.
П.: Да. Так что эти вот какие-то вычисления... какая-то правда за ними стояла. Ну и, конечно, были прекрасные стихи. Но сам-то он был какой-то... не от мира сего, что ли. Удивительный он был человек... Мы мало с ним сравнительно встречались, но всё-таки он бывал у меня.
Д.: Ах, бывал у вас дома?
П.: Да. И вот, я помню... значит, тогда, в тот период — это 16-й год, мы ещё дружили... там бывал Асеев тоже. И Асеев дружил, значит, с Велимиром. И вот Асеев говорит: “Надя (а я жила с подругой), мы к вам придём с Велимиром”. А я жила здесь, в Москве, на частной квартире, конечно, — просто мы снимали комнату вдвоём с моей школьной подругой, Клавдией Михайловной.
Д.: А где?
П.: В районе... вот я всегда путаю... Патриаршие пруды — это около Почтамта или вот здесь?..
Д.: Нет, это здесь.
П.: Это вот здесь, около Садовой. Вот тут мы с ней жили.
Д.: Да, между Кудринской и... Триумфальной.
П.: Да-да-да-да, тут мы жили. Так. Ну, и мы решили, что... А они оба были бездомные...
Д.: Кто оба? Хлебников и Асеев?
П.: И Асеев, да. Так они ночевали в музее, там и сям. А асеевский сундучок у нас стоял даже. Ну, мы, значит, решили, что устроим пир на весь мир. А папа мне всё-таки посылал, по студенческим временам, довольно солидную сумму в месяц, так что я не нуждалась.
Д.: А он продолжал жить в Риге?
П.: Нет, уже во время войны его эвакуировали, но жалованье получал отец мой...
Д.: Он ещё оставался членом Окружного суда?
П.: Был ещё членом Окружного суда, но только в эвакуации, и он жил в Череповце в семье моего брата, своего сына. Ну, он, значит, деньги мог мне посылать. Так что я в жалованье не нуждалась.
Д.: Вы жили, среди этой голодной богемной молодежи, относительно более, так сказать, обеспеченной?
П.: Да-да, более обеспеченной. Я получала 50 рублей тогдашних от отца. Но 50 рублей тогда золотом — это нечто. [Смеётся. — Ред.]
Д.: Это нечто.
П.: И ещё отдельно папа меня одевал. Не считая этого, это было на мою жизнь только. И мы решили, что мы устроим, значит, в честь Велимира главным образом, пир. Ну, всякие вкусные вещи всё-таки в Москве ещё были, мы достали. Когда Велимир пришёл, я ему сказала: „Велимир, по-моему, всё, что вы можете пожелать, вы здесь увидите”. Он так посмотрел на стол и сказал: „Хочу морошки”. Морошки у нас не было.4![]()
Д.: А вы его звали Велимир?
П.: Велимир.
Д.: Не Виктор?..
П.: Нет-нет, Велимир. Велимир. Потом мы с ним несколько раз выступали, потом он мне подарил свою книжку, которую я сейчас потеряла, конечно. И я даже забыла её название, и там он мне написал: “Бросаю свой венок в озеро (или “в пруд”, уж я забыла что) Вашей души” ‹...›
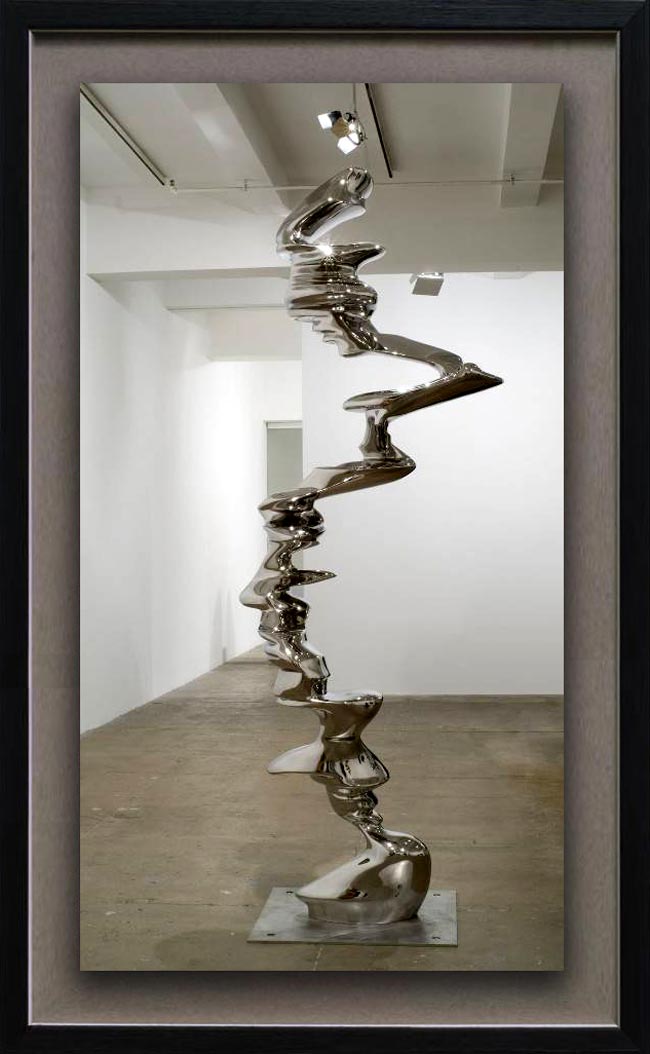
Киселёв Виктор Петрович (1896–после 1970) — художник,
участвовал в оформлении спектакля «Мистерия-буфф» в режиссуре В. Мейерхольда, 1921.
К.: ‹...› Приехал откуда-то с фронта Хлебников, или откуда-то, неизвестно. Он, был в длинной шинели, сам длинный, небритый. Встретил я его во дворе дома номер 21 на Мясницкой.
Д.: Это, значит, в 22-м году.1![]()
К.: Мы шли с Татлиным.2![]()
Потом вечером мы пошли к Брикам на Водопьяный. Мы не говорили “к Маяковскому”, говорили — “к Брикам”. Там уже говорят: „Хлебников пришёл. Хлебников! Пошёл помыться”. Сняли с него шинель, что-то ему дали. Он зашёл в эту большую комнату. С бородой, в какой-то рубашечке такой, Маяковского или Брика. Ему говорят: „Побриться надо”. — „А можно?” — „Можно”. Маяковский говорит: „Вот я тебе сейчас сделаю всё, побрейся”. Зашёл в комнатку, всё это приготовил. Через некоторое время открывается дверь [усмехается. — Ред.] — появляется Хлебников, истекающий кровью. Весь порезанный. Белая рубаха вся в крови. „Ну, я побрился”, — говорит [смеётся. — Ред.]. — „Да видим мы, как ты побрился. Надо его вымыть, он же весь в крови!” Маяковский: „Да, ты здорово порезался, пойдём в ванную — мыться будешь”. Значит, повели его в ванную, там помыли. Потом пришёл [усмехаясь. — Ред.] в рубцах каких-то, порезанный... в этих порезах бритвенных. Сел за стол, и вид у него был такой, что ...будто это ему абсолютно даже ...не тронуло его, понимаете. „Побрился”, — говорит. Он сам себя в зеркале видел, что он в таком виде, весь в крови был... Вот такой он был... как-то не видел окружающих.
Д.: Но Маяковский был к нему внимателен?
К.: Очень. Он такой растроганный был, сразу бросился к нему. Видно, он его очень уважал, прежде всего, и сочувствовал ему и, видно, жалел его. Какое-то сложное чувство у него было. И вот этот самый Хлебников: он как-то не видит окружающих. Он всегда в своих мыслях. Для него материальное — это ничто.
Помню как-то был ещё один эпизод. У меня была мастерская наверху.
Д.: Где?
К.: Дом 21, на 9-м этаже.
Д.: Около Асеева?
К.: Потом Асеев её занял. Я выехал, а Асеев занял. Там был балкончик — к этой мастерской был сделан. Выходит Асеев и выходит Хлебников. Ну, и подходит, значит, Хлебников к этой решётке балконной, стоит: „Ой, страшно, страшно”. Ему говорят: „А вы отойдите”. — „Ах, да!” Понимаете?
Д.: Стоит перед решеткой балкона, говорит: „Страшно, страшно” и не догадается сам отойти?
К.: Да. Не мог сам отойти, пока ему не сказали: „Вы отойдите!” Он отошёл: „Ах, да!..”
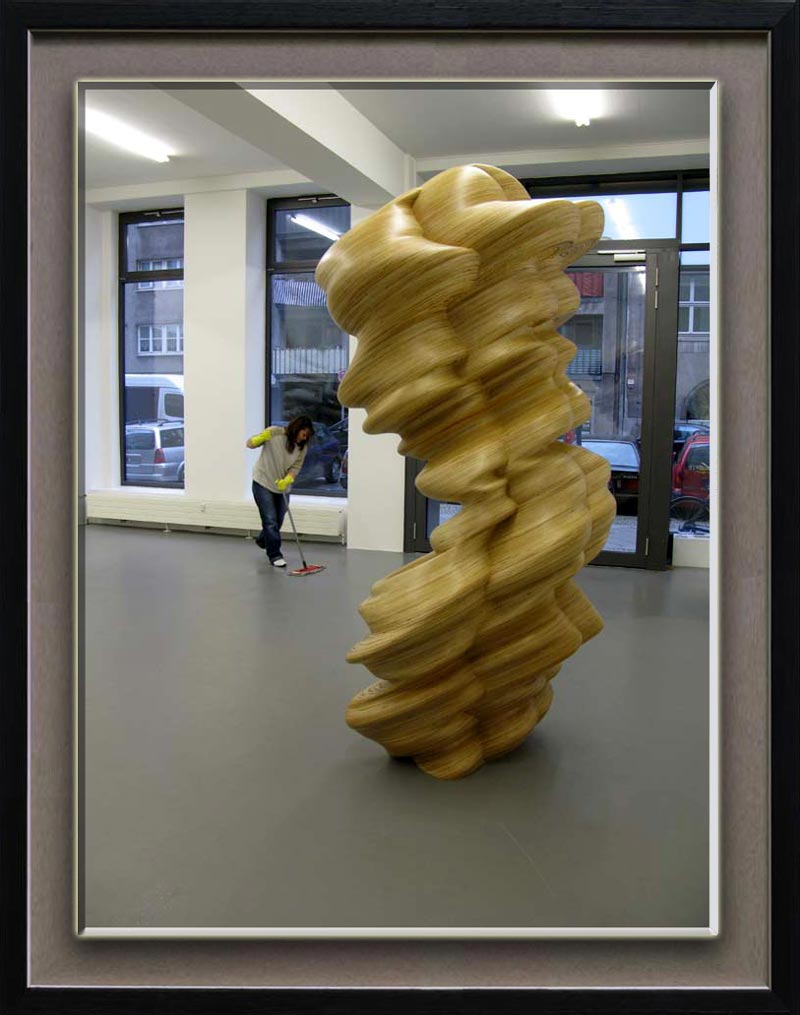
Асеева (Синякова) Ксения Михайловна (1893–1985) — жена поэта Н.Н. Асеева.
А.: ‹...› Приехала Мария, моя сестра-художница,1![]()
Она сказала, что роза пошлой быть не может, и потом говорила — что это за молодой человек? Выкондрючивает как-то: „Роза — пошлый цветок”.
Но он сказал: „Сегодня будет вечер, на котором буду я читать, Бурлюк, Хлебников, Каменский. Приходите. Я билеты там вам оставлю”. Мы пошли...
Политехнический — полон народу, и там царствовали футуристы: Бурлюк, брат Бурлюка, Каменский, Хлебников. Пастернака не было. Он не примыкал к этой группе совсем. Когда Маяковский читал, он, конечно, пользовался сразу же большим успехом, некоторые кричали и недовольны были.
Ну, стал читать Хлебников. Он читал необычайно. Его понять нельзя было. Он читал так [К.М. пытается передать манеру чтения Хлебникова. — Ред.]:
Все кричат: „Громче! Громче! Ничего не слышно!” Но он громче не мог, он начинал опять так же:
Замечательные стихи, но ничего не слышно. Ну, тут-то мы все в него прямо влюбились, до того это было необыкновенное и чудесное существо — Хлебников. Просто, действительно, необыкновенное существо. Ну, конечно, мы все сдружились быстро и сказали: „Витечка, как только начнется весна, приезжайте к нам на дачу”. И представьте себе, несмотря на то, что он был такой рассеянный, он приехал в Харьков и нашёл нашу дачу. И с тех пор каждый год жил у нас на даче...
Л.: У вас дача в Красной Поляне сохранилась, несмотря на то, что вы жили в Москве? И каждое лето туда приезжал Хлебников?
А.: Да.
Л.: И Асеев?
А.: Да, конечно.
Л.: Вот вы расскажите про эту дачную жизнь до 17-го года в Красной Поляне. Как он впервые к вам подошёл, Хлебников, что он сказал?
А.: Интереснее, что он сказал потом, перед смертью. Он во ВХУТЕМАСе лежал больной совершенно. А мы жили во ВХУТЕМАСе, там, наверху. Он пришёл к нам, а я чистила на корточках картошку. Он сел тоже на корточки и говорит мне: „Будьте моей женой”. Я говорю [смеясь. — Ред.]: „Как так, Витя, ведь я же замужем за Асеевым”. Он сказал: „Это ничего” [смеётся. — Ред.]. Вот какой был человек. Я ему говорю: „Витечка, знаете что, лучше женитесь... там ученица ВХУТЕМАСа очень вас любит. Она и ухаживала во время вашей болезни...” Он как закричал: „Ни за что!” ...
А влюблён он был на даче во всех но очереди, начиная с Марии, потом перешёл на меня. Только в Надю2![]()
![]()
И когда ему нужно было уезжать, мы ему готовили, конечно, корзиночку с провизией, потому что знали, что ему неоткуда взять, он голодный будет ехать, пирожков ему клали, что было, в общем. Он брал с благодарностью, потом доходил до поворота дороги, которую нам с дачи видно было, оставлял акуратненько корзиночку на дороге и уходил. И так каждый раз. А плавал он замечательно, прямо как морж, нырял, долго под водой был. Очень хорошо плавал.
Л.: А какая там река?
А.: Ну, приток Донца, должно быть. Я забыла название.4![]()
Когда Петников5![]()
Л.: Это был примерно 16–17-й год?
А.: В общем, через лето началась гражданская война, и уже прибыли в Харьков белогвардейские войсковые части6![]()
Я уехала с Асеевым на Дальний Восток. А Надя там жила с Верой.
Л.: А вот кто спас-то Хлебникова?
А.: Надя... Значит, Надя была одна на даче с Верой, и офицеры, которые проходили деревню Красную Поляну, увидели — дом на пригорке стоит. Они крестьян спрашивают: „А кто там живет?” Крестьяне нас очень любили и говорили: „Та ты ж не ходи туда, там сироты живут”. Но они всё-таки пошли, офицеры. Надя не знала, что и делать, сказала: „Может, вы чаю выпьете?” Ну, те говорят: „С удовольствием”. Девушки молодые, хорошенькие и всё такое. Она им налила чаю. И в это время вдруг приводят Хлебникова, совершенно растерзанного. Надет на нём только мешок, завязанный верёвкой. Солдат его ведёт и говорит: „Ваше благородие, поймали шпиона”. Надя как увидела — она обомлела: это Хлебников! И действительно, на что он был похож! Встрепанный, грязный, мешковина на нем. Но она очень тонко сыграла тем, что сказала: „Ах, разве вы не знаете, что это знаменитый поэт Хлебников?” Офицерам так было неудобно, что они не слыхали и не знают русских поэтов: „Ах, так! Неужели это Хлебников?” Они, конечно, не знали, что это Хлебников. „Да, это известный поэт русский, один из лучших поэтов. Но, видите — время такое: одежды нет, вот он в таком виде”. Ну, те помялись, помялись, сказали: „Отпустите”. И всё. А если бы Надя этого не сказала, они бы его тут же расстреляли, раз шпиона привели...
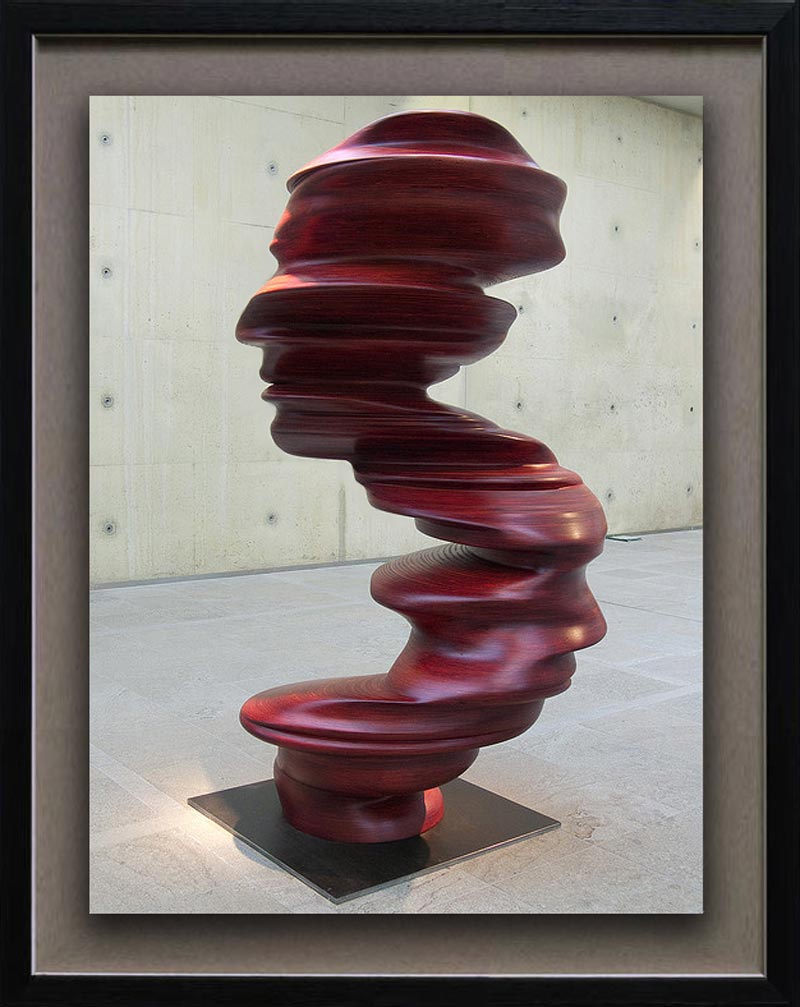
Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) — литературовед, философ.
Автор фундаментальных исследований: «Проблемы творчества Достоевского» (1929)
и «Ф. Рабле в истории реализма» (1940, диссерт. ИМЛИ; опубл. в 1965 г.:
«Ф. Рабле и традиции народной смеховой культуры и Ренессанса»).
Б.: ‹...› Вообще, Хлебникова я считаю замечательным, замечательным поэтом.
Д.: Значит, всё-таки в целом ваше отношение к Хлебникову переменилось. Оно теперь...
Б.: Оно и тогда... Хлебникова я всё-таки и тогда выделял, а потом особенно...
Д.: И что же вас в Хлебникове интересует?
Б.: Всё. Даже самый тип или стиль его мышления меня интересует. Вот это действительно был глубоко карнавальный человек. Но только именно глубоко карнавальный, у которого карнавальность была не внешняя — не пляска, не внешняя маска, а внутренняя форма, внутренняя форма его и переживаний субъективных, и его мышления словесного и так далее. Он не мог уложиться ни в какие рамки, не мог принимать никаких существующих устоев. Он отлично понимал, что значит, так сказать, реальность, реальная мысль. Менее всего его можно обвинить в том, что он был близорук и играл... Нет.
Д.: Но он отвлечённый был очень.
Б.: Нет. Он — нет. Он великолепно понимал и действительность, реальность, и людей понимал. Понимал всё это великолепно, но, если хотите, от всего этого отвлекался, но не в пользу каких-то таких отвлечённых идей, как у других, нет. У него его отвлечённые идеи — они носили символический, даже несколько мистический характер. Это были своего рода пророческие видения. Но только опять-таки их никак нельзя уложить в рамки вот той мистики, которая существовала тогда и очень широко была развита.
Д.: Символистской.
Б.: Да. Нет... Просто нельзя никак туда вложить. Это было особое мистическое видение. Вот. Мистика без мистики, так сказать. Но мистика. Мистика... Он мыслил действительно категориями очень широкими, космическими, но не абстрактно-космическими.
Д.: Это мне не совсем понятно.
Б.: Он умел как раз, вот это ему было свойственно — поэтому я и говорю, что он был очень карнавален в самой основе своей, — он умел, так сказать, отвлекаться от всего частного и умел уловить какое-то бесконечное, неограниченное целое, целое, так сказать, земного шара. Он же был одним из Председателей земного шара... И целой Вселенной. Он как-то всё это сумел, внутренне как-то, и пережить, и обратить в слова. Но слова, конечно, такие, которые, если их понимать как обычные переживания, как, ну, слова о частных вещах, частных переживаниях, частных людях, — их понять тогда действительно нельзя. Нельзя. А вот если как-то суметь понять, войти в струю его космического, вселенского мышления, тогда всё это становится понятным и в высшей степени интересным. Это замечательный был человек. Замечательный человек. Во всяком случае, все остальные футуристы были перед ним пигмеи. Пигмеи были... и мелкими людьми.
Ну вот тот же самый Кручёных и так далее. Они были талантливые, способные. Бурлюк,1![]()
Б.: Николай. Николай, может быть, даже был и талантливей.
Д.: А вы знали их, видали?
Б.: Я его видел как-то, Бурлюка, Давида, видел только, но лично не был даже с ним знаком, но я так знаю по его... мне рассказывали о нем и его произведениях. Это был интересный человек. Интересный.
Д.: Там ещё Владимир3![]()
Б.: Художник был, да, но я его не знаю. А Давид Бурлюк, он как художник, как писатель — он незначителен. Он потом оказался очень деловым человеком. Сумел стать богачом в Америке. У него салон был потом. И вся наиболее левая, радикальная интеллигенция американская ходила в его салон. Он каждый год праздновал очень торжественно день Октябрьской революции, устраивал у себя, в своем доме, приём и так далее. Это была своеобразная фигура.
Д.: Ну вот теперь уже... место и время упомянуть и Маяковского. Вы с молодым Маяковским не встречались ни разу?
Б.: С молодым — нет. Ни разу не встречался. Ведь он же больше в Москве был.
Д.: Нет, как раз в годы войны он был в Петербурге.
Б.: Но я его не встречал.
Д.: Ни в «Бродячей собаке», ни в «Розовом фонаре»?
Б.: Нет, как раз там я его тоже не встречал. То есть, может быть, он и был, но вы знаете, тогда... Сейчас для нас [усмехаясь. — Ред.] Маяковский — это Маяковский. А тогда для нас Маяковский был один из многих вот этих крикунов, к которым мы относились довольно пренебрежительно.
Д.: Так что личных впечатлений у вас нет?
Б.: Нет. Вот только уже...
Д.: Тогда расскажите вот те две, кажется, встречи с Маяковским, которые у вас были после революции. А потом мы вообще поговорим.
Б.: Первая встреча была в Столешниковом переулке — этот дом десятиэтажный, там литературный отдел, кажется, находился.
Д.: А, десятиэтажный? Это не Столешников, а Большой Гнездниковский.
Б.: Большой Гнездниковский, конечно, да-да. Там, где теперь «Советский писатель», театр «Ромэн» и так далее. Ну и вот. Там тогда заведовал этим Литературным отделом Брюсов Валерий Яковлевич.
Д.: И Литературный отдел... Лито Наркомпроса, которым заведовал Брюсов, помещался в этом доме Нирнзее,4![]()
Б.: В этом доме тогда помещалось, да.
Д.: 20–21-й год.
Б.: Да, это было вот в это время. 20–21-й год. Я там бывал. И вот однажды там был объявлен какой-то вечер поэтов. Я пришёл туда, на этот вечер поэтов. Ну и зашёл в кабинет Брюсова. Брюсова не было. А там был его заместитель, Кузька.5![]()
Д.: Он был как бы комиссаром при Брюсове?
Б.: Да-да, комиссаром, действительно, Брюсова.
Д.: Который только что вступил в партию.
Б.: Вступил в партию, да. И вот он рассказывал, что Брюсов, по его мнению, человек довольно мелкий по характеру своему, что он, так сказать, очень... боится... „Он специально, — говорит, — приходит ко мне играть в шахматы и выведывает у меня о партийных делах и о том, как относятся к нему и какие вообще шансы у него остаться, укрепиться или, напротив, его в конце концов прогонят и прочее, прочее”. Одним словом, такие мелкочеловеческие чувства проявляет, известную испуганность — он не подымается над этим никак.
И вот, значит, мы дожидались Брюсова. Брюсова так я и не дождался. Там приходили всё время люди по разным делам, потому что он замещал его, Брюсова. И вот пришёл человек высокого роста. Я сразу узнал, что это Маяковский: я видел его портрет, даже, может быть, я уже видел его когда-нибудь. Очень одет по-модному, в то время, когда люди были одеты очень плохо. У него было пальто-клёш. Тогда это было модно. Вообще всё на нем было такое новое, модное, и чувствовалось, что он, так сказать, всё время это чувствует — что вот он одет, как денди, как денди. [Усмехается. — Ред.] Но как раз денди-то и не чувствует, как он одет. Это первый, так сказать, признак дендизма — носить одежду так, чтобы казалось, что он никакого значения ей не придаёт. А тут чувствовалось, что он всё время переживает вот то, что у него и пальто-клёш, и что он одет модно и так далее, и что фигура у него такая. Одним словом, это мне очень не понравилось.
Потом Кузько дал ему (как раз только что вышло) — вот так это я помню — брошюрованное издание, по-моему, издание Лито специальное такое, журнал, тогда с журналами было дело плохо — и там были напечатаны стихи Маяковского. И вот он ухватил, значит, номер этого журнала и буквально въелся в напечатанные его стихи. И тоже как-то чувствовалось, что вот он смакует свои собственные стихи, смакует больше всего именно тот факт, что они напечатаны. Вот! Вот он напечатан! Одним словом, это на меня произвело очень плохое впечатление.6![]()
Но ведь нужно сказать так, вообще-то говоря: всё это свойственно всем людям, да, но как-то от Маяковского, который всё-таки был фигурой карнавальной, следовательно, стоящей выше всего этого, я бы скорей ждал известного презрения к костюму и к напечатанию его стихов. А тут прямо противоположное: как маленький человек, самый маленький человек, он счастлив тем, что вот его опубликовали, хотя уж он давным-давно был известным человеком и печатался. А тут он, как в чеховском рассказе, помните, чиновничек, который попал под лошадь и носился и был страшно счастлив, что о нём напечатали. Ну вот. Это вот мне не понравилось в нём. Что он говорил, я даже не помню. Что-то говорил, но не со мной, с Кузько. И потом ушёл, а потом я ушёл.
Д.: И это единственный?..
Б.: Нет, а потом второй раз я видел его — если не ошибаюсь, там же, на вечере поэтов опять. Там выступали поэты, и каждый поэт выступал как представитель какого-то направления.7![]()
Д.: «Необычайного приключения».
Б.: Да. И вот тут он мне понравился. На эстраде он мне понравился. Он вёл себя на эстраде как раз скромно, скромно как-то. Читал превосходно! Читал превосходно! Жест у него был сдержанный... Другие говорили, что у него очень несдержанный жест. Нет, у него был сдержанный. „Что ж, — говорю, — садись, светило...”; вот — „садись, светило”, — и такой он широкий, ну как бы его...
Д.: Приглашал...
Б.: Да. И мне это понравилось. Там он мне очень понравился, вот, и произведение понравилось.
Д.: Ну, а вы его мало читали вообще в то время?
Б.: Нет, читал всё-таки, довольно много читал. В то время мы очень много читали, поглощали, в том числе и всякой ерунды. Но Маяковского — ну как же, я знал...
Д.: Ну, «Облако в штанах» вы знали? «Облако в штанах», «Войну и мир», «Человек»?
Б.: Вот это я знал, да. Это я знал. Я помню, мне очень нравилась его... «Война и мир». Там были очень интересные строфы, очень хорошие строфы. Но были, конечно, фальшивые, выдуманные, нарочитые строки. Впрочем, он, нужно сказать, до конца своих дней от выдуманности и нарочитости избавиться не мог, даже в поэме «Во весь голос» — и там было... Но там были великолепные строчки, великолепные!
Д.: А что вы в «Во весь голос» ощущаете как выдуманное и нарочитое?
Б.: Ну, я просто — именно этих строк-то я и не помню. Ну, есть там, много... А вот, скажем, вот эти вот вещи:
Дальше великолепно:
[Хором. — Ред.]
Б.:
Д.: “Лизать”.
Б.: А?
Д.: Не “лобзать”, а... вот стилистически...
Б.: Простите, “лизать поэзии...”. Нет-нет, “лизать”, это я помню, “...мозолистые руки”. Что он тут имел в виду, как вы думаете?
Д.: Так это вам нравится или не нравится?
Б.: Это мне нравится как раз.
Д.: Вот: “...подползают поезда лизать поэзии...” — это то, что сейчас в центре внимания всего мира, что пятнадцать лет тому назад, так сказать, ну, в таком совершенно пошлом виде было сформулировано как проблема [усмехаясь. — Ред.] Слуцким — “физики и лирики”. Так вот, Маяковский всё-таки утверждает: поэзия останется превыше всего! Поезда будут лизать...
Б.: Это как раз сильно. Потом это: “...пустяком...”, “...глядится пустяком...”
Д.: Это отрывочек.
Это неоконченное...
Б.: Это очень как раз хорошо: “...человек душой, губами, костяком...” И то, что оборвано, — это неплохо. Понятно совершенно. Не нужно было досказывать. Это как раз хорошо...
Д.: Вы, конечно, были совершенно другой, так сказать, стилистической культуры при всей вашей широте.
Б.: Да, был другой стилистической культуры. Но, видите ли, тут всё-таки вот ещё какой момент нужно отметить: ведь я был очень хорошо знаком тогда с левой поэзией на Западе, в частности во Франции. А ведь там они заходили очень далеко, никак не менее далеко, чем наши футуристы. Наши футуристы казались всё-таки детьми но сравнению с ними, да они и были подражателями раньше. И Маяковский в известной степени, но только в известной степени.
Д.: Очень интересно.
Б.: Тот стих, который он создал, — всё это, конечно, его создание.
Д.: Вы считаете, что Маяковский создал новый стих какой-то?
Б.: Считаю, что он создал новый стих, да. То есть ну как — “новый стих”?
Д.: Нет, ну, в смысле... не на стиховедческом... в смысле принципа.
Б.: Да. Безусловно. Я считаю, что он создал...
Д.: Что он внёс новый принцип в русскую поэзию?
Б.: Да, да, безусловно.
Д.: В чём же вы видите... как бы вы определили этот принцип?
Б.: Ну, видите, очень трудно, я ведь не теоретик стиха. Но обычно определяют как новая тоника, вот это не прежняя, не силлабо-тоническая. А это новая тоника.
Д.: Если, скажем, стих был силлабо-тоническим, то это был интонационно-тоническим...
Б.: Да, интонационно... Новая тоника, и потом, тут что максимально сблизило его с той речью... ну, ораторской, но ораторской фамильярной, вот как говорили ораторы, скажем, эпохи Парижской коммуны, и так далее, и так далее. Крик, крик почти. И что вообще ещё тоже своеобразное — сближение поэзии с площадным криком, в сущности, с криком.8![]()
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 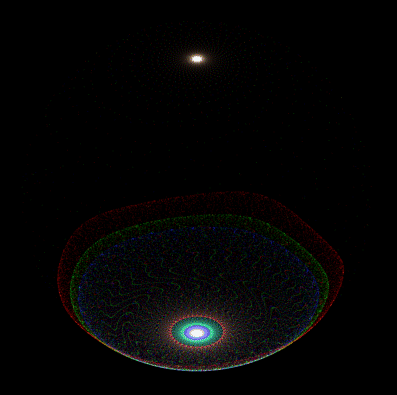 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||