


 сё делает один человек. Всегда и везде всё делает один человек.
сё делает один человек. Всегда и везде всё делает один человек.
Наверняка ты подумал, что этот зазнайка и хвастун опять затянул песню о себе. Таки нет. Не опять, а снова. Снова ты попал пальцем в небо. Насчёт себя придерживаюсь такого мнения: парень играет вторую скрипку, зато как.
Неисправимый бахвал, уже несколько мягче хмыкнул ты. А зря: смирение паче гордыни. У нас вторая скрипка паче вашей первой. Даже наипаче. Because here plays not a Symphonic Orchestra, but a String Quartet.
Закономерный вопрос: кто же тогда первая скрипка. Тогда, в начале восьмидесятых. Когда Велимир Хлебников изнывал под негласным запретом совершенно как Барков под гласным. Кто всему голова?
Харджиев? Собиратель сокровищ, но не людей. Парнис? Вещий Олег над черепом коня. Дуганов? Волхв с напрасными дарами. Григорьев? Тигр-подранок, почти людоед. Кедров? Не смешите мои тапочки.
Руководитель работ по воскрешению главнеба в начале восьмидесятых — Май Петрович Митурич-Хлебников (1925–2008).
Два его письма и образчик изобразительного искусства воспроизведены в предыдущих главах, но это малая толика нашей переписки. Исчезающе малая, даже так. Исчезающе малая толика хранимых в подвале с пауками весточек, вестучек и увещеваний. Даже подлинники митуричевых свестилей могу предъявить. А не то и свестюлями порадовать. Ничто так не бодрит, как чужие неприятности. Баня сгорела — хорошо, изба — того лучше. Главное, чтоб погорелец казался допрежь благополучным. А ты, надеюсь, убедился в моём чудовищном процветании. Возвеселю и возрадую, дай срок.
Дай срок, ибо кроме подвала с пауками есть и погреба с пасюками. А что в этих погребах — тайна. Тайна даже для меня, их владельца и благоупотребителя. Вот почему эта глава называется «Долгий ящик», а не «Посевная», как я посулил сгоряча: последнее письмо Мая Митурича ко мне до сих пор не вскрыто. Сам уже четыре года на Новодевичьем, а письмо целёхонько втрое того дольше. Ну и выдержка у второй скрипки.


Я неспроста раскрасил вопросы Маю Митуричу. Обрати внимание на оранжевую расцветку. Писали Сергею Михалкову — и ни гу-гу. Почему, спрашивается. Ответ: не туда писали — раз, не те писали — два. ![]()
Спрашивается с нарастающим раздражением: а куда и кому следовало писать?
Спокойствие, только спокойствие. Обязательно присоветую задним числом, а сейчас имею желание использовать паузу в корыстных целях: застоялся. Так и подмывает пуститься в пляс.![]()
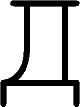 ля завязки романа Ги де Мопассан полагал наиболее пригодным промежуток от стягивания перчаток до постельной сумятицы, как то: распускание шнурков, расстёгивание пуговок, размыкание крючочков и т.п. Но я не Мопассан уже с третьей буквы. Да и вообще, завязка ¦ подвязка, подштанники ¦ подгузники, ползунки ¦ детский лепет. Вывод: оставь завязку, всяк прямоходящий. Всяк, даже гундосый мямля и заика на букву зэ. Как это на звонкие не заикаются, а Кручёных? Ззаумь, ззудо, ззудесник, ззьют, ззамауль, рызз, ззыка, быззга, грызз, ожирение розз, вззорваль, старые щипцы ззаката, мурззал марсельезза в луззу фззала зза-ти, красное беззумье и роззовые мертвецы, эко-эзз, Кручёных грандиоззарь (собрано и сообщено Б. Останиным, СПб). И никаких ззавязок, ззачем?
ля завязки романа Ги де Мопассан полагал наиболее пригодным промежуток от стягивания перчаток до постельной сумятицы, как то: распускание шнурков, расстёгивание пуговок, размыкание крючочков и т.п. Но я не Мопассан уже с третьей буквы. Да и вообще, завязка ¦ подвязка, подштанники ¦ подгузники, ползунки ¦ детский лепет. Вывод: оставь завязку, всяк прямоходящий. Всяк, даже гундосый мямля и заика на букву зэ. Как это на звонкие не заикаются, а Кручёных? Ззаумь, ззудо, ззудесник, ззьют, ззамауль, рызз, ззыка, быззга, грызз, ожирение розз, вззорваль, старые щипцы ззаката, мурззал марсельезза в луззу фззала зза-ти, красное беззумье и роззовые мертвецы, эко-эзз, Кручёных грандиоззарь (собрано и сообщено Б. Останиным, СПб). И никаких ззавязок, ззачем?И вот, пока я купался в отражённых лучах славы будетлянского иезуита слова, завязка упала на пол. Мо целёхонек, пассан вдребезги. Кто или что взамен. Взамен — уже разобранный по косточкам былинный подход к современности, см. здесь.
С чего начинали осаду крепостей вроде Рущука или Очакова? С орудийных залпов прямой наводкой. Выберут стену, и лупят. Ага, вот-вот образуется пролом. Восстановительным работам следует помешать, открывают навесной огонь зажигательными снарядами. Калёными ядрами, в простейшем случае. Ядро пробивает крышу и воспламеняет что ни попадя. Особенно туго приходится вещевым складам, сенным сараям, конюшням, дровяникам и пороховым погребам неприятеля.
Тупая долбёжка и современная былина — взаимоисключения; разрывными же снарядами на Руси ведут огонь только по смешливым (взрыв хохота) или упёртым (взрыв негодования). Таким образом, боеголовку былины следует загодя накалить.
Уже кое-кто приободрился возгоранием чужой бани, а иные оросили бороды крокодиловыми слезами на пожаре поодаль нашей с тобой хаты с краю. Целёхонька. Стало быть, и печь в исправности. Три кита русского народного сказителя: 1. крыша над головой; 2. благодарные слушатели; 3. печь. Любой мальчишка догадается, что накаливание боеголовки былины производится именно в ней.
Кузнечный горн? Отнюдь. Прерви ковку, и вздохи поддувала нагонят смертную тоску. Горло и горн — две вещи несовместные. Молотобоец всегда твёрд, спокоен и угрюм, как Пушкин за письменным столом. Чему, собственно, радоваться? победе Гутенберга над Бояном? То ли дело нянины сказки. Так выпьем за няню Пушкина! Прости, увлёкся.
Важная подробность: устье печи в иных местах называют жерлом, особенно при топке соломой. Гаврила Романович Державин умозрительно осязал в оном влагу, ибо не имел достаточных сведений о колене (борове) трубы, предохраняющем топку от затопления через дымоход. То же самое казак луганский Даль: не вполне изгладилось кафельное происхождение родителей, отсюда ошибки собирательства. Приходится позаправнучатому лыцарю поправить казака: русский человек пляшет не от печки, а из печки. Вылетел как угорелый, и давай откалывать коленца.
В главке «Две жизни» коленцами оказываются: 1. воспроизводство рабочей силы; 2. живопись; 3. изящная словесность; 4. клички. Продолжаю в том же духе, отступив на шажок, то есть непосредственно в жерло (устье) печи.
NB. Итак, Анна Александровна, царство ей небесное, Суконщикова (1901–1982) спасла мои глаза. Но я всё-таки пересел в чужие сани. NB is finished.
На этом шажок отступления заканчивается, иду на вы.
Один за всех, все на одного: ату его. Сам вижу, что переборщил с плачем на реках Вавилонских. Кое-кто молча скрипит зубами от досады: почему не ослеп дотла, гад. Тогда уж точно не перебежал бы дорогу, сволочь. Этот, как его. И без него бы управились, подумаешь. Навалились бы дружно, и готово. Прямо изо рта выхватил.
Да, неладно вышло. Увы комарам-общественникам, клопам-заединщикам и многосемейным (multimafiozo) тараканам. Ну и что близорукость, долго ли стёкла подобрать. Запыхаешься подбирать, если сетчатка мёртвая. И такой мёртвой сетчатки (scotoma pericentrale) у меня к осени 1980 года накопилось приблизительно четверть общего количества. Не устаю дивиться прозорливости Бенедикта Лившица: именно полутораглазый стрелец.
Но я упорствовал, громоздя холст на холст. И вдруг лапки кверху.
19 декабря 1980 года. Второй день рождения, поэтому такая точность. Тоже не отмечаю.
Тогда зачем совать кому-то под нос это 19 декабря, да ещё и 1980 года. Затем, что пример Юрия Нагибина соблазнителен и манящ. Проняло и пронзило. Ощутил неодолимое желание расстегнуться на все пуговицы. Не рассупониться (to unbutton oneself ), а именно расстегнуться (déboutonner le fleuret). Внимание: начинается исповедь негодяя. Правда и одна только правда. Подлинная грязь, а не художественный вымысел. Now there will be an authentic dirt, instead of art fiction.
Обобщать не берусь, но лично мой головной мозг одновременно с плетением словес вырабатывает некое вещество. Исключительно для собственных нужд, надо полагать. Докапываться до природы таинственной подпитки строго-настрого запретил Тютчев („You should be tight-lipped, secretive and economical...”), да оно и незачем. Лишний труд. И так ясно: без этого подспорья с изящной словесностью мне давным-давно пришлось бы расплеваться.
Муки слова, да. Есть, говорят, самоистязатели по призванию; я не из их числа. Мне подавай чистое удовольствие, то есть возвышенную радость.
Попутно растолкую на простом примере, чем плотская утеха отличается от возвышенной радости. Сразу предупреждаю: мужчине этого не понять, даже мужчине в кружевных трусиках. Итак, плотская утеха — это соитие с любимым, возвышенная радость — с ангелом. Исключительно в целях произведения потомства, никаких отговорок. Dixi.
Имея тридцатилетний опыт ласк, зачатий, вынашивания и родов, разглагольствовать о чистом удовольствии от сочетания слов очень легко, поскольку воспоминания о прихотях, извращении вкуса, замершей беременности, выкидышах и тому подобной благодати совершенно изгладились из памяти. Совсем другой разговор — первый шаг в даль светлую, заря новой жизни. Тут всё ярко и свежо, словно было вчера.
 Никто никогда с удовольствием не появлялся на свет Божий, сколь бы убедительно ни врал Будда о воплощениях. Прожил в нищете и болезнях, дескать, зато умер праведником. Готово, принимает повивальная бабка у какой-нибудь Семирамиды. Роскошь, нега и всё такое. Переводим Будду на язык Мая Митурича: если бедовал под знаком большой, как жопа, Тройки, очередное воплощение — сплошные Двойки. Отложив это извлечение из его письма ко мне от 3 марта 1983 года в долговременную память, двигаемся дальше.
Никто никогда с удовольствием не появлялся на свет Божий, сколь бы убедительно ни врал Будда о воплощениях. Прожил в нищете и болезнях, дескать, зато умер праведником. Готово, принимает повивальная бабка у какой-нибудь Семирамиды. Роскошь, нега и всё такое. Переводим Будду на язык Мая Митурича: если бедовал под знаком большой, как жопа, Тройки, очередное воплощение — сплошные Двойки. Отложив это извлечение из его письма ко мне от 3 марта 1983 года в долговременную память, двигаемся дальше.Память об ужасе появления на свет отменно свежа у первобытного человека: вон сколько мамонтовой кости ушло на бёдра так называемых Венер каменного века. Исполинский таз и чудовищные ягодицы, мечта внутриутробного развития. Отголоски этой памяти очевидны у Рубенса и Кустодиева; современное же состояние изобразительного искусства с его упором на мальчиковатость и худосочие прекрасного пола указывает на то, что человечество не просто вырождается, а вырождается в невесомость: чем тяжелее роды, тем выгоднее жить порожняком. Чем выгоднее жить порожняком, тем легче строить отношения. Чем легче строить отношения, тем легче расставаться. Готово: лунная походка Майкла Джексона у мальчиковатых старух в поисках отношений — раз, отношения не с кем завязать даже за деньги — два. Даже за очень большие деньги — три. Освежаем долговременную память: большая, как жопа, Тройка.
Я неспроста дважды заменил приемлемую задницу (the ass) на запретную жопу (‘zhopa’, untranslatable): повторение — мать учения. Для закрепления пройденного все средства хороши. Теперь ты во всеоружии встретишь письма акад. М.П. Митурича-Хлебникова, в отличие от рысистых торопыг и суетливых попрыгунчиков, которые уже кусают локти без моей вводной.
Уже было сказано, что моя бабушка родила моего отца преступным образом, бросив богоданного мужа. Не способен — ухожу к способному. Относительно мук совести дело тёмное, я не стал выпытывать. А про себя скрывать не стану: было.
Остановлюсь вкратце на семейном положении о ту пору: жена Татьяна и дочь Анна четырёх с половиной лет. Таня и Анютка — в письмах Митурича от этих имён рябит в глазах. Туда же втёрся и Ванюша, наш с Митуричем учитель жизни.
Знаете ли вы, чем властитель дум отличается от учителя жизни? Правильно, количеством. Учителей жизни может быть сколько угодно, властитель дум — один. Погодите, мой Ванюша ещё наставит вас на путь истинный. А торопыг и попрыгунчиков не наставит, их песенка спета.
О любви до гроба приходится помалкивать, но жена действительно мной поначалу дорожила, тому есть доказательства. Сокрыть их — обокрасть человечество, сейчас поясню.
Семью создали на договорных началах: дала слово быть помощницей. Чему помогать — наглядно, грубо и зримо на стенах. Тратить время на так называемые шашни мне смолоду претило: жизнь коротка, искусство вечно. И вот моя первая женщина стала моей первой женой и родила мне дочь. Именно женщина, не девица. Так надёжнее: сравнила и выбрала именно тебя. Заводская девчонка, станочница. Ещё не хватало брать за себя фýфу (the snorting maiden ¦ Die wohlerzogene Jungfrau ¦ la vierge bien élevée ¦ la virgen educada) с высшим образованием. Нужен крепкий тыл, а не кисейная барышня.
Но ведь и мне охота убедиться, что жена лучше всех. Случай не замедлил представиться. М-да, как сказать. Увлёкся, в общем.
О ту пору я то и дело наведывался в Москву, там всё и приключилось. Расставание, обещания. Письма, конечно. Мои.
А в ответ — тишина. Вдруг приходит письмо, которое принято называть любовным. Спустя месяц. И все трое довольны. Особенно довольна супруга: знай посмеивается. Хотя спим врозь.
В чём дело, что за смешки. А в том, что выкрала адрес, отбила телеграмму от моего имени, сгоняла, встретилась и передала из рук в руки. Раз такая любовь. Почему не отвечаешь, а ну быстро.
И наблюдает, чем кончится. А звезда моих очей, услада уст и тому подобное пребывает в сомнениях. Тебе придётся жить у нас, а мама подозревает подвох. Пропишем, а потом развод, все так делают. Развод и раздел жилья. Которое далось папе такой кровью.
Стало быть, мудрая женщина. Не москвичка мудрая, а та, что под боком. Отстояла семью. Наверняка этот способ подойдёт не всем обманутым жёнам, но знать о нём следует. Прочла, передай подруге. Называется “подтолкни падающего”.
Но это сейчас мне шуточки, а тогда было слегка не по себе. „Любовная лодка разбилась о быт”, — написал сами знаете кто, а потом свёл счёты с жизнью. То же самое сделал и я 19 декабря 1980 года.
Короче говоря, к осени книга была готова. Называлась «Жёлтое на жёлтом и чёрное», стихотворения и поэмы. Поэмы такие: «Разговор о поэзии», «Урод» и «Поклон Великой Тени». Разговор шёл с Маяковским, урод — Тулуз-Лотрек, Великая Тень — Велимир Хлебников.
С Маяковским всё просто: памятник он и есть памятник. Ну и что бронзовый, долго ли расшевелить. Подначиваю на грани оскорбления. Маяковскому невтерпёж отбрить — топ ногой, топ другой. Сам виноват, не надо было просить: „Оживи, своё дожить хочу!”
Зачем сводить с ума окружающих, пошли отсюда. Полетели, то есть. Попутно беседуя об изящной словесности. Долго ли, коротко — вопрос ребром: как писать стихи. Учиться у меня, говорит, тебе нечему. Постарайся вникнуть в Хлебникова. Занятие не для дураков, но того стоит.
Сомневаться не приходится: Маяковский порадел (render service) Хлебникову в ущерб самому себе (in prejudice of itself). Мне, например, до разговора с ним нравилось писать лесенкой. Пришлось плющить ступеньки, насиловать себя. А теперь вот пожинаю плоды: всеобщая ненависть и презрение (der allgemeine Hass und die Verachtung) порядочных людей (die Philister). За Маяковского, вздумай он охмурить меня в свою пользу (sich zu propagieren), я бы так не пострадал. Скатерть-самобранка (das Horn der Überfülle) Хлебников — это вам не серпасто-молоткастый фантик без удобоваримого содержания.
Удобоваримое (digestible ¦ verdaulich ¦ facile à digérer ¦ cibi di elevata digeribilità) содержание Владимира Владимировича Маяковского следует отличать от его внутреннего содержания. Я хочу быть понят своей страной: телесное пропитание порядочного человека — во главе угла. Не того угла, под которым краеугольный камень, а угла в переносном смысле. Перенёс один, второй, третий, четвёртый и сверху накрыл потолком. Свой угол, да. Из которого голосом Вадима Козина льётся: „Наш уголок нам никогда не тесен”. Наш, ни в коем случае не ваш: пасть порву, моргалы выколю. Так было, так есть и так будет. Аминь.
Тулуз-Лотрек — того проще: победа неукротимого духа над хилой плотью. Зарисовки жизни богемы. Всё выдумано впопыхах, поэтому ни слова не помню. Кончилось тем, что Георгий Борисович Фёдоров сказал как отрезал: „Перрюшо мы тоже читали”. Слегка обидно. Наврал с три короба, а тебе говорят: списал, как двоечник.
Но я загодя (d’avance) отыгрался в «Поклоне»: отсебятина на все сто. Подробности.
Дома под рукой крохотулька (my first collision with George) Дуганова в БСЭ (Une grande Encyclopédie soviétique), «Не шалить!», «Ручей с холодною водой» и ещё пара-тройка стихотворений. Всё. Иду записываться в главное книгохранилище Западного Урала (la bibliothèque centrale de Perm). Налицо Тынянов-Степанов без четвёртого тома и наладонник (l’édition de poche) «Библиотеки поэта». Вечерами переписываю том за томом, выбранные места. Вдруг повезло: наладонник выдали на дом, и его от корки до корки переписала жена. По собственному почину, раз такая любовь.
Александр Ефимович Парнис радовал до умопомрачения. С ума сойти от его находок. При одном условии: не задумываться о том, что вся эта роскошь малодоступна, мягко говоря. Только в имени Горького. В имени Пушкина — шаром покати. Но это Пермь, а книгочеев дополна в Соликамске, например. Или в Березниках. И в Чёрмозе, Чернушке и Чердыни дополна книгочеев.
Мне дико повезло, а каково юноше, обдумывающему житие в Ныробе? Поневоле обдумывает под руководством Владимира Владимировича Маяковского: полна коробушка сочинений в любом захолустье. И вот ныробчанин спотыкается о поминальную заметку горлана и главаря о Хлебникове: бескорыстный рыцарь. Пошёл искать стихи бескорыстного рыцаря в Ныробе. А ему говорят: единственно в Перми на улице Ленина, да и то без четвёртого тома. М-да.
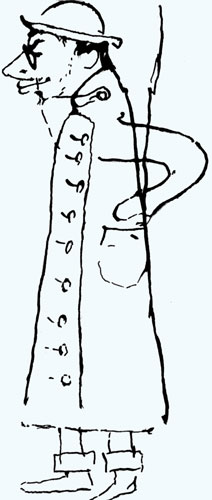 Ну так вот, книга налицо. Не рукопись, а именно книга. Обложка, шмуцы (Schmutztitel). Показываю шмуцы Маяковского и Тулуз-Лотрека, нахохленного Хлебникова работы Н.И. Кульбина ты и так знаешь.
Ну так вот, книга налицо. Не рукопись, а именно книга. Обложка, шмуцы (Schmutztitel). Показываю шмуцы Маяковского и Тулуз-Лотрека, нахохленного Хлебникова работы Н.И. Кульбина ты и так знаешь.
Двупальцевая машинопись, да. 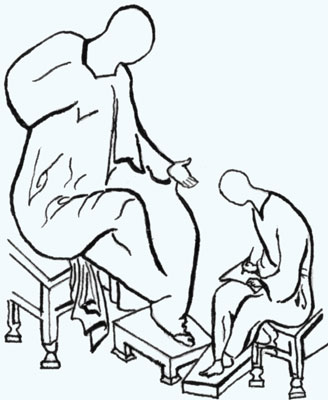 То-то лязгу, то-то грохоту. Как этот содом выносили домочадцы — ума не приложу. «Эрика» бьёт жёстче, но и «Москва» в умелых руках лупит ого-го. Не зря в Древнем Риме дома терпимости называли лупанариями, подсказывает мне Тулуз-Лотрек. Нахрапистая потаскуха в чемоданчике.
То-то лязгу, то-то грохоту. Как этот содом выносили домочадцы — ума не приложу. «Эрика» бьёт жёстче, но и «Москва» в умелых руках лупит ого-го. Не зря в Древнем Риме дома терпимости называли лупанариями, подсказывает мне Тулуз-Лотрек. Нахрапистая потаскуха в чемоданчике.
Хотелось бы приобрести «Ятрань», конечно. Кустарь с мотором — это тебе не гужевой извоз. Железный конь идёт на смену деревенской лошадке. Какое там. По месту жительства даже хромую на ‘Ъ’ и ‘!’ кобылу не укупишь: Большой Брат не любит самиздат.
Ну и что не любит, долго ли сгонять по месту изготовления. Готово, привезла. Ну и что заводской брак, долго ли перепаять литеры. Почему и литеры жена, за кого ты меня принимаешь.
Закончена книга, отправляюсь по делам службы в Москву. Производственная необходимость, полтора месяца отлучки. Эге, соображает подруга и спутница. Как бы чего не вышло. И тоже устраивает себе производственную необходимость в Москве. То есть мы с Митуричем дружили семьями почти с первых дней знакомства, вот так.
И вот я обращаюсь в будку Мосгорсправки за его позывными. Тотчас их получаю: 240–00–14, Брянская 4, кв. 78. Наизусть, а ты как думал. Я столько помню наизусть, что Моцарт от зависти в гробу перевернётся.
Получаю позывные и сразу звоню.
— Его нет, а кто спрашивает?
 Мы уже договорились, что будет Ира, а не Ирина Владимировна. Хрупкая, как статуэтка, изящная, как француженка. Охотно верю, но в начале 80-х Ира напоминала не француженку, а японку: крепенькая, скуластая, черноволосая, coiffure à la chien sur les lunettes. Но это была не плосколицая мелко-узкоглазая La Japonais de la Hokusai — Ира казалась мне женщиной айну, туземцев Хоккайдо. В произведении «Вакх» она у меня Айрэн, а Май — Майн Гудрич.
Мы уже договорились, что будет Ира, а не Ирина Владимировна. Хрупкая, как статуэтка, изящная, как француженка. Охотно верю, но в начале 80-х Ира напоминала не француженку, а японку: крепенькая, скуластая, черноволосая, coiffure à la chien sur les lunettes. Но это была не плосколицая мелко-узкоглазая La Japonais de la Hokusai — Ира казалась мне женщиной айну, туземцев Хоккайдо. В произведении «Вакх» она у меня Айрэн, а Май — Майн Гудрич.Забота и внимание подразумевает чутьё на последствия случайных знакомств мужа. Ира в этом смысле образцовая жена: разговаривай она со мной чуть суше, я бы сто раз подумал, перезвонить или нет.
NB. Многие порядочные люди наслышаны о моей любознательности. От меня самого и наслышаны: получили письмо. Здравствуйте, приглашаю к сотрудничеству. То есть в мои погреба с пауками Такойто Такойтович (Такаято Такойтовна) покамест не всажен(а), хотелось бы восполнить пробел путём взаимной переписки.
По первости отвечали, нынче дураков нет: что будет говорить княгиня (книгиня) Марья Алексевна.
Куда-то подевался вопросительный знак. Никуда не подевался, а не хочу изображать наивное дитя. Ответ известен: Марья Алексевна Такойто Такойтовичу (Такойто Такойтовне) уже ничего и никогда не скажет, прознав о преступной связи с этим, как его. С наладчиком, да. Любой допущенный и вхожий к Марье Алексевне осведомлён: молча раззнакомится, не взирая на лица. Раззнакомится — и тю-тю междусобойчики, welcome to pariah group.
И теперь я сто раз подумаю, посягать на чей-то душевный покой или воздержаться. Сто раз подумаю, а на сто первый решу: нетушки. Разве что в порыве отчаяния. NB is finished.
Был выходной, и я отправился на ВДНХ. Вот где время летит незаметно: племенное животноводство. Симменталки, йоркширы, ахалтекинцы. Насладился чудесами надоя, опороса и рысистости — айда звонить.
Морозный солнечный денёк. Ну и что не воздух, а выхлоп — люди в душегубках выживали, дыша сквозь намоченный платок. Даже лучше, что смрадная гарь: вдвое затаиваю дыхание, звоня.
Берёт трубку сам. Давайте ко мне прямо сейчас, говорит. Как это прямо сейчас, я и не готов, отвечаю. А что значит готов, спрашивает. Фрак в гостинице забыл, говорю. Целее будет, смеётся. В общем, быстренько уговорил гнать на Брянскую.
Затем, что любовь. Любимый прикуривает одну от другой, а ты нет. И какой он после этого любящий, твой любимый. Он же тебя убивает. Не времена Бориса Годунова, чтобы сомневаться во вреде табака. Любимый знает о последствиях, но привычка неодолима. Неизбежные муки совести, потом семейный разлад. Нет уж, закурю сама.
Допустимо ли женщине курить в присутствии постороннего мужчины? Вопрос этот ставит в тупик, потому что дурацкий. Каков вопрос, таков ответ. Тоже дурацкий, да. Вот почему тупик: ответить надо, а свою дурь показывать не хочется.
Но это ещё цветочки, ягодки впереди. Впереди новый дурацкий вопрос: допустимо ли женщине курить в присутствии постороннего мужчины, который не курит?
Самый настоящий таёжный тупик, я тоже так подумал. Подумав, сообразил: требуются доказательства от противного. Здесь и сейчас противнее (contrary to all ¦ Zuwider allen ¦ en dépit de tous) меня никого нет; стало быть, мне и доказывать. Приступаю.
 Почти повсюду въ западной Европѣ обычай поспрещаетъ мужчинамъ курить при женщинахъ, особенно передъ наиболѣе уважаемыми. Это соблюдается относительно знакомыхъ, но у себя въ семьѣ, конечно, каждый муж свободен куритъ, если это его привычка.
Почти повсюду въ западной Европѣ обычай поспрещаетъ мужчинамъ курить при женщинахъ, особенно передъ наиболѣе уважаемыми. Это соблюдается относительно знакомыхъ, но у себя въ семьѣ, конечно, каждый муж свободен куритъ, если это его привычка.Наконец-то. Свершилось. Оставил всякую надежду, и вдруг. Вдруг понял, почему я такой противный. Ти-ли-ли бом-бом, ти-ли бом-бом.
Потому что сроду не перекатывал в зубах мерило мужской благовоспитанности и свѣтскости. Бум-бум. Бум.
С моей противностью разобрались, относительно же курения слабого пола не продвинулись ни на шаг, да и надо ли. Тебе это надо? И я вполне обойдусь. Главное, чтобы жена не курила. И дочери. Тогда я спокоен за внучек. А теперь айда на Брянскую.
Итак, мексиканский перегар и мангуста в поединке с коброй, а уж потом астраханская купчиха в ногах софы. Поворачиваем голову налево: «Джубга» Веры над письменным столом, а ещё выше — «Судак» Петра Васильевича. «Джубга» стоит на игре разбелов, «Судак» весь в рытвинах краски как таковой, да ещё и лак поддаёт жару.
NB. Без лака будут видны жухлые мазки. Льняное масло сохнет веками, а Митурич-старший прописывал поверх. Короста нижнего мазка — та же губка. Жадно впитывает масло нового слоя, и верхний мазок жухнет. Надо писать, как Гюстав Курбе: всё полотно сразу и навсегда, независимо от размеров, или как Сезанн, оставляя чистый холст везде, где решения не найдено. Или соскабливать до подмалёвка, если работаешь на просвет. Лак — признак беспомощности. NB is finished.
И вот мы беседуем с Маем о том, о сём. Память у меня цепкая, но только на важные сочетания слов или цифр. И надо, чтобы я запоминал, а не вглядывался. Вгляделся — содержание беседы затирается зрительным образом. Почаще зажмуриваться? Да ты что. Подле такого собеседника лично я намертво бы заткнулся: спи, родной. Открыл глаза — поздно каяться, пошёл вон.
Московское аканье, да. Очень приятный выговор. Наверняка просвирни Пушкина говорили приблизительно так. Не оголтело, как некоторые туземки переулочков Арбата. Московская просвирня сроду не выговорит ‘я трааплюсь в мгаазин’.
Перед вами образчик залихватского пустозвонства. Ради красного словца не пожалеет матери и отца. Матери и отца не пожалеет, тем более себя. Отнюдь не vene vidi vici, как это следует из басни о фраке. Трижды отрекаюсь. На самом деле было так.
6.01.82. 14.30–15.30. Кузнецкий мост, Кукрыниксы. Крылов и Соколов, Куприянов болен. Рост Крылова метр с кепкой. Его сухая зеленоватая подвижность и прянично-сдобный Никс. Кто-то сунулся к Крылову с шаржами: подпишите. Первый шарж не подписал: „Нос не мой”, о втором: „Это уже получше”. И тоже не подписал.
7.01.82. Днём в ГМИИ. Выставка Фалька. Живописных работ нет. Жаль. В колорите — весь Фальк.
8.01.82. Изучал среду обитания Анчарова. „Они с собакой по вечерам гуляют”. Соврав, что не знаю номер квартиры, оставил письмо консьержке, чтобы передала в руки. Позвоню 20-го утром. На Горького-25 выставка Ивана Бруни. К удивлению, понравилось. Есть отличные вещи своего голоса. Бруни вместе с Митуричем был на этюдах в Туве. „Он каждый день здесь до трёх”. Зацепка на случай, если Митурича нет в Москве.
9.01.82. Зря сгонял на Крымский мост. Выставки нет никакой. Потом в ГМИНВ. Китайская керамика чудесная. Обломки из Кара-Тепе. Музей до смешного маленький. Достал адрес Митурича. Телефон не дали. Трибханга = три движения. Карп — символ преодоления препятствий. Куй Син — божество литераторов, даосский культ. Шива выпил весь яд мира: синее горло обвивает кобра. Когда Шива состарится, он сожжёт мир. У-Цай = пять цветов. Гом Би = прилежная кисть. Фу = счастье.
10.01.82. Звонил Митуричу. Не застал. Хотел на ВДНХ смотреть выступление “народов Севера”. Попал на паузу. Видел ярангу и женщин в шкурах. Живут прямо на сцене.
Снова ГМИНВ. Спросил у “Пети-лингвиста”, на каком слоге ‘ом-ма-ни-пад-мэ-хум’ ударение. Петя сказал, что в санскрите значение имеют долготы и научил правильно выговаривать шестисложие. Звук ‘э’ — нечто среднее между ‘э’ и ‘е’.
12.01.82. ГМИИ. Второй этаж закрыт, есть повод погрузиться в древность. Римлянин из Фаюма: первая цветная тень. Широко раскрытые глаза у египтян: душа входит в тело через них. Цветные литографии де Кирико (ум. 1978), офорт и акватинта Леже. Хотел попасть в АХ на Гуттузо, но его не выставляют.
13.01.82. ГМИНВ. Хорошо, что успел посмотреть искусство Индии: отдел очистили под выставку чьей-то графики. Долго был у Рериха. Очень хорошая развеска. Подслушиваю экскурсовода. Три персика — символ бессмертия в Китае. Дунфан Шо съел один из трёх и прожил три тысячи лет. Персики растут на Луне. ¦ Бесполое божество милосердия Гуань-Инь. ¦ Погребальные пластины Хань — для отпугивания злых духов. ¦ Подставка для влажных кистей в виде карпа. ¦ Сосна — символ стойкости; орхидея (высокорослая + запах) — учёности. ¦ Во время чайной церемонии следовало говорить только о прекрасном. Нарочито корявые чаши, „как будто сама Природа вылепила”.
День завершился удачно. Занято и занято, с пятой попытки дозвонился. Попал сразу на Митурича и переговорил с ним. Санталовского цикла у него нет уже лет десять, передал в ГТГ. „Я не продал, а подарил”. Буду звонить хранителю. Жукова Елена Михайловна, 231–18–87. Рассказал, как найти могилу Хлебникова (новая территория, налево до угла, третий или четвёртый ряд в глубину, сразу после Грабаря). Если самостоятельно не прорвусь, берётся помочь. Болеет, простыл.
14.01.82. Звонил Жуковой в ГТГ. Её нет. „Митурич — это у меня”, — отвечают. Но чтобы проникнуть в запасники, требуется бумага и какие-то печати. Завтра снова попытаюсь переговорить с Жуковой. Ездил на Новодевичье. Обошёл вдоль забора, нельзя ли где-нибудь перелезть. Непреклонный сержант. „Приходите 9-го мая”. Может, и к лучшему. У Митурича есть пропуск.
15.01.82. Вот и пошло на лад. Опять ГТГ. Александр Иванов. Невероятное совпадение: бюст Хлебникова (Зеленский А.Е. 1903–1974) рядом с автопортретом Грабаря, как на Новодевичьем. Вышел около шести вечера. Днём звонил Жуковой, без толку. При этом 18-го галерея закрывается. Поэтому звоню Митуричу. Самую малость поговорили, и вдруг зовёт меня к себе: „Вечер свободный”. Лечу. Влетаю. Всё как во сне. Прощупывание. „Май, он Парниса читал!”
16.01.82. Иду в ГТГ насладиться Врубелем напоследок. Три часа пожирал. Есть вещи (графика), где совершенно непонятно как сделано, а бьют наповал. «Тени лагун» 1905 года в сто раз лучше всего Кандинского. Невообразимое «Воскресение», где всё — кусками. Вечером телеграмма от Тани. Приезжает завтра. Будет в Москве до 26 февраля.
18.01.82. Был у Митурича. Смотрел картины и графику, а он читал рукопись. „Значительные вещи, цельные”. Оформление в целом одобрил.
26.01.82. Был у Анчарова (Чехова 31/22, кв. 80, тел. 299–04–89). Боевое крещение. Рост 175, пузо. Тромбоз сосудов сетчатки. Резанули лазером — неудачно. Самый пожилой в Москве отец: 58 лет (Артёмка). Собака Красотка. „Я очень люблю собак. ¦ Услышу «Сурок» Бетховена — сразу комок в горле. Бетховен — разозлённый ребёнок. ¦ Человечество пошло по пути развития орудий, а не поведения. ¦ Мой преподаватель Курилко говорил: „Для художника нужны три вешчи: первое — похвала, второе — похвала, третье — похвала”. Ещё Курилко: „Хотя бы один прэлэстный угхолочек на всю работу”. ¦ Толстой отрицал Шекспира, я не могу читать Достоевского. Я люблю Пушкина. ¦ Тихий взрыв. ¦ Разница счастья и блаженства. ¦ Я думал, вы маленький и щустрый. ¦ Ну вот... Только что хотел послать по матери. В искусстве всегда так. ¦ У вас своё, у меня своё... по крайней мере, ещё не стало моим. ¦ Нет, нет, всё! Здоровье дороже! ¦ Ну как, не очень болят синяки? ¦ Сон Бёме: Бог и зеркало. Семеро монахов судили, и отпустили с миром. ¦ О Высоцком: выжать воду из его 500 песен. ¦ Я готов на пупе вертеться, чтобы пробиться к людям. ¦ Есенин — для чего-то, Маяковский — от чего-то. ¦ Сельвинский: Е-эh?али казáки, / Е-эh?али казáки, / Чу-бы па-гу-бам!”
28.01.82. Держал в руках ручку, галстук, чернильницу и кукол Велимира.
01.02.82. Рукопись отдана в издательство.
02.02.82. Митурич сказал: „Будем держать связь”. Затылочная кость и фаланги пальцев, клочки шерсти (жилетка).
03.02.82. У Андриевского дома (Черняховского 3 кв. 43, тел. 155–01–81). Разговор с его женой (Антонина Акимовна).
04.02.82. Таня пытается помочь с лечением Андриевского.
06.02.82. Андриевскому лучше.
07.02.82. В Музее Маяковского. Павленко Евдокия Никаноровна и Алексей Иванович, родители матери. Звонил Митуричу. Кедров Константин Александрович, литературовед, тел. 110–71–16.
08.02.82. Звонил Кедрову. Договорились на 11-е в 5 вечера. Метро Варшавская, направо по ходу, ул. Артековская 8 кв. 60, 8-й этаж.
16.02.82. Прощальный вечерок у Митурича. Петя Вегин — секретарь Комиссии по наследию Хлебникова. Болтун. В Перми будет выставка книжной графики в мае, надеется приехать.
18.02.82. Последний день в ГМИИ. Отто Мюллер, цветная ксилография из жизни цыган, «Пара в притоне», «Две девушки в камышах». Серия «Война» Дикса. Кирхнер — «Чёрный жеребец, наездница и клоун», «Двое беседующих мужчин». Нольде — «Динарий кесаря», «Самшитовый сад».
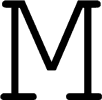 оим восторгам от «Ночных бесед» Андриевского Дуганов противопоставил свой опыт, сын ошибок трудных: воспоминаниям верить нельзя. Идёт, например, некто с Александром Блоком по взбаламученному Петрограду, и тот ему говорит: „Слушайте музыку революции, Такойто Такойтович!” Начинаешь разбираться — Такойто Такойтович в это время слушал Кальмана в Каннах.
оим восторгам от «Ночных бесед» Андриевского Дуганов противопоставил свой опыт, сын ошибок трудных: воспоминаниям верить нельзя. Идёт, например, некто с Александром Блоком по взбаламученному Петрограду, и тот ему говорит: „Слушайте музыку революции, Такойто Такойтович!” Начинаешь разбираться — Такойто Такойтович в это время слушал Кальмана в Каннах. NB. Полагая вклад Мая Митурича в дело расчистки единственной скважины, через которую будущее падало в России ведро определяющим, Дуганова начала 80-х я ставлю не весьма высоко. Хлебников мало заботился о своих рукописях, и натасканная ищейка стоила всех дознавателей чохом. Главное — найти, там разберутся.
А Парнис уже не только наступал на пятки, но и утирал нос Харджиеву. В тени которого Дуганов был едва различим. Вова понимающе бьёт благородным копытцем:
Раньше
маленьким казался и Лесков —
рядышком с Толстым
почти не виден.
Но скажите мне,
в какой же телескоп
в те недели
был бы виден Лидин?!
Заменяем Толстого Харджиевым, Лескова — Дугановым, Лидина — любым из ныне здравствующих. Включая Парниса последних двадцати пяти лет. Ну-тка?
Дуганов развернулся чуть позже разрыва со мной. Вызволил из бесерменского полона и обнародовал рукопись «Ангелов», написал превосходные предисловия (это, например) к нескольким сборникам и даже учебник (см. здесь), сколотил «Общество Велимира Хлебникова» и заявил о намерении турнуть Тынянова-Степанова с парохода современности.
Заявив, убыл в Японию. Не любоваться красотами, а преподавать.
— Отхожий промысел в разгар страды, — плюнул с досады Левин.
— Туда и дорога, — проскрежетал Вронский.
Ау, «Общество Велимира Хлебникова». Нет ответа. Мёртвая тишина и мерзость запустения. Во что это вылилось — предмет отдельного разбирательства. Если соблаговолить изволю.
Но кое-какими соображениями поделюсь. В Гомеле потрясающий парк. Общедоступный после 1917 года, до — частное владение князя Паскевича. Князь был избирательно широк: чистую публику пускали, собак и евреев — нет.
Я упивался красотами Landschaftsgestaltung, и дух Александра Гумбольдта витал надо мною. Гостеприимство гомельчан било через край: даже к священному дереву гинкго провели. Оттопыренные уши проводника напоминали солёные кульбики, был он веснушчат и нетвёрдо выговаривал эр — необходимые и достаточные (см.: Yuri Slezkine. The Jewish Century. Princeton University Press. 2004) признаки родовой любви к Пушкину.
Туда, где конские свободы
И равноправие коров,
Где в лотосе душа природы
Едва не сбросила покров,
Куда ходили россияне
Сцыганить святости сиянье,
Где комара щадят как брата,
И червь раздавленный — утрата,
Где боги выпивают яд,
Синея с головы до пят,
Где зло теснят непротивленьем
Родиться вновь приготовления,
Число, веди меня туда,
Где грянет главная беда.
23
Тысячеверстная Стена,
Кумирни, фанзы... Вот те на!
Предупреждали: не витай,
Ошибкой залетел в Китай.
Где нет сознанья островного,
Мои досуги будут новость,
Вот запрягут — и поминай,
Соломы клок мой будет пай.
Я принимаю клячи вид.
Вполне заезжен и забит,
Будто уверовал в Кун Цзы
И возлюбил свои уздцы.
Изобретеньем хомута
Страна отталкивает та.
24
Нет хуже места для обряда.
Два раза оступиться кряду!
Эх ты, беспечная скотинка.
Зато есть повод в роще гинкго
Найти плоды из серебра.
Итак, нет худа без добра:
Стезю оставив послушанья,
Иду на городок Нинго.
А вот и горы Дянь Му-Шаня.
Гони сомнения, изгой.
Пусть и на ложном ты пути,
Найдём, что следует найти.
Восточный ветер гриву треплет.
Бери меня, священный трепет.
Но это сложилось позже, а в 1981-м мне так и не удалось выведать у местных, чья это могила. Небольшой камень, сверху выбито Марко. Не сбоку (stela sepolcrale), а именно сверху. Все опрошенные только пожимали плечами.
И я решил, что это моя могила, даже сочинил об этом бряцающий созвучиями боевик. Действующие лица: фельдмаршал Паскевич-Эриванский, генерал Юзеф Бем и я. Покорение Кавказа, польский мятеж, венгерское восстание. Нагибин сообщил о сильном впечатлении от Бема, но Паскевич его не убедил. И я сжёг рукопись без малейшего сожаления.
Вдруг, уже во времена известности сайта, получаю письмо. Разрешите представиться: Владимир Хлебников, отец Велимира Хлебникова.
Отец и отец, мне что за дело. Если бы не лакомая подробность: из Гомеля. Спрашиваю, водит ли Велимирчика в парк. Ещё бы, отвечает, каждый выходной. А кто такой Марко, знаете?
И Хлебников-старший отвечает: любимый пёс князя Паскевича.
А теперь вспоминаем надгробие Дуганова Р.В. на Новодевичьем. NB is finished.
Маю досталась тонкая отцова кость, остальное всё хлебниковское. Так называемая повадка. На этом позволю себе живописание прекратить, перехожу к событиям.
Поводом для повторного посещения Брянской была моя рукопись. Завтра же приносите. Приношу. Садится за письменный стол, над которым теперь бабочки, а раньше висела мамина «Джугба», и перелистывает.
— О, да тут много, придётся придержать. Вы не против?
Зачем я буду против, когда полюбил Иру с Маем навсегда. Обоих. Никогда не вспоминаю порознь, только вдвоём. Даже голоса дополняли друг друга, слушай здесь.
Именно Ира с Маем, а не наоборот. Ну-ка, скажи ‘Май с Ирой’.
Противоестественное сочетание, то-то и оно. Язык не обманешь. Пока Ира с Маем, какая там сирость. Голубки. Не годится: сусально-слащаво. Попугайчики-неразлучники? Дались тебе эти птицы. Филемон и Бавкида? Дались тебе эти греки. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна Товстогуб? Дался тебе этот Гоголь. Пётр и Феврония Муромские? Давай прекратим этот разговор.
— Пока читаю ваше, хотите ознакомиться с этим?
И движением головы указывает на две папки-скоросшивателя, одна другой толще.
— Везде отказывают, куда ни ткнусь. Есть у вас заручки?
Год, как я пишу не кистью, а в столбик (stanzaic prosody). Какие заручки. Не приобрёл до сих пор, смею надеяться. Подножки — да, этого хватает. Все коленки сбиты, локти содраны и чушка расквашена.
Ира отнюдь не помалкивает, как Алла Григорьевна в предыдущей главе. Хотя цель обеих одна: вывести незнакомца на чистую воду посредством его языка и телодвижений. Нагибин сказал бы расколоть, но я же не Нагибин. Раскольников, кстати говоря, тоже не сразу топор вынул, сперва туману подпустил. Ищем и находим общий знаменатель чистой воде и топору: за ушко да на солнышко.
Итак, цель одна и та же, но Алла Григорьевна заушает брезгливо, а Ирина Владимировна — с азартом.
И правильно делает. Представь себе преткновение по ходу прощупывания: мой каверзный вопрос. Как вы относитесь к Маяковскому, например. Пауза и нарастающая напряжённость: ненависть вошла в плоть и кровь с колыбели. Вошла, расселась, угощается. А потом отец умер, и ублажать эту гадину стало некому. Ну и?
Подобного рода нежданчики следует подавить в зародыше. Делается так:
— Знакомых поэтов у нас пока только двое: Винокуров и Серёжа Бобков. Евгений Винокуров, да. Почему толстых не бывает, а Крылов? Зато Серёжа не толстый. Мы ему подарили пятитомник Хлебникова.
NB. Известные чрезвычайно узкому и страшно далёкому от народа кругу лиц сведения о Серёже и Филиппе Денисовиче Бобковых просочились-таки в сказание «Особняк в одно жильё». Мало того, Филипп Денисович играет вторую скрипку в моём «Смычке над тучей». Первую играет Хрущёв, альт у Макеева, виолончель у Сергея Павловича Королёва. Пятитомник Хлебникова был Серёже как зайцу пятая лапа: воспроизведут fac simile, только свистни. Могут и с ятями напечатать. Они всё могут. Возможно, Митурич об этом догадывался, но я понятия не имел. А надо бы. NB is finished.
И чего было не работать, когда готов и стол, и дом: наведался к дражайшей половине в общежитие — айда к себе в гостиницу. Супружеский долг, совершенно верно. Ни разу соседки не нагрянули во время исполнения.
Умницы, не то что мой бирюк. Время поджимало, а этот Угрюм-Бурчеев запрещал засиживаться за полночь: отбой, а то завтра увидишь. Угроза действовала: посиделки хлопцев за стенкой казались шумноваты.
Всё было против меня: и астрономическое время Ньютона, и собственное время этого храпуна. Однако Господь небес милости, как отписала старушка-мать сыну, космонавту Огуречко: именно эти, выбранные мной в Подберёзовиках (ныне Царёв-Посад), места и подвигли Юрия Нагибина заступиться за Хлебникова.
Гостиница была ведомственная, в двух шагах от ЦУПа. Как тесен мир: никто лучше Нагибина не написал о Гагарине, никто. Наверняка ты утомился хмыкать в прошлой главе над моими выкладками о Марке Левентале, родном брате Отто Лилиенталя; даю новый повод: Юрий Маркович не хуже меня знал подоплёку гагаринского шрама над переносицей. Знал, но благоразумно помалкивал. Тягу Петра Ильича к мужеложству раззвонил, о грешках Юрия Алексеевича — ни гу-гу. Почему, спрашивается.
Потому что племянник Отто Лилиенталя, ребятки.
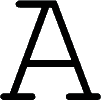 Дуганов оказался-таки прав: нельзя воспоминаниям верить, даже своим. Если бы не подённые записи, так и пребывал бы в уверенности, что втёрся в доверие к Ире с Маем благодаря забытому в гостинице фраку.
Дуганов оказался-таки прав: нельзя воспоминаниям верить, даже своим. Если бы не подённые записи, так и пребывал бы в уверенности, что втёрся в доверие к Ире с Маем благодаря забытому в гостинице фраку.Никаких признаков простуды. Стало быть, Новодевичье — проверка. По велению сердца или горе от ума. Но я так доказательно досадовал на непреодолимый забор, что лёд тронулся.
Вполне безобидная проверка, не двое на одного. Когда следаки работают в паре, любой сявка догадается: поджарый сыграет злого, рыхлый прикинется добрым. Или наоборот. Но даже тёртый урка утратит бдительность, если допрашивает семейная пара: жена не даст мужу рта раскрыть. Один раз не дала, другой, третий. Вдруг они понимающе переглянулись, и...
Но Митурич удалился отвечать на чей-то звонок, разговор — если таковой действительно был — вне нашего с Ирой поля зрения затянулся, и ей пришлось озвучить итог предварительного дознания:
— Май, он Парниса читал!
И второй следователь тут как тут.
Если бы Нагибин воздержался при мне от гнилого слова по отношению к женщине, я полюбил бы его за одно только сходство с Ириным выговором. Пишучи на слух, возглас выглядит следующим образом:
— Май, он Парниса читав!
Или так:
— Май, он Парниса читау!
Нечто среднее, да. У Иры ближе к вэ, у Нагибина — к у. В обоих случаях виновата мать: азартно занималась устройством личной жизни, а не речью ребёнка. Но мне эти недочёты воспитания на руку: повод трижды повторить возглас удивления. Зачем.
Чтобы ты терялся в догадках о причине тёрок между М.П. Митуричем-Хлебниковым и А.Е. Парнисом ровно до того дня, когда я соблаговолить изволю этот гордиев узел распутать. Используя подручные зубы, что предполагает сплёвывание на пол и матюки. Насчёт матюков не обольщайся, но благоприятная пауза между первым и вторым плевками уже стучится в дверь.
Ибо я намерен предварить развёрнутое повествование о родовых муках музея Хлебниковых-Митуричей в Астрахани замершей беременностью всемирной поминальни Хлебникова в Санталово. Астраханские дела ты в подробностях узнаешь от первого лица (первой скрипки), санталовские же вкратце таковы.
Ау, киевские друзья и подруги. Чтобы законным образом приобрести деревенскую избу, покупатель о ту пору не должен был иметь иной прописки. Александр Ефимович Парнис числился киевлянином, проживающим при родителях. Стало быть, изба в Санталово была куплена им на имя одного из друзей. Или подруг. С одной из них он по меньшей мере семь лет осваивал окрестности последнего пристанища Велимира Хлебникова. Сколько лет закреплял эти навыки с другой — полномочий разгласить не имею. Да и к делу не относится.
При этом родовое гнездо Хлебниковых в местах, где смотрит Африкой Россия, Александр Ефимович навещал куда менее прилежно, и это правильно: Астрахань Велимир Хлебников, как известно, разлюбил. Разлюбил — и больше ни ногой. Своего рода последняя воля, нравится это астраханским краеведам или нет.
Питал какую-либо приязнь к Санталово Пётр Митурич до 1922 года или уже тогда эти места ему претили, внятных свидетельств нет. Зарисовки? Суровая сдержанность, и только. Доподлинно знаем другое: он отписал всё, хотя бы отдалённо связанное с великим братом его дражайшей („отец буквально её боготворил”) супруги, Маю. И завещал похоронить их вместе у подножия Велимира. Последнюю просьбу отца Май уважил в 1957–1961 гг., подробности здесь.
Для этого ему пришлось освоить погост в деревне Ручьи, где покоился прах его дяди, как то: 1. породы осеняющих могилы деревьев; 2. взаимное положение сосен и елей; 3. расстояние пар сосна-ель до задней стены кладбищенской ограды; 4. разное. Разрешение на раскопки у племянника имелось, факт извлечения останков подтвердили трое местных жителей и заверил председатель сельсовета. Спустя год место захоронения нескольких избежавших распада костей Велимира Хлебникова и праха его близких — отца, матери, сестры и зятя — стало доступно для посещения обладателями пропуска на Новодевичье.
Осваивать Новгородчину сверх того Митуричу-сыну было незачем.
И вот к нему является молодой человек из Киева. То есть к ним, Ире с Маем. Подкупающе улыбается или с лукавинкой — не ведаю, а вот за первые слова посетителя ручаюсь:
— А что у вас éсть?
Ручаюсь, потому что клясться запрещено. Жаль, ибо в память врезался и встречный вопрос:
— А что у вáс есть?
И всё это голосом, припоминая который я сглатываю слёзы.
Май при этом её сообщении как-то скис. Не сник, а именно скис. Потому что уже и тогда по раз и навсегда заведённому порядку собеседование проводила Ира, его же задача была прикинуть внутреннее содержание посетителя на глаз и вовремя понимающе переглянуться с любимой.
Оба не только были наслышаны о Парнисе от кого ни попадя, но даже и настроены верным человеком.
— Помните у Гоголя двух крыс? которые к городничему приходили? Пришли, понюхали, ушли. А Парнис останется и всё тут погрызёт.
Человек этот, положим, разбирается в Гоголе, но дóлжно сметь и своё суждение иметь. И они ответили согласием на предложение встретиться.
Но больше ничего я от них о Парнисе не узнал, вот так.
Однако измыслить ответ на Ирин вопрос имею право.
— А что у вáс есть?
— У меня есть предложение объединить усилия по Санталово.
Думаю, Александр Ефимович пожаловал к Маю Петровичу именно с этим. Дарственная в ЦГАЛИ, не говоря о грузовике с единицами хранения в Астрахань, покамест не состоялась, есть чем овеществить задумку.
К своим закромам Пётр Митурич не подпускал Харджиева даже на пушечный выстрел, а Май снизошёл к просьбе. Разумеется, под наблюдением Иры. А ну как зарядит заимствовать по забывчивости. И, пока земляк Бабеля и Багрицкого делал свои выписки, чересполосица с киевлянами была немыслима даже в тифозном бреду.
Надо не только уметь читать между строк, но и слышать между звуков. Иначе следаки выведут или на чистую воду, или за ушко да на солнышко. Расколют, одним словом. Знал бы ты, как хотелось получить добро Мая на встречу с Парнисом. И он дал бы позывные, даже не вопрос. Но мама в таких случаях говорила: не два горошка на ложку. И я воздержался от нежелательного, с точки зрения Иры с Маем, знакомства.
А то свиделся бы с Анфисой Абрамовной ещё тридцать лет назад.
— Ну и как шмуцы?
— Стихи лучше, но вот здесь я не понимаю, растолкуйте.
NB. Разве мог предположить Митурич, что его приговор наделает таких бед.
Допустим, от содержания заштормило. Или просто недосуг было вникать. И он руками-ногами уходит от вопроса по существу. Спрошено о шмуцах? Изволь:
— Здорово, глаз не оторвать.
Мои действия. Забрасываю к чёртовой матери словесность. Полторы гляделки — это ещё не слепой Дега.
Но мои шмуцы Митурич не похвалил.
Вот почему я не Пушкин. Пушкина благословил один только Державин, меня двое: Михаил Анчаров и Май Митурич. NB is finished.
Итак, возвращаю обе папки-скоросшивателя, и делюсь впечатлениями. Ира с Маем внимательно курят, разумеется.
— Почему бы вам с ним не встретиться, — раздаётся из дымовой завесы мужской голос, — наверняка есть о чём поговорить.
— Да уж, — отвечаю. И в ближайший выходной звоню Андриевскому. Вдруг тоже пригласит, сразу и рвану.
NB. Впечатления были таковы: если рукопись Митурича-отца условно назвать домашним рукоделием, то «Мои ночные беседы» — самый настоящий народный промысел. Собеседник Хлебникова никоим образом к толчее обочь муз не причастен, разве что стишки по молодости лет кропал. Он и поприще не с бухты-барахты выбрал, этот головастый промышленник.
„Плавно спланировал из ЧК в кинематограф”, — язвила Н.Я. Мандельштам. Не по хорошу мил, а по милу хорош — вот и язвила. Лично я смотрю на эти вещи так: спланировал не в ОГПУ, хотя туда ему прямая дорога.
Итак, начальник Чеки Андриевский к толчее около муз не причастен. Как это не причастен: искусство кино. Тут вот какая заморочка: искусство есть, а музы у него нет. Сбежала. Стоило Владимиру Ильичу назвать кино важнейшим искусством современности — немедленно дала дёру. И кинематограф стал промышленностью: не проплатили съёмку — нечего крутить-казать.
Ещё какой башковитый промышленник: изобретатель стерео-кино. Теперь угадайте с трёх раз, что побудило его сесть за воспоминания. Отбой, сам не знаю. Тогда угадайте, кто побудил. Правильно, Александр Ефимович Парнис.
Говорят, способный ученик должен превзойти учителя. Моя оговорка: если тот остановился в развитии, умерев. Следовательно, Велимир Хлебников живее всех живых. Учеников дополна, только вот преемника не видать. До сих пор никто не умудрился встать под солнцем правды так, чтобы тень накрыла хотя бы Евразию, не говоря о Земном шаре.
Локоть близко, да не укусишь. Простой пример: моя «Ливерпульская четвёрка» очень слабо дружит с первоисточником. Подлинному Ринго до сих пор не удалось переплюнуть даже Харрисона, не говоря о Ленноне и Маккартни; а вот Парнис таки переплюнул Харджиева. Попутный ветер? Всё-то тебе шуточки, молодой человек.
Именно Парнис побудил (activate, trigger, stimulatory action) Андриевского сесть за воспоминания и пас (supervise the work) его рукопись, но в итоге остался у разбитого корыта: его фирма не называлась Комиссия по наследию Велимира Хлебникова при СП РСФСР, где Май Митурич представлял в единственном лице семью покойного. NB is finished.
Итак, Май дал позывные Андриевского, и я позвонил. Суматошный женский голос тут же взял меня в оборот: Александр Николаевич тяжело болен, нужна ваша помощь.
Записываю адрес и метро, бросаю все дела и еду.
Открывает маленькая сухонькая большеглазая старушка, прохожу. Никакого Андриевского нет. Оказывается, моя помощь нужна как раз для того, чтобы он тут появился: старик (1899 года рождения) в лапах врачей-убийц, его истязают, надо использовать мои связи (!) для похищения (!!)
На правах влиятельного лица требую подробностей. Антонина Акимовна (позже я узнал, что она сестра покойной жены Андриевского) рассказывает невероятные вещи:
— Ему ставят рак, а это пуля! Пуля, вы понимаете, пуля! Это же пуля, а не опухоль! Прямо под сердцем ещё с гражданской войны пуля, а они ставят рак! Он не может их переубедить! Над ним смеются! Там, в Кремлёвке, всё делают только за деньги! Не можешь заплатить — подыхай! А он же ни-и-ищий!
Завершающее восклицание разительно совпадает со средой обитания: голые стены. Посмертная маска Пушкина и пыльные ватманы с цифрами. Всё. Причитания старушки — глас вопиющего в пустыне, я тоже так подумал.
И ошибся. Потому что и впрямь оказался человеком со связями. Дело в том, что моя супруга и спутница до замужества действительно была девчонкой от станка, но, выйдя за меня, получила высшее образование. Стану я жить с дурочкой. Высшее медицинское образование.
А теперь что такое производственная необходимость находиться ей о ту пору в Москве: курсы повышения квалификации. Ну и что курсы, причём тут Андриевский. А при том, что уговорила кое-кого позвонить в Кремлёвку. Члена-корреспондента АМН СССР. Что за дела, спрашивает лауреат. Вы там что, с ума все посходили. Пулю от опухоли отличить не можете. Немедленно разобраться и доложить.
Теперь что такое эта пуля. Из нагана или маузера — понятия не имею. Наградное оружие или табельное — та же песня. А что сам нажал на курок, это совершенно так. Попытка самоубийства.
Я тоже подумал, что угрызения совести. Мальчики кровавые в глазах. Ничего подобного. Андриевский стрелялся от несчастной любви. Как молодой Максим Горький, да. И тоже в сердце. И тоже не знал, что надо целить правее соска, ближе к грудине.
В гимназии анатомию человека не преподавали, это тебе не советская школа. Попал в окружение, например. Отстреливайся до предпоследнего патрона, последнюю пулю — себе. Необходимые знания.
Забегали, конечно. Кремлёвка переводится больница для старых большевиков. Тёпленькое местечко. Не все же старые большевики с головой не дружат, попадаются и вменяемые. А эту голытьбу подлечили задаром: как бы чего не вышло. И выписали со значительным улучшением состояния здоровья.
Но выписка не совпала с моим пребыванием в Москве, а в следующем году Андриевский умер. Вопросов у меня к нему уйма до сих пор, и некому перепоручить. На этом я прекращаю дозволенные речи: уехал и уехал. Приеду ещё не раз. А пока — взаимная переписка. Вот самое первое письмо.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 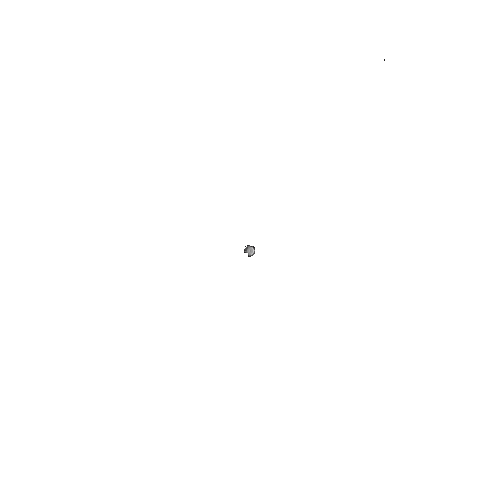 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||