

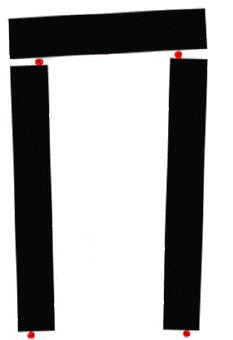 оэтическая судьба Хлебникова складывалась так, что он как бы несколько раз входил в литературу. И каждый раз это сопровождалось самыми противоречивыми оценками его творчества.
оэтическая судьба Хлебникова складывалась так, что он как бы несколько раз входил в литературу. И каждый раз это сопровождалось самыми противоречивыми оценками его творчества.Однако и сегодня творчество поэта мы знаем далеко не полно. А без этого, очевидно, полноценное восприятие поэтического слова невозможно. И сейчас, как кажется, мы находимся на пороге нового литературного открытия Хлебникова. Если в 1910-е годы Хлебников нужен был прежде всего как изобретатель новых поэтических методов, в особенности для ближайших его сподвижников, нужен был в набросках, „в отрывках, наиболее разрешающих поэтическую задачу”, как говорил Маяковский, если в последующие десятилетия были доступны отдельные произведения и лишь некоторые стороны его творчества, то сегодняшняя задача — открыть художественный мир Хлебникова в целом.
С чего начинается понимание поэтического мира Хлебникова? С тех стихотворений, которые входят в наше сознание как бы сами собой:
Но иногда, читая стихи, мы забываем, что каждый поэт и даже каждое стихотворение является нам, по слову Хлебникова, с своим особым богом, особой верой и особым уставом. И, перенося то или иное привычное восприятие на другого поэта, мы замечаем отдельные образы, строки, отрывки, но не схватываем логики целого.
Последняя строка, больше всего задевающая наше сознание, как бы подсказывает готовое лирическое переживание всего стихотворения — то ли в духе элегического смирения, то ли в духе трагического героизма, но скорее всего так: высокая смерть человека, запечатленная в музыке и слове, как будто противостоит безропотному и бесследному умиранию природы.
Верно ли подобное восприятие? Ведь тогда окажется, что всё остальное, кроме последней строки, в стихотворении необязательно и даже нелепо. Почему, спрашивается, умирая, кони — дышат? Как будто, когда живут, они не дышат. И т.п.
Но если всё-таки “вчувствоваться” в строй стихотворения и следовать его логике, мы должны будем сказать, что кони — дышат потому, что обычно дыхание не ощущается, ибо оно — сама жизнь, и лишь когда оно становится трудным, прерывается, мы замечаем: дышат. Когда кони — дышат, травы — сохнут, солнца — гаснут, нам открывается, что воздух, вода, огонь, покидающие их, суть не что иное, как жизненные стихии, передаваемые ими друг другу, и жизнь есть не случайное и не хаотическое, а необходимое взаимопревращение этих стихий. „Огонь живёт смертью земли, воздух живёт смертью огня, вода живёт смертью воздуха, а земля — смертью воды” — так когда-то, на заре научной мысли, когда философия ещё не отделилась от мифологии и поэзии, учил Гераклит. Для Хлебникова такие переклички с древней натурфилософией были всегда привлекательны. Что может быть проще, убедительней, человечней и, наконец, поэтичней, чем эти знакомые всякому земля, вода, воздух, огонь в качестве символов всеобщих начал, образующих и вселенную и человека? Тем более что в кругу этих стихии наглядней выступает еще одно начало — человеческий дух, воплощенный в песне.
Однажды летом 1909 года Хлебников в дни необычайного творческого подъёма признавался в письме к Вячеславу Иванову: Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как эти дни. Следуя мысли стихотворения, можно было бы сказать: как огонь живёт смертью земли, так поэзия живёт смертью поэта. Но его певучее слово становится высшим жизненным состоянием природы, когда всем раздельным существованиям, вопреки необратимости распада и смерти, возвращается их изначальное всеобщее единство. Ведь стихии — по-гречески буквально означает ‘буквы’, и вселенная слагается из стихий, как из букв — слово. И не какое-то слово вообще, а именно вот это слово, каждый раз заново возвращаемое поэтом, именно вот эти четыре строки.
Конечно, они могут пробуждать в нас и печаль о невозвратности уходящего, и негодование на судьбу, и множество других переживаний, однако стихотворение, взятое в целом, говорит нам прежде всего о другом: о всеобщей, необходимой и в конечном счёте разумной и прекрасной взаимосвязанности всего. И, по существу, речь в нём идёт не о смерти, а, напротив, о напряжённейшем переживании полноты бытия. Перед нами оказывается не лирика с её сугубо человеческими и личными чувствами, а эпос. Он заключён в самую малую форму, но способен развёртываться в широкую и внеличную картину мира. Здесь как бы сама природа говорит о себе, и это слово природы раскрывает нам в то же время и природу поэтического слова Хлебникова.
Я боюсь бесплодных отвлечённых прений об искусстве. Лучше было бы, чтобы вещи (дееса) художника утверждали то или это, а не он, — писал Хлебников Алексею Кручёных по поводу его «Декларации слова как такового», выпущенной в 1913 году, и ограничивался лишь кратким замечанием:
И действительно, как полно и весомо сказано о том же в четырёх строках стихотворения, представляющего самое существо поэзии. Поэтому ему просто не нужны ни размер, ни рифмы, ни метафоры, столь привычные поэзии нашего времени, но отнюдь не являющиеся её непременной принадлежностью. Здесь мы находим то, что найдём во всяком поэтическом произведении любых времён и на любом языке.
Как же тогда совместить особую веру и особый устав каждого поэтического слова с несомненно ощущаемой нами общностью и вечностью поэзии? По-видимому, противоречия здесь нет. Каждый поэт видит мир со своей особой точки зрения, и каждый говорит на особом языке, но вместе они говорят об одном и том же, потому что основным содержанием искусства является единство и полнота мира. Как раз этому и учит опыт Хлебникова. В его стихотворениях, поэмах, драмах, прозе мы встречаемся с поражающим разнообразием поэтических форм, сюжетов, образов — некоторые современники называли его творчество “огромным всероссийским требником-образником”. Но за всем этим разнообразием всегда угадывается какой-то единый “сверхсюжет”, какой-то глубинный образ, какое-то, если можно так выразиться, мысленное изваяние, как в хлебниковском рассказе «Николай»:
Так и читается эта проза: мы видим в ней и рассказ о судьбе нелюдимого охотника, и исповедь поэта о собственной судьбе, и размышления о природе человека вообще.
В поэтическом мире Хлебникова всё частное, единичное и конечное восходит к единому и бесконечному. Даже в мгновенном вздохе, вырвавшемся вслед навсегда исчезнувшей возлюбленной, открываются целые миры: Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нём малые вздохи, как земля, кружились кругом большого. И наоборот, в небе поэт всегда искал землю и человека: в драматической поэме «Взлом вселенной» перед нами девушка — она сидит у окна и плетёт косу, — но это не что иное, как вселенная, и она держит на ладони русский народ. В большом и малом Хлебников искал всеобщие связи и стройные закономерности космоса, устроенного ритмом и гармонией подобно творению поэта.
Так что в конце концов неизвестно, кто кому подражает: поэтическое слово “божественному, космосу” или “божественный космос” слову поэта. Мир предстает нам каким-то бесконечно-величественным стихотворением, где, скажем, Россия — сменой тундр, тайги, степей — похожа на один божественно-звучащий стих. И кажется, что поэт всю жизнь читал одну только книгу:
Вот эта единая книга природы и есть тот сквозной сюжет, который проходит через всё творчество Хлебникова и составляет его основное содержание.
В его творчестве произведения классической ясности и фольклорной простоты соседствуют с произведениями загадочной сложности и прямо-таки мучительной темноты.
Владимир Одоевский, мыслитель, глубоко родственный Хлебникову и ценимый им, писал в «Русских почах»: „Часто сетуют на сочинителя за то, что его сочинение не довольно попятно; но есть творение, которое всех других непостижимее — вселенная”. Именно так Хлебников понимал поэзию. Сохранилось его признание о том, что написанную в мае 1920 года поэму «Ладомир» он сам был не в состоянии воспринимать. Только через несколько месяцев, в феврале 1921 года, в дневниковой записи отмечено ‹...› мог спокойно перечитать «Ладомир» и охватить содержание, бывшее больше меня до этого времени.
Но бывало и так, что само содержание, наполнявшее поэзию Хлебникова, приводило к такой смысловой перенасыщенности, что его поэтическое слово теряло “меру, порядок и стройность”, отступало и рушилось под переполнявшим его содержанием, и прекрасный сияющий космос оборачивался непроглядным и непостижимым хаосом. Это нередко делало Хлебникова недоступным для восприятия, чем в конечном счёте и объясняется его трудный и долгий путь к читателю.
В автобиографической заметке 1914 года Виктор Владимирович Хлебников писал:
Так поэтически осмыслял он свои природные и исторические корни. Ему, очевидно, важно было, что его разбойничье-казацкое происхождение на пересечении Востока и Запада отвечало бунтарскому и в то же время обобщающему и синтезирующему духу его творчества. Все эти разрозненные и, может быть, случайные биографические факты становились тем связным и значительным целым, которое мы и называем судьбой поэта.
Хотя, казалось бы, по складу характера и ума и по воспитанию Хлебников призван был совсем к иному поприщу, к тому, что в его времена ещё называлось просто: исследователь природы. Его отец Владимир Алексеевич Хлебников, орнитолог и лесовод (в год рождения поэта он занимал должность попечителя Малодербетовского улуса Калмыцкой степи), привил сыну понимание окружающей природы и интерес к научным наблюдениям, первые навыки работы натуралиста. С детства Хлебников вел фенологические записи, собирал фаунистические коллекции, позже участвовал в научных экспедициях в Дагестан и на Урал.
С другой стороны, благодаря матери Екатерине Николаевне Вербицкой, историку по образованию, он, как и его братья и сёстры, очень рано почувствовал вкус к литературе, живописи, музыке и в особенности к истории. В последних классах гимназии и в первые годы занятий на физико-математическом факультете Казанского университета, куда он поступил в 1903 году, Хлебников изучал математику, биологию, физическую химию, кристаллографию, увлекался философией Платона, Лейбница, Спинозы (которого он штудировал на латыни), занимался японским языком и в то же время пробовал свои силы в живописи и музыке и постоянно писал в стихах и прозе (некоторые свои литературные опыты он в 1904 году посылал М. Горькому). Из этого далеко не полного перечня его интересов понятно, что окончательного своего призвания тогда он ещё не определил.
Все решил 1905 год: поражение России на Востоке и поражение первой русской революции — двойное, и внешнее и внутреннее, унижение родины стало той вехой, от которой Хлебников отсчитывал начало своей сознательной творческой жизни. Мы бросились в будущее ‹...› от 1905 года, — говорил он, имея в виду неотделимость личных судеб своего поколения от судеб России. Душой он безусловно принимал Тютчева:
Но он и следовал Тютчеву и возражал ему, стремясь именно “умом” понять особенную стать России и найти такой “аршин”, которым можно было бы измерить её судьбы. Отсюда две главные и взаимосвязанные задачи, которые он ставил перед собой и которым посвятил жизнь: изучение природы языка, в мудрости которого он искал выражение народного самосознания, и изучение природы времени, его законов, в том числе и законов исторических судеб России, ибо, говорил он, слово управляет мозгом, мозг — руками, руки — царствами.
Однако если бы его удовлетворяло только исследование, он стал бы языковедом или математиком, историком или физиком. Он же хотел не только постигать живой и сущий в устах народных язык, но и создавать новый язык поэзии, не просто изучать прошлое, но и предсказывать будущее. А это неизбежно вело за рамки существующих наук — в область цельного переживания природы и свободного творчества, тем романтическим путем, который указывал когда-то Фр. Шлегель:
Такое “посвящение” Хлебникову как будто суждено было принять в кругу петербургских символистов, признанным главой которых был Вячеслав Иванов. Он-то больше всего и привлекал Хлебникова, когда тот в 1908 году, вопреки надеждам отца и к сожалению своих профессоров, оставил университетскую науку и отправился в столицу.
Хлебников усердно посещал литературные “среды” в знаменитой “башне” Иванова и «Академию стиха» при новом журнале «Аполлон». В письмах к родным он рассказывал о знакомстве почти со всеми молодыми литераторами Петербурга, с гордостью сообщал о том, что его здесь переименовали в Велимира (славянское имя, приблизительно соответствующее Виктору), что он дважды выступал с чтением своих стихов и что у него находят строки гениальные. Но его ожидало жестокое разочарование. Ни в одном из символистских изданий не появилось ни строчки Хлебникова. И хотя Хлебников вроде бы истово следовал “заветам символизма”, внутренне в этом кругу он оставался чуждым, и его вещи говорили сами за себя.
Даже сейчас в этих видениях, в этих настойчиво повторяющихся мотивах “восстания природы” многое кажется нам чрезмерным и тёмным. Но их подлинное юношеское волнение и восторг перед той могучей, трагической и праздничной первоосновой бытия, которая как бы клокочет и вырывается из-под поверхности благополучного быта начала века, конечно, не могут оставить нас равнодушными.
К 1910 году, когда Хлебников покинул круг символистов, он, по существу, был уже поэтом со своей эстетикой и своим вполне сложившимся художественным методом.
Хлебникова мало привлекала собственно литературная борьба, равно как и роль вождя и мэтра какого-либо направления. И всё-таки он таковым стал. В начале десятых годов вокруг него собрались молодые художники и поэты, позднее получившие прозвище футуристов. (Хлебников слово ‘футуризм’ не употреблял и называл своих друзей будетлянами.)
Первым произведением Хлебникова, увидевшим свет, было «Искушение грешника», напечатанное в октябре 1908 года в журнале «Весна» благодаря Василию Каменскому, служившему там секретарём редакции. Через него Хлебников сблизился с Давидом Бурлюком и его братьями, затем с музыкантом и художником Михаилом Матюшиным и его женой, художником и поэтом Еленой Гуро. В апреле 1910 года вышел их совместный сборник «Садок судей», с которого, собственно, и начиналось футуристическое движение. Позже к ним присоединились Бенедикт Лившиц, Кручёных и Маяковский. И все они так или иначе опирались на поэтическое творчество Хлебникова, находя в нём то выражение нового мироощущения, которое представлялось им прорывом к “искусству будущего”.
Не только словотворчество Хлебникова, но весь звуковой, ритмический и интонационный строй его стиха, ориентированного на разговорную речь, стал основным источником поэтики русского футуризма — как указывал Н. Харджиев. А сквозной хлебниковский сюжет “восстания природы” оказался магистральным сюжетом всего направления. Вспомним хотя бы его развитие в «Трагедии», а также в «Мистерии-буфф» и «150 000 000» Маяковского. Причём и тот социальный смысл, который вкладывал в этот сюжет Маяковский, был уже заложен у Хлебникова:
Однако для широкой публики, для которой футуристов в годы их громокипящих литературных выступлений представляли главным образом скандально известные имена Игоря Северянина, Давида Бурлюка или Кручёных, а часто и для самих участников движения Хлебников оставался в тени. „Его тихая гениальность, — много лет спустя признавался Маяковский, — тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом”. Тем не менее именно творчество Хлебникова представляло собой ту невидимую “ось вращения”, вокруг которой шумело “новое искусство”. Ситуацию эту хорошо рисует один эпизод на диспуте «О современной литературе» в 1913 году из воспоминаний Кручёных: „Особенно запомнилось мне, как читал Маяковский стихи Хлебникова. Бронебойно грохотали мятежные
Самого же Хлебникова при этом не было. Да и вообще трудно представить его “работающим на публику”. К этому времени уже вполне сложился его облик поэта вне быта и жизненных польз, удивлявший современников не меньше, чем его слово. Михаил Матюшин вспоминал:
Он мало заботился об издании своих произведений, считая, что если вещь написана, она уже непреложно существует, и большей частью предоставлял все практические заботы своим друзьям. Но когда дело шло о принципиальных вопросах искусства, о взаимоотношениях литературы и действительности, он всегда оказывался в самом центре и находил решение ясное и твёрдое. Так, возражая требованиям “искусства для искусства”, он писал:
Сейчас, когда литературные распри начала века стали уже далёкой историей, мы можем взять в руки, скажем, футуристический сборник «Пощёчина общественному вкусу» (1912), вызывавший в своё время столько возмущений, и перелистать его страницы. Мы увидим, что сборник чуть ли не наполовину заполнен произведениями Хлебникова, бóльшая часть которых давно уже стала широко известна, — поэма «И и Э», «Бобэоби», «Гонимый — кем, почем я знаю?.. », «Кузнечик».
На последней странице сборника без всяких объяснений была напечатана таблица с датами великих государственных потрясений, причём последней датой стоял — 1917-й. Эта таблица была результатом математических расчётов поэта, изложенных в книге «Учитель и ученик» (1912). Сказать печатно, о каком государстве идёт речь, было, разумеется, немыслимо, но из сохранившихся черновых записей Хлебникова ясно, что речь шла о России. Позже, в 1919 году, он называл это предсказание, подтверждавшее, как казалось ему, открытые им законы времени, блестящим успехом, но, добавлял он с какой-то полувопросительной интонацией, конечно, этого мало, чтобы обратить на них внимание учёного мира.
Книга Хлебникова «Учитель и ученик», которую Маяковский назвал „фантастико-поэтической”, была действительно программой “нового искусства”. Друзья Хлебникова видели в ней прежде всего поэзию. Да и сам Хлебников называл себя художником числа вечной головы вселенной. И Маяковский в поэме «Облако в штанах», следуя Хлебникову, опережал его на год в своих поэтических пророчествах: „‹...› в терновом венце революций грядет шестнадцатый год”.
Всё, происходившее тогда в искусстве, в новой живописи и поэзии, казалось подтверждением их ожиданий:
Однако с началом мировой войны и живопись и поэзия отодвигались далеко на задний план. „Отвращение и ненависть к войне... Интерес к искусству пропал вовсе”, — вспоминал об этом времени Маяковский. Хлебников же полностью был погружён в изучение законов времени. В своих книгах «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне» и «Время мера мира», изданных в 1915 и 1916 годах, он изучал прошлые войны человечества, чтобы предсказать ход текущей войны и таким образом показать ее бессмысленность. Всей силой своей гордости и своего самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение её плотника. Но можно ли было это сделать за письменным столом учёного, одиноким усилием ума?
Призванный в апреле 1916 года в царскую армию, он оказался в запасном полку. Но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишённое разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я ещё жив, а на войне истреблены целые поколения ‹...›. Шаги, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий ‹...›. Таким образом, побеждённый войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. Так писал он доктору Н.И. Кульбину. С его помощью поэту удалось добиться временного освобождения. Окончательно его освободил 1917 год.
Это было, — вспоминал Хлебников, — сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном полку ‹...› я испытывал настоящий голод пространства, и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими Мир, Весну и её дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков — Киев — Петроград. Зачем? я сам не знаю. Его стихи тех дней полны ощущения небывалой и безграничной свободы:
В то время он был одержим утопической идеей создания общества Председателей Земного Шара, задуманного еще в начале 1916 года. И в жизни и в творчестве он всегда был прежде всего поэтом. И, разумеется, общество Председателей Земного Шара в конечном счёте было не чем иным, как поэтическим произведением Хлебникова.
С лета 1917 года начинались самые трудные и, может быть, лучшие годы поэта, годы тяжких испытаний, которые он прошёл вместе со всей страной, и годы самых значительных его творческих достижений.
Иногда говорят об отрешённой философской созерцательности поэзии Хлебникова, далёкой будто бы от злободневной действительности. Это неверно. Он хотел видеть революцию и гражданскую войну в их важнейших поворотных событиях. И когда говорят о каких-то его бесцельных и необъяснимых странствиях, о каких-то его внезапных “отлётах в пространство”, забывают, что почему-то всякий раз он оказывался там, где происходило что-то знаменательное. Может быть, он и сам не всегда отдавал себе в этом отчёт, но он хотел своими глазами видеть ежедневно совершающуюся историю, видеть её обнажённый механизм.
В октябре 1917 года он был в Петрограде, и это описано в его воспоминаниях «Октябрь на Неве» и поэме «Ночной обыск». В ноябре 1917 года он был свидетелем боёв в Москве, и это описано в его поэме «Сёстры-молнии». В 1918 году он видел движение революции на Волге, в Астрахани, и это описано в его воспоминаниях «Никто не будет отрицать того... » и поэме «Ночь перед Советами». В 1919 — 1920 годах он пережил все превратности гражданской войны на Украине, поход Деникина на Москву и его разгром, и это описано в его рассказе «Малиновая шашка», поэмах «Каменная баба», «Полужелезная изба... » и «Ночь в окопе». В 1920–1921 годах он был на Кавказе и в Персии, куда его особенно влекли начинающиеся освободительные движения на Востоке, и это описано в его поэме «Труба Гуль-муллы». И всё это помимо множества стихотворений и таких поэм, как «Война в мышеловке», «Азы из узы», «Берег невольников», «Горячее поле», «Настоящее», «Ладомир». Причём все эти годы он постоянно работал в различных газетах, в бакинском и пятигорском отделениях РОСТА, в Политпросвете Волжско-Каспийского флота. Даже из этого сопоставления хорошо видно, что творчество его неотделимо от жизни. Стихи, — говорил он, — это всё равно, что путешествие, нужно быть там, где до сих пор ещё никто не был. Но и странствия его, скажем мы, несмотря на все тяготы и лишения, были самой настоящей поэзией. Лучше всего мы понимаем это, читая его историческую повесть «Есир», написанную в начале гражданской войны, на переломе 1918 — 1919 годов. Действие её происходит в XVII веке, в эпоху Разина, когда, как и в дни Хлебникова, дух свободы пылал над всем миром. И в её герое, “очарованном страннике” Истоме, мы угадываем душу самого поэта и душу всего человечества, ищущего правды, свободы и обновления.
Произведения Хлебникова последних лет полны точных примет времени. Лица, события, даты записаны в них с фактографической тщательностью. И как будто прямо слышны голоса и песни улицы как, например, в драматической поэме «Настоящее»:
В те годы вся Россия, как никогда, превратилась в какую-то первородную стихию слова. И поэт в этом взрыве глухонемых пластов языка находил подтверждение своих словотворческих опытов. Он замечал, как в октябрьские дни странной гордостью звучало слово ‘большевичка’, ему нравилось, как Петроград — совсем в духе его поэтики — переименовывался в Ветроград, его восхищало характернейшее слово, и даже не слово, а всеобъемлющий клич эпохи — даёшь! — и, как отмечают историки языка, именно Хлебников впервые ввёл его в литературу.
Как же тут говорить об отрешённости его поэтического слова?
Однако основания для такого взгляда на поэзию Хлебникова всё-таки есть. Поэзия ведь всегда говорит нам не о фактах, но о смысле этих фактов. Хлебников, как поэт эпического склада, с его стремлением всюду видеть не просто вещи, людей, события, но именно природу этих вещей, людей, событий и всегда находить их всеобщие связи и закономерные отношения, был в своем поэтическом творчестве совершенно конкретен и непосредствен и в то же время тяготел к предельной обобщенности символа.
Он и на свою судьбу смотрел как бы отрешённым взглядом. Когда в декабре 1921 года Хлебников вернулся в Москву, он уже знал, что жизнь его подходит к концу. Люди моей задачи, — печально и спокойно говорил он, — часто умирают тридцати семи лет. Весной 1922 года, тяжело больной, он отправляется вместе с художником Петром Митуричем в Новгородскую губернию. Там в деревне Санталово 28 июня 1922 года Хлебников умер на тридцать седьмом году жизни. Его последним словом в ответ на вопрос, трудно ли ему умирать, было: Да.
Произведения Хлебникова внутренне настолько тесно связаны друг с другом, что при всём их тематическом, жанровом, стилистическом многообразии все они, от самых мелких стихотворений до больших поэм и повестей, совершенно естественно читаются как части какого-то единого давно задуманного целого. Недаром он много работал над созданием такого нового жанра — сверхповести (по его определению) в «Детях Выдры», написанных в 1912 году и завершавших ранний период, и «Зангези», законченном в начале 1922 года и в подводившем итог всего его творчества. Но и без этих сверхповестей всё написанное им складывается в сюжет единой книги. Отсюда, кстати сказать, и возникает ошибочное представление о неизменности его художественного метода. В действительности характер его творчества, как и его мировоззрение, менялся, и весьма значительно, хотя основной предмет его размышлений и художественных исследований оставался постоянным. Этот сюжет можно было бы назвать историей сотворения мира, подобно старинному русскому «Стиху о Голубиной книге», с той принципиальной разницей, что у Хлебникова речь идёт не о единственном и законченном, раз навсегда совершившемся творении, а о многократно повторяющемся и даже непрерывном превращении природы в человеческую историю.
В раннем творчестве, в особенности в поэмах и драматических произведениях, преобладают сюжеты, в той или иной мере фантастические, поданные в сказочно-шутливом, ироническом духе каких-то языческих идиллий («Снежимочка», «И и Э», «Шаман и Венера») или чаще, наоборот, в духе апокалиптических видений и пророчеств («Маркиза Дэзес», «Журавль», «Змей поезда», «Гибель Атлантиды»). Но это были всего лишь откровения и сны, оправданные только личными переживаниями поэта, его предчувствиями и стихийной тревогой. В этом смысле его раннее творчество можно назвать романтическим. Неприятие действительности заставляло его искать опору в образах далекого героического прошлого (как в рассказе «Смерть Паливоды») или в образах людей природы (как в рассказе «Николай»), но и они казались ему обречёнными на гибель вместе с дикой и вольной природой.
И с той же необходимостью его позднее творчество эпохи мировой войны и революции сближалось с действительностью. Дело было не только в его стремлении к наибольшей открытости и прямоте поэтического слова. Гораздо существенней было то, что сами исторические события, казалось, воплощали в реальности его поэтические прозрения. Многие образы его ранних произведений, прочитанные в свете новой действительности, открывали новый, но как бы изначально заложенный в них смысл. История скифского царя в маленькой трагедии «Аспарух», предающего свой народ и свою веру, восстающего на саму природу (он требует, чтобы его конь скакал быстрее света, обгоняя собственную тень) и гибнущего в сверхчеловеческом одиночестве, как будто предсказывала реальную судьбу русского царя:
Для Хлебникова вообще суть поэтического вдохновения и заключалась в таком предвидении и предварении: Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, я понял, что родина творчества — будущее.
Поэтому, когда вместо прежних символических видений и пророческих снов сами исторические события становились действительным “откровением в грозе и буре”, живой и близкой мифологической реальностью, в которой, если воспользоваться словами Мишле из его «Истории французской революции», „всё было возможно ‹...› будущее стало настоящим ‹...› то есть времени больше не существовало, была вспышка вечности”, — творчество Хлебникова оказывалось прямым отражением действительности. Это реализм совершенно особого рода, не исключающий фантастики и символики, — его можно было бы назвать мифологическим реализмом. Таковы в первую очередь его “ночные” поэмы — «Ночь в окопе», «Ночной обыск», «Ночь перед Советами»), в которых ночная образность раскрывает высокую просветлённость сознания.
В поэме «Ночь перед Советами» сюжет строится так, что за домашней, человеческой враждой мы видим непримиримый социальный конфликт, за которым в свою очередь открывается глубочайшая антиномия истории и природы. И за образами барыни и бабы встают два образа — Собакевны и Прачки, два образа природы. Но если в образе Собакевны воплощена милостивая, вселюбящая, страдающая, рождающая и кормящая природа-мать, то в образе Прачки — разрушающая, стихийная и в то же время очищающая и обновляющая природа космических потрясений и переворотов. Образ Прачки, который мы встречаем и в других поэмах Хлебникова, становится обобщающим образом революции — прачки мировой истории. Понять его глубину и мощь можно только в двуединстве с образом Собакевны. Тогда в Прачке, сквозь образ Собакевны, мы увидим воплощение возмездия за извращенную и попранную природу, а в Собакевне, сквозь образ Прачки, — окончательное торжество очищенной и обновлённой природы, как бы возвращённой к изначальной гармонии мира.
Часто подобную природную символику Хлебникова толкуют как призывы к историческому возврату в прошлое человечества. На самом деле вся его поэзия как раз говорит о будущем и о движении вперёд. Хлебников был убеждён, что никакое развитие невозможно без возвращения, однако оно мыслилось им не как движение вспять, а как возвращение человека и человечества к самому себе, к своей изначальной природе. Лучше всего об этом говорит его поэма «Ладомир»:
Как казалось поэту, только открывая глаза на природу, человек открывает глаза на себя, на свою историю. Таким “открытием” и была эта поэма. Читая её, постоянно задаешь себе вопрос: а что же такое Ладомир? Одни представляют его какой-то поэтической страной, другие — каким-то новым, созданным поэтической фантазией божеством. Может быть, и страна, может быть, и божество, может быть, и многое другое, потому что смысловое богатство его кажется неисчерпаемым. Если все-таки следовать хлебниковскому строю мысли, то, вероятно, можно было бы сказать, что Ладомир — это и есть такое слияние человека и человечества с природой, когда человек становится всеобъемлющим, как природа, а природа — единой вселенской личностью.
И вот что еще замечательно. Это древнее славянское слово Ладомир, кажущееся нам хлебниковским словотворчеством, на самом деле только возрождено и обновлено поэтом. Таково же и вообще его отношение к древнему искусству. Для Хлебникова, скажем, «Слово о полку Игореве» было настолько же в прошлом, насколько и в будущем.
Некоторые современники давно обращали внимание на преемственный и, вместе с тем, обновляющий характер хлебниковского творчества. Таким оно открывается и нам, возвращая в своём движении вперёд к первоистокам и первоначалам поэзии.
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 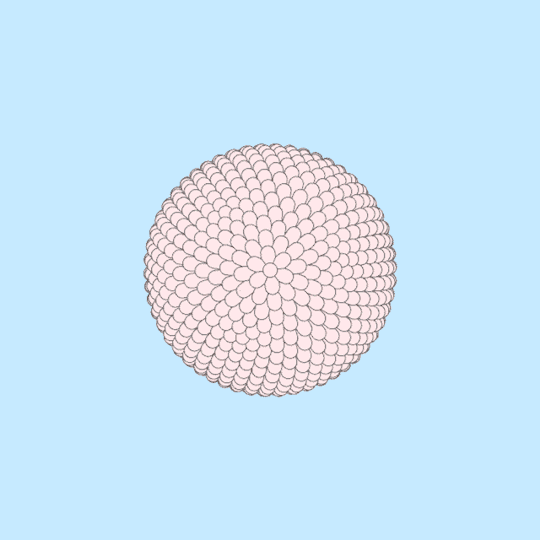 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||