






Закономерная избирательность предметов анализа не должна лишать исследователя общего взгляда, углубления в магистральные закономерности замысла и художественной логики творения и, следовательно, давать повод что-то отдельно рассматривать, а что-то сознательно исключать из размышлений и разборов.
Так, при подобном дискретном подходе к «Детям Выдры» — произведению в достаточной степени сложному, насыщенному “вселенской” символикой, превращениями и перевоплощениями образов и персонажей, когда Сын Выдры выступает в различных исторических, национальных, предметно-вещных и человеческих ипостасях (например, утес выступает в образе Прометея, а Александр Македонский — в образе Низами, и все они могут быть названы Детьми Выдры) — при таком “отдельном” чтении возможны неверные толкования всей поэмы в целом.1![]()
Для исследователя темы “Хлебников и Восток” весьма заманчива, скажем, идея объявить Детей Выдры чисто восточными персонажами: в поэме есть, на первый взгляд, основания для такого предположения. В самом деле, в первые же дни сотворения мира в нем появляются у Хлебникова духи с косыми монгольскими глазами; один из них так и назван маленьким монголом (2, 142–143). Можно опереться и на высказывания Хлебникова о поэме и ее героях: В «Детях Выдры» я взял струны Азии, ее смуглое чугунное крыло ‹...› Восток дает чугунность крыл Сына Выдры ‹...› Я задумал построить общеазийское сознание в песнях ‹...› и т.п.
Соблазн свести поэму лишь к “азиатскому” осмыслению ее важнейших характеров, основанному на автономном прочтении отдельных, расчлененных художественных структур, может сыграть злую шутку с исследователем. Так произошло с западногерманским славистом С. Мирским, автором работы «Восток в творчестве Велимира Хлебникова». Он предпочитает избирать из «Детей Выдры» и других произведений поэта те исторические, мифологические, литературные аналогии и параллели, которые укладываются в сконструированную им схему. Вот эта схема: Дети Выдры — существа, представляющие Восток: Дочь Выдры появляется как сестра духов с раскосыми монгольскими глазами, она, освобождая Прометея от цепей, как пушкинская черкешенка — Пленника, имеет признаки восточной женщины. Может быть, Хлебников вдохновляется здесь тем, что супругу Прометея звали ‘Азией’. Таким образом, фантазирует далее С. Мирский, „как прикованный цепями к скале на Кавказе герой греческой мифологии, так и находящийся в плену в кавказской деревне русский офицер получают свободу из рук восточной женщины ‹...›”.2![]()
Для чего нужна С. Мирскому эта параллель (весьма сомнительная уже потому, что пушкинский герой отнюдь не Прометей)? Для того, чтобы провести идею “ориентализации” греческого мифа, в «Детях Выдры», ибо Дочь Выдры, по С. Мирскому, — еще и Афродита. Немецкий славист создает свой миф: он цитирует слова героини Хлебникова и по-своему их интерпретирует, будучи весьма категоричным в тех случаях, когда даже сомнение было бы полезным. Вот слова Дочери Выдры:
После этого она освобождает Утес-Прометея; ремарка Хлебникова: Освобождает его, перерезая, как черкешенка, цепь. Пушкин.
С. Мирский долго серьезно доказывает бесспорное: то, что в монологе Дочери Выдры речь идет именно об Афродите — супруге хромоногого Гефеста, изменившей ему с Аресом. Но при этом, не стремясь уловить подлинный смысл текста, а исходя из априорной конструкции, немецкий славист отождествляет Дочь Выдры с Афродитой. Однако в монологе, приведенном выше, для этого нет никаких оснований. Походить бы я хотела ‹...› — говорит героиня Хлебникова, и здесь, конечно же, нет и намека на “тайное родство”,3![]()
С. Мирский же, выдавая обычное, по сути, житейское, чисто женское (может быть, индивидуализирующее Дочь Выдры) начало за некий духовный знак, делает эту безобидную цитату отправной точкой целого исследования о „перенесении ориентализованного греческого мифа в чисто русский контекст”,4![]()
![]()
![]()
![]()
Вся эта искусственно выстроенная цепь видимых ассоциаций рассыпается, как только мы прикасаемся непосредственно к тексту поэмы Хлебникова — живому, целостному, не препарированному рукой автора “парадигматических” экзерсисов, восходящих к компаративистским догмам, давно уже забытым нашим сравнительно-историческим литературоведением.
Первые же фразы «Детей Выдры», напоминающие авторские ремарки к сценическому действию, мгновенно ломают схему С. Мирского:
Если следовать логике и конструкциям С. Мирского, то рассуждения неумолимо приведут нас к следующему силлогизму. Поскольку косые монгольские глаза, по Мирскому, воплощают в себе “восточное” начало, стало быть белые плащи должны символизировать начало “западное” — иначе зачем Хлебников употребляет здесь выделенный нами противительный союз ‘но’? В этом случае к белым плащам легко присовокупить и белые крыла духов (2, 142), а также тот факт, что Сын Выдры, бросаясь с копьем на три солнца — красное, черное и белое, — уничтожает два первых, оставляя для Вселенной лишь одно — белое солнце. Тогда Сын Выдры — представитель не Востока, а Запада: ведь он говорит, показывая на белое солнце: — Это я! (2, 144). Стало быть, и Дочь Выдры — сестра его — тоже принадлежит не к Востоку, а к Западу...
Конечно, и это “построение” так же обманчиво и искусственно, как и то, которое предлагает нам С. Мирский. В том-то и суть, что Хлебников не стремится к установлению точных национально-конкретных координат характеров своих героев: его герой — человечество, естественно, неоднородное, разнонациональное, противоречивое (вот откуда “бессмысленный” противительный союз в экспозиции поэмы!), но сильное своим Прометеевым духом и стремлением к свету, огню, будущему. Поэтому и белые плащи, и монгольские глаза,8![]()
Никто из исследователей не задумывался над смыслом заглавия огромного эпического произведения Хлебникова. Почему оно называется «Дети Выдры»?
У Хлебникова Выдра — одна из мимолетных героинь поэмы, именуемая Матерь Мира (2, 143). Почему? Может быть, потому, что выдра — существо “двуединое”: она живет и в воде, и на земле.
Вспомним образ хлебниковского праисторического существа (тоже своеобразного предка будущего живого мира) из стихотворения «Вам»:
Вот эти две “половинки”, символизирующие, видимо, единство различного (а именно это диалектическое единство лежит, по Хлебникову, в основании понятия “Земля” как неделимого западно-восточного мира), и определяет ту роль, какую играет в поэме Хлебникова о Западе и Востоке, о их слиянном контрасте и контрастном слиянии, образ Выдры — условный образ Матери Мира. Не случайно генетическая символика его подчеркнута прописными буквами: это — начало начал Земли, ее племен — ее Детей, с первых дней не просто существующих, но пишущих своими жизнями и деяниями Историю — движение и сосуществование связанных между собой и постоянно пересекающихся в своем развитии народов Востока и Запада.
Как обычной выдре в равной мере “принадлежат” Вода и Земля, так и художественным персонажам Хлебникова — Детям Выдры — в одинаковой степени дороги разнонациональные, но общечеловеческие ценности: жизнь, свобода, красота, — символизированные в многочисленных ипостасях этих героев, среди которых и Прометей, и сын древнего орочонского племени, и азербайджанский поэт, и девушка, сходная по своим порывам с пушкинской черкешенкой, и сам Хлебников. Все это герои не только реальные, но и мифологические; репрезенты не только разных народов, но и различных убеждений, взглядов, норм поведения, не позволяющих категорично идентифицировать их. Однако для поэта важно в них прежде всего общее гуманистическое начало, неразделимость “западного” и “восточного” в их сознании. Порой это противоречит исторической биографии того или иного реального лица, ставшего героем «Детей Выдры»; но здесь речь идет о творчески-индивидуальном, хлебниковском наполнении упомянутых образов.
Так можно объяснить символику названия и метафорическую условность всей характерологии поэмы, суть которой наиболее точно раскрыта в уже известном нам высказывании из «Свояси», где «Дети Выдры» определены как сложная постройка, части которой рассказывают о Волге как реке индоруссов и используют Персию как угол русской и македонской прямых ‹...› (2, 7).
Это высказывание помогает глубже постичь не столько метафорическую, условную, символическую, сколько реальную, историческую основу всей ономастической системы и образной структуры поэмы, рисующей Русь, Азию, Землю — удивительный хлебниковский “Востокозапад” — в “вертикальном” разрезе, в его смоделированном по подобию мифа движении от доисторического прошлого, через быт и героику, через войну и мир к светлому грядущему, смысл, прометеевский дух и огонь которого уже ощущает и воплощает один из Детей Выдры — сам Велимир Хлебников.
Вот почему так вселенски масштабен этот образ в начале 3-го паруса «Детей Выдры»: Сын Выдры думает об Индии на Волге; он говорит: „Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукой осязаю каменные кудри Индии”.
Смысл экспозиции 3-го паруса (она воспринимается как вступление-ремарка к следующим за ней стихам) символичен. Здесь объединены три географических понятия: Русь (символизируемая, как всегда у Хлебникова, Волгой), монгольский мир и каменные кудри Индии. Сын Выдры, чья голова расположена на Волге, рука — на Гималаях, а ноги — где-то за пределами Сибири, в монгольских степях, воссоздан, вернее, воображен Хлебниковым таким образом, что в нашем сознании возникает словно гигантская, похожая на каменных идолов с острова Пасхи, на Гулливера с иллюстраций Жана Гранвиля, только еще гораздо более огромная скульптура, воплощающая в себе ту идею величия духовного единства разнонациональных миров, перед которой все остальное, включая и пространство, и время, и представления о земном шаре как о конгломерате отдаленных друг от друга континентов или стран, — попросту меркнет, кажется мелким и “лилипутски” незначительным.
Конечно, для создания таких масштабных духовно-художественных “скульптур” необходимо было восприятие действительности с точки зрения древнего мифопоэтического сознания. Но не менее важным являлось пересечение этого сознания с будущим — с общей социально-исторической перспективой развития человечества. Лишь с ее высоты можно было разглядеть на карте разноплеменного западно-восточного мира не только “ручеек” Волги, каменные кудри Девы Индии, чаши монгольских степей, но и гигантскую фигуру “объединяющего” их Сына Выдры — титана Прометея.
Велимир Хлебников, который далеко не все еще успел осмыслить за свою короткую жизнь художника, все же к началу 910-х годов XX века уже поднялся в «Детях Выдры» на эту космическую высоту; хотя он малопродуктивно вычислял будущее математически, ему во многом удалось представить его исторически: он обладал глубокой интуицией художника-гуманиста, великим провидческим даром, восходящим не только к знаниям — к мифологически осмысленной памяти человечества, — но и к той тревоге, которая, как “трещина”, проходит через сердце художника.
Знаток истории Запада и Востока, Хлебников нередко весьма вольно обращается с отдельными историческими лицами: не только переносит их в места, где они не бывали, и во времена, когда их еще или уже не было в живых, но и вообще произвольно трансформирует, преображает их, фантастически трактует их деяния, качества, личностные и реальные возможности.
Особенно часто происходит это у Хлебникова с Александром Македонским. В стихотворении «Вам», как мы помним, он возникает на Кавказе, в 3-ем парусе «Детей Выдры» — на Каспии, в нынешнем Карабахе, где Александр преображается в Сына Выдры, в освободителя страны Берда’а и т.п.
Наблюдения позволяют прийти к выводу, что “произвол” Хлебникова имеет глубокие культурно-художественные корни, восходящие к мифологии, коранической традиции и поэтической классике Востока. Исследователь отмечает, что если в «Бундахишне» Александр Македонский еще „дерзкий завоеватель”, то позже, „с распространением ислама и превращением его в господствующую религию, легенды иранских народов превратили его в идеализированный персонаж. Классическая литература на фарси (Фирдоуси, Низами, Джами и др.) изображает его справедливым шахом иранской крови”.9![]()
Хлебникова не интересовали “национальные свойства” крови персонажа Фирдоуси и Низами, Джами и Навои. У авторов «Шах-наме», «Искендер-наме», «Хирадномаи Исканадари», «Стены Искандера» и других представителей восточной классики Хлебников (ему, возможно, был известен не только Низами) избирает для воплощения и “ответа” лишь одну — главную для него — идею: мысль о национально-исторической справедливости и равенстве всех племен, народов и наций, всех людей Земли.
А. Бертельс пишет об Александре Македонском — герое Низами:
Подобная трактовка весьма близка к тем идеям, которые стремился художественно выразить Хлебников в одновременно “исторических” и “внеисторических” персонажах своих поэм и стихотворений. Концепция Низами и других классиков Востока позволяла вводить элементы фантастики (которые есть всегда элементы идеала) в историю человечества, экстраполировать художественный мир поэтов Востока, отраженный в образе историко-мифологического персонажа, не только на современные исторические процессы, но и на будущее, воплощенное как уже свершившееся.
Известно, что великие поэты Востока в своих эпопеях нередко подражали друг другу, вернее, продолжали друг друга. Еще точнее формула “поэтического ответа” предшественнику.11![]()
![]()
В «Детях Выдры» образ Александра Македонского получает все то же, казалось бы, внеисторическое, условное, фантастическое звучание, что и в стихотворении «Вам»: хлебниковский Искандер,13![]()
![]()
Именно поэтому Искандер не просто становится одним из главных персонажей 3-го паруса поэмы Хлебникова, расправляющимся с захватчиками и освобождающим от уничтожения народ Берда’а, но и выражает магический духовный потенциал, который несет в себе каждая ипостась магистрального образа поэмы — Сына Выдры, фантастически трансформирующегося в то или иное лицо истории, в мифологический или литературный персонаж и воплощающего гуманистический дух единства разных эпох и народов.
Эта наиболее важная функция образа хлебниковского Искандра устанавливается прежде всего при сопоставлении художественного текста с ее экспозиционной ремаркой. В 3-ем парусе рассказано о том, как царь Бердай и Нушабэ призывают Искандра спасти Берда’а от русов (Царь Искандр! Искандр, внемли // Крику плачущей земли... // Ты, прославленный людьми, // Дерзость руссов покарай. // Меч в ладонь свою возьми, // Прилети с щитом в наш край!; 2, 150). Выполняя эту просьбу, убивает вождя русов Кентала и освобождает Берда’а и Нушабэ именно Искандр — Александр Македонский.
В прозаическом же комментарии-зачине 3-его паруса сюжет интерпретируется самим Хлебниковым так: Сын Выдры слетает с облаков, спасая от Руссов Нушабэ и его страну (2, 148).
Подобное отождествление одновременно объясняет и смысл художественного анахронизма в «Детях Выдры», и нежелание поэта связывать себя канвой реальных исторических событий на побережье Каспия в X–XII вв., и уход от фабулы известных поэтических источников Востока и их прозаических интерпретаций — в частности, как мы убедимся ниже, и от некоторых линий поэмы Низами «Искендер-наме» и от ее изложения у различных русских комментаторов.
На наш взгляд, в 3-ем парусе «Детей Выдры» Хлебников, используя образ Александра и некоторые коллизии исторических и художественных источников, строит свой сюжет и свой характер Искандра, соотносящийся прежде всего с собственным восприятием бытия — его философии и смысла, раскрытых, в частности, и через историю взаимоотношений Запада и Востока. Поэтому в поэме абсолютно условны и подчинены лишь творческой фантазии художника и Александр, и герои Низами, и арабские историки Массуди и Ибн-Фадлан (у Хлебникова — Мессакуди и Иблан), и вождь русов Кинтал, погибающий, вопреки известным сюжетам эпической поэзии Востока, от руки хлебниковского Искандра...
В чем же смысл очень сложного и насыщенного неожиданными и прерывающими друг друга образными пластами и сюжетными ходами 3-го паруса «Детей Выдры»?
С еще большей, чем в стихотворении «Вам», последовательностью Хлебников проводит здесь свою главную тему: необходимость человеческой, духовной, естественной для людей связи между народами и племенами Земли; гибельность и смертоносность межнациональных распрей, войны и насилия вообще.
Конечно, важно, что полярные образы и символы идей введены Хлебниковым в русло национального (западно-восточного) противостояния. Это, во многом соответствуя подлинной истории человечества, определяет более высокий, интернационально-гуманистический уровень осмысления бытия в «Детях Выдры». Каждый реальный или вымышленный персонаж, каждая метафора или эмблематический знак, даже при их известной абстрагированности от конкретных событий, обретают социально-исторический смысл, лишь будучи воспринятыми с точки зрения общей идеи поэмы — культурного единства человечества, Запада и Востока.
Вместе с тем, необходимо отметить, что историзм Хлебникова носит не “летописно”-точный и не абстрактно-романтический, а социально-философский характер. Осознавая историю и как противоборство “западного” и “восточного”, фиксируя отдельные моменты их борьбы, поэт постоянно ощущает бессмысленность этого извечного столкновения двух национальных миров и неизбежность их движения навстречу друг другу. Поэтому магистральные линии пересечения полярных сил, получая в поэме контрастное западно-восточное освещение, проходят главным образом не по этому, разнонациональному, а по еще более существенному для Хлебникова философско-историческому водоразделу, связанному с извечным противостоянием мира и войны, естественно ассоциирующихся в 3-ем парусе «Детей Выдры» с поэтической символикой жизни и смерти.
Сложная структура главы дает возможность проследить константные духовно-эстетические связи всех этих сцепленных между собой и пересекающихся линий, проблем и идей, позволяя уловить движение художественного сознания Хлебникова от национального к общечеловеческому, от истории к современности (не забудем, что «Дети Выдры» создавались в преддверии мировой войны).
Внутренних сюжетных линий 3-го паруса множество. Тем не менее, они не заслоняют два главных повествовательных пласта главы. Один — движение арабского каравана из Персии в государство (город) на Волге — Булгар. Второй — “воспоминания” Иблана, слагающего песнь о сражениях Александра и Кентала (Искандер-Намэ в уме слагая // Он пел о руссах золотых). Композиционно вторая фабульная струя расположена как бы в сердцевине первой; но развиваются они не абсолютно дискретно, а порой пересекаясь: условно-исторический “рассказ в рассказе”, восходящий к «Искендер-наме», постоянно возвращает нас в иное художественное пространство и время — к мирному каравану, как бы со стороны и с высоты своей нравственно-мудрой позиции взирающему с ужасом и осуждением на гибель всех, кто избрал путь не мира, но меча, не жизни, но смерти.
Образ смерти, аллегорически воплощенный во внесюжетном “персонаже” — зловещем филине, — появляется уже в зачине главы:
Этому мрачному символу предшествует экспозиционная фигура повешенного ушкуйника — волжского разбойника и грабителя, качающегося на дереве.
На первый взгляд, совершенно не связанные с двумя главными сюжетными линиями, эти эмблематические образы смерти как бы композиционно предваряют не только “древнеисторический” пласт и мотив гибели захватчиков-русов, но и весь основной конфликт контрастных сил бытия, человечества в художественном сознании Хлебникова.
В этом же направлении развивается и заключительная часть главы, где появляется некий неназванный и как будто оторванный от предшествующего хода событии лерсонаж (он, тот), каким-то образом связанный с умирающим от лихорадки индийцем, но — главное — символически связанный с движением идей 3-го паруса. Именно в его руках неожиданно (но эстетически закономерно) возникает меч — новая эмблема вечно “продолжающейся битвы” и знак смерти:
Мрачная образно-стилистическая гамма экспозиции и концовки: скорбно дующий ветер, раскачивающийся труп ушкуйника; сон-трава, в стиле народных сказок символизирующая смерть; хохот филина с кровавыми глазами; гнев и злоба неведомого героя, размахивающего над головой смертоносным оружием; образ гроба, проходящий через весь финал главы, где ощутимо дыханье смерти, — все это явственно соотносится с тем внутренним, но композиционно разомкнутым пластом 3-го паруса, где, используя отдельные мотивы эпопеи Низами «Искендер-наме», Хлебников также последовательно воссоздает картины смерти, которую несет с собой война. В начале “песни” Иблана возникает описание ужасов набега русов, боя смертный поединок, фигуры отданных в рабство девушек — скованных богинь, трагические краски мрака и огня (черная тьма священных рощ, красней соломы гибнут белые хоромы, кладбища). Затем в эпических тонах воспето сражение Искандра и русов; и здесь вначале два славянских воина убиты копьем иранского богатыря Зоревенда, в свою очередь умерщвленного вождем русов Кенталом. Но и сам он погибает в бою с Искандром, и его смерть в художественном воплощении Хлебникова — экспозиция не просто сюжета о поражении русов, посягнувших на мирную страну Берда’а, но страшной панорамы гибели всех, кто подъемлет меч войны — на Западе и на Востоке. Эта панорама напоминает апокалиптические метафоры, ставшие обиходными в языке и стилистике XX века (“горы трупов”, “моря крови”)15![]()
Вместе с тем мы с некоторым удивлением замечаем, что хотя картины смерти “количественно” доминируют в 3-ем парусе «Детей Выдры», они всякий раз неожиданно обрываются или, точнее, перебиваются иными мотивами. Поэт резко переключает не просто размер, стилистику, образную гамму произведения — он противополагает картинам гибели и уничтожения живого мира, мотивам воинственных угроз и кровавых сеч иные образно-содержательные ряды. Такова по сути вся художественная структура главы: вслед за воем скорбного ветра слышится тихий перезвон бубенчиков задумчивых верблюдов; образ соленого от крови моря внезапно, буквально в следующей строке сменяется ясной, почти пасторальной картиной журчащего чистого родника; парадоксально соседствуют, поражая нас своей кажущейся несовместимостью, амбивалентные ритмы, сюжеты, образы, мотивы, пейзажи, все вместе призванные передать и бешеные противостояния человечества, и необходимость их смены великой мудростью сосуществования.
Вот типичный пример такой структуры (в отрывке разным шрифтом выделены резко вступающие в “полемику” строфы и стихи):
Смена художественного строя разнородных структур отрывка — это прежде всего смена стереотипа мышления — не столько “западного” и “восточного”, сколько, скажем так, “воинственного” и “мирного” (хотя мудрое спокойствие размышления о “путях” богов и арабов, образы родника и оазиса, знаменующих райское блаженство, несомненно, восходят к некоторым содержательным пластам коранических текстов).
Условная первая часть, ее обнаженно-резкая стилистика и организация стиха создают необходимое художественное впечатление беспокойной и трагической стремительности, остроты и внезапности ощущений, оборванности связей и непредсказуемости событий. Здесь господствует только жесткая мужская рифма, происходит непрерывная смена как бы “мечущихся” размеров (двустопный, а затем четырехстопный ямб, четырехстопный амфибрахий с усеченной клаузулой); все пространство стиха наполнено глаголами и глагольными формами движения и остановки (пал, мчался, прижав, поникшим, нес, схватили, мчались), а также внезапно сменяющими друг друга или хаотично повторяющимися, но главным образом односложными, краткими лексемами; каждый стих переполнен словами, сталкивающимися резкими звуками, — фоническая структура текста точно выражает его содержательный уровень, особенно заостряясь в многократно повторенном звуке с: (И нес его конь, обнажая ресцы, // Сквось трупы, сквось сонмы смущенных людей. // И руссы схватили коней под усцы, // И мчались на отмель, под парус ладей).16![]()
Условная вторая часть отрывка (“восточная”, или “мирная”), наоборот, в соответствии с замыслом, удивительно плавна и протяжна: ее стилистика определяется господством медлительно-растянутого ритма, наличием женской рифмы, создающей в стихах с единообразным, константным четырехстопным ямбом дополнительную протяженность. Эти строфы характеризуются обилием многосложных, развернутых в пространстве стиха слов, наполненных тремя-пятью гласными (наблюдают, избранников, проводник, арабов, оазису, отдохновенья ); здесь преобладают “спокойные” фонемы (‘а’, ‘и’) — тревожный звук ‘о’ почти отсутствует: соответствующая ему буква в транскрипции произносится как “а” (“вайны”, “радник”, “мардвин”, “правадник”, “маленье”, “атдахнавенья”), и на эту фоническую магистраль здесь и падает чаще всего логическое ударение (“путьах”, “арабы”, “наблюдают”, “избранников”, “журча”, “арабов”, “аазису”, “сказал”, “стан”). Таким образом, вся ритмико-интонационная, лексически почти безглагольная, синтаксически перечислительная структура этих строф отрывка призвана передать состояние покоя, лада, безмятежности — образ мира, столь значительный в общем движении 3-го паруса, равно как и всей поэмы «Дети Выдры».
Обе условные части отрывка повествовательны, фабульны. Однако если в первой (как и везде, где воссозданы картины битвы и гибели) стиль Хлебникова выдвигает на авансцену образ автора, его скрытую, но пронзительную эмоцию боли, предощущение трагедии “сонма людей” — человечества, — то во второй господствует стилевая эпичность; эти строфы, как бы независимо от авторской воли, от эмоций художника “самовыражают” непреложную и закономерную истину самой истории: лишь мир может спасти Землю от разрушения, смерти, крови.
Умелый монтаж разностилевых “кадров”, особое строение главы, — асимметричное с точки зрения архитектоники, астрофическое в плане течения стиха, — все это художественно мощно отражает борьбу идей и концепций “войны и мира” в сознании человечества.
Во внутренней условной “Александрии” Хлебникова, откуда выписан цитированный отрывок (собственно, как и во всей главе), особенно важен сюжетно “выпадающий” и как будто без всякой необходимости введенный непосредственно в ткань фабульной линии “Искандр — Кентал” (т.е. рассказа о гибели) — мотив движущейся жизни, арабского каравана. Собственно, в постоянной перебивке тем войны и мира как форм небытия и бытия, мы уже убедились, и состоит своеобразие всей главы, а образ каравана именно поэтому и появляется в самых неожиданных и, казалось бы, не детерминированных сюжетом местах.
Но он имеет и более важное и глубокое духовно-художественное значение.
Караван возникает в главе трижды. Одно из таких внезапных его появлений мы наблюдали в цитированном куске из “сердцевинной” части 3-го паруса. Помимо того, мы встречаем его в экспозиции, сразу же вслед за трагическими образами ушкуйника и филина (Опять, опять хохочет филин, // Но вот негромкий позвонок, // Усталый топот чьих-то ног. // Покрыты в ткани черных груды, // Идут задумчиво верблюды. // Проходят спутники араба: // То Мессакуди и Иблан // Идут в Булгар, // За ним Куяба — // Дорога старых персиян — 2, 148–150). Затем он возникает в концовке — опять-таки сразу же после угроз воинственного незнакомца, чертящего над головой круг смертоносным мечом:
Противопоставление символов мира (жизни) символам войны (смерти) не случайно приобретает в третьей главе поэмы особый смысл именно в соответствии с центральным мотивом — движения каравана. Почему? Потому что он знаменует Путь. Хлебниковский караван — это прежде всего образ Пути, всегда воспринимавшийся в народнопоэтической космогонии, в мифологических и восточно-классических структурах бытия как метафора связи.
Если при этом помнить, что арабский караван Хлебникова идет из Персии в Булгар (т.е. с Востока на Запад), то станет ясной не просто композиционная, но общая структурообразующая философско-символическая роль этого важного образа в «Детях Выдры». Караван знаменует здесь средство: он — связующая нить между Западом и Востоком; но он воплощает в себе и цель: Путь мира и торговли — главная (если не единственная) альтернатива взаимоотношений народов Запада и Востока, глубоко раскрытая художником. Пусть — как утопия. Но — и как перспектива.
Восточная классика, в частности творчество Низами, влекла к себе Хлебникова, ощущавшего в этой сокровищнице духа огромный социально-философский и историко-эстетический потенциал, дающий возможность и через века проникнуть в сложнейшие проблемы современного и завтрашнего мира с помощью идей и образов великих восточных предшественников.
Как и в «Медлуме и Лейли», в «Детях Выдры» Хлебников ставит перед человечеством множество глобальных вопросов, касающихся непосредственно жизни и смерти разноплеменного сообщества людей на нашей планете; и так же, как в своей “восточной” повести о влюбленных, русский поэт избирает сюжеты и характеры другого великого произведения Низами — его поэмы «Искендер-наме» — для постановки актуальных и острых проблем сегодняшнего и грядущего бытия.
Если бы Хлебников владел персидским языком, на котором была создана эпопея Низами, или в период написания «Детей Выдры» существовал ее перевод на русский язык, было бы нетрудно установить духовные и структурно-эстетические связи русского поэта и его великого азербайджанского предшественника, закономерности и особенности воздействия «Искендер-наме» на 3-й парус поэмы Хлебникова. Однако точно известно, что восточными языками Хлебников не владел, а „русский читатель смог ознакомиться с Низами только в 1940–1959 гг.”17![]()
Таким образом, возникает проблема установления источников 3-го паруса «Детей Выдры». Это задача чрезвычайно важная и отнюдь не просто “фактологическая”. Ее решение позволит выяснить, во-первых, диапазон поиска Хлебникова-ориенталиста, художественно исследующего исторические взаимоотношения Запада и Востока; во-вторых, роль эстетического наследия Востока, в частности творчества Низами как важнейшего духовно-художественного пласта, на который опирался русский поэт в своем творчестве.
Выполняя эту задачу, необходимо попытаться ответить на следующие вопросы:
1. Обращался ли Хлебников при написании 3-го паруса лишь к русским пересказам отдельных частей Низами?
2. Была ли у него возможность использовать непосредственно «Искендер-наме»?
3. Если на последнее предположение ответить утвердительно, то насколько полным мог быть текст Низами, к которому восходят образно-сюжетные линии 3-го паруса?
4. В какой степени и насколько органично этот текст сделался материалом Хлебникова?
5. Как соотносил автор «Детей Выдры» поэтический “канон” Низами с другими источниками, если он ими пользовался, — историческими, этнографическими, ориентально-фольклорными и т.п.?
До сих пор в литературе о Хлебникове ответа на эти вопросы не было.
Н. Степанов в примечаниях ко второму тому собрания произведений Хлебникова (1930) уверенно утверждал, что „при описании сражения между Руссами и войском Бердаи использована песнь из «Искандер-намэ» персидского поэта Низами, в сокращении приведенная у В. Григорьева”18![]()
В книге о Хлебникове (1975) исследователь еще более категоричен: Хлебников, пишет он, „по-своему пересказывает ‹...› одну из глав поэмы Низами «Искандер-наме». Источником ему послужило прозаическое изложение ее в книге В. Григорьева «Россия и Азия» (1877)”.19![]()
В статье В. Григорьева, пространный отрывок из которой приведен Н. Степановым,20![]()
Однако внимательное сопоставление приводит к выводу, что разночтений между поэмой Хлебникова и пересказом Григорьева слишком много, чтобы отнести их на счет творческой фантазии художника, вышедшего за рамки предполагаемого источника.
Не будем пока заострять внимание на том, чего нет у Григорьева, но есть у Хлебникова: разговор об этом полезнее будет позже. Остановимся пока на тех деталях, которые (если бы версия Н. Степанова оказалась верной) должны были быть сходными у обоих авторов, но, как показывают сопоставления, различны.
Прежде всего неодинакова транскрипция имен и названий. У Григорьева читаем: „Эскендер-Намэ”,21![]()
![]()
![]()
Повествуя о гилянском богатыре Зеривенде, поражавшем „всех без милосердия, так что сам Кинтал принужден вступить с ним в битву”,24![]()
![]()
Уже эти внешние несоответствия показывают, что статья В. Григорьева «О древних походах руссов на Восток», даже если она была известна Хлебникову, вряд ли являлась главным источником рассматриваемой главы хлебниковской поэмы.
Некоторые детали и образы 3-го паруса наталкивают на мысль, что Хлебникову был знаком ряд исторических сочинений, где освещался вопрос о набеге русов на Берда’а. Не случайно поэт упоминает в главе Мессакуди и Иблана, справедливо отождествляемых Н. Степановым с известными арабскими историками Мас’уди и Ибн-Фадланом.
Детальное исследование материалов Ибн-Фадлана, Мас’уди и не упомянутых Хлебниковым арабских авторов (Ал-Мукаддаси, Ибн-Хаукаль и др.)26![]()
![]()
Материалы отечественной истории, касающиеся нашествия русов на Берда’а, опираются на те же труды арабских авторов. Однако отметим, что русская история давала Хлебникову кое-какие детали, каких мы не находим ни у Мас’уди, ни у Низами. Это подчеркивает масштабность историко-художественного поиска Хлебникова, использовавшего, как мы сможем сейчас убедиться, не только один — основной — источник (о нем речь впереди), но и все, что из “материала” могло сделаться “художеством”.
Речь идет о способах перехода русов с водных путей на сушу. Хлебников пишет о их колесных судах, слышит визг парусов вверху телег (2, 149).
М. Погодин и С. Соловьев, приводя в описаниях набегов русов на Берда’а главным образом сведения того же Мас’уди, говорят лишь о том, что русы перетаскивали свои суда волоком. „Руссы, — писал М. Погодин, — рукавом Понтуса (Доном) с позволения Козаров приплыли к реке Козарской (Волге). Здесь, вероятно, перетащили они суда свои, а потом Волгою приплыли в Козарское море ‹...›”28![]()
![]()
Хлебникову, видимо, были известны труды отечественных историков, где поход русов описан достаточно подробно. Но совершенно очевидно, что образ колесных судов и телег под парусами, не зафиксированный ни в одном из восточных исторических источников или художественных текстов, навеян известным рассказом из древнерусской летописи, относящимся, правда, к событиям, происходившим почти на полвека ранее (поход Олега на Константинополь — 907 г., набег русов на Берда’а — 943 г.): „И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабль. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу”.30![]()
Этой (или подобной) картины, несомненно, давшей пищу воображению Хлебникова в 3-м парусе, повторяем, нет в сюжетно-художественной ткани «Искендер-наме». Поэтический образ «Детей Выдры» восходит либо непосредственно к «Повести временных лет», хорошо известной Хлебникову (реминисценции из летописи в его произведениях этой поры весьма многочисленны), либо к той же «Истории России...» С. Соловьева, где легенда о парусных судах приведена лишь несколькими страницами ранее рассказа о нашествии русов на Берда’а.31![]()
![]()
Эти наблюдения, по сути, попутные, призваны показать, что Хлебников не сковывает себя узкими рамками конкретного историко-художественного материала избранной им “первоосновы”. Уже в самих истоках, в “предкорневых” пластах произведения он предполагает обращение к разомкнутой системе мировой литературы, свободно соотнося образные структуры ориентального шедевра и русской летописи, т.е. используя духовно-художественный арсенал и Востока, и Запада, если он дает возможность передать дух и воссоздать лик определенной эпохи (в данном случае — XI века).
Суммируя все сказанное, можно сделать предварительный вывод о том, что, создавая 3-й парус «Детей Выдры», Хлебников мог использовать:
а) дошедшие до него арабские исторические источники;
б) отдельные образы и сюжеты русской летописи и сведения отечественных историков;
в) статью В. Григорьева «О древних походах руссов на Восток»; отвергая версию о том, что это единственное и главное сюжетное основание главы Хлебникова, мы не исключаем ее в качестве источника “вспомогательного”.
Примерно то же можно сказать о других повествованиях, касающихся похода русов на Берда’а и так или иначе построенных на пересказе соответствующих глав эпопеи Низами. Общим для всех этих изложений является то, что «Искендер-наме» воспринимается в них не только как эстетический шедевр, но и (может быть, в первую очередь) как своеобразный исторический памятник, расцвеченный фантазией восточного поэта. Все они также могли быть известны Хлебникову.
Первым из таких русских переложений Низами был пересказ В. Оболенского (1828) — весьма приблизительный и неточный перевод части «Искендер-наме»33![]()
![]()
![]()
![]()
Еще меньше точек соприкосновения с 3-м парусом у автора пересказа этого сюжета, опубликованного в 1831 г. под псевдонимом “Делибюрадер” и под названием «Отрывок из персидской поэзии: Искандер-наме. Сочинение Низами».37![]()
Наиболее подробное изложение сюжета о нашествии русов, опирающееся на поэму Низами, мы находим в книге М. Тебенькова «Древнейшие сношения Руси с прикаспийскими странами и поэма «Искандер-Наме» Низами как источник для характеристики этих сношений». Здесь, как и в пересказе В. Григорьева, много наименований, частных коллизий, описаний, совпадающих с фактами и деталями повествования Хлебникова: упоминание Абхазии, слово царь в отношении к вождю абхазов, рассказ о нападении со стороны моря, трагические эмоции, сопровождающие горестную повесть о насилии русов и страданиях полонянок и т.п. Однако М. Тебеньков, в отличие от Хлебникова, пишет не руссы, а „русы”, не Бердай, а „Бердаа”, не Нушабэ, а „Наушабе”, не Кентал, а „Кинтал”.38![]()
Таким образом, как основной источник хлебниковской главы названная книга рассматриваться также не может. В еще меньшей степени на это мог бы претендовать еще один русский пересказ сюжета о взаимоотношении русов и Закавказья: небольшая статья Н.И. Гулака «О знаменитом персидском поэте Низами Ганжийском и о его поэме: «Поход русов против Бердаа».39![]()
Итак, в качестве источника 3-го паруса нами отвергнуты все русские переводы и изложения «Искендер-наме». Остается предположить, что Хлебников использовал перевод сюжета о русах, Берда’а и подвигах Искендера с полного персидского текста Низами на один из западноевропейских языков.
Была ли у Хлебникова такая возможность? Вопрос этот в свою очередь делится на два вопроса: существовали ли такие переводы и владел ли Хлебников языками?
Отвечая на первый из них, следует двигаться, очевидно, не “хронологически”, а исходя из степени полноты текста Низами, воспроизведенного в переводе. Самым точным переводом «Искендер-наме» (до времени написания «Детей Выдры») было прозаическое переложение Вильдефорс-Клерка на английский язык, вышедшее в 1881 г.40![]()
![]()
![]()
Прежде чем “выбирать” тот из переводов, который мог бы стать источником 3-го паруса, необходимо ответить на второй наш вопрос: владел ли Хлебников одним из указанных языков в той степени, чтобы использовать полный текст Низами?
Нами не обнаружены свидетельства знания Хлебниковым латинского языка, исключая, естественно, тех основ, какие давал гимназический курс. Что касается английского, то упомянем весьма смутное указание Н. Степанова на то, что Хлебников „в детстве ‹...› начал заниматься языками”, а в домашней библиотеке познакомился с произведениями Дидро, Канта, Спенсера, Конта, Тэйлора...43![]()
![]()
С гораздо большей степенью достоверности мы можем ответить на вопрос о знании Хлебниковым французского.
Правда, когда Н. Степанов указал, что „читать Хлебников выучился с четырех лет и читал всегда очень много как русских, так и французских книг”,45![]()
![]()
Подтверждается он и воспоминаниями Д. Дамперова, учившегося с будущим поэтом в 3-й Казанской гимназии. В недавней публикации Н. Харджиева приведены следующие строки соученика:
Все это косвенные доказательства. Однако в нашем распоряжении есть и прямые. Это — обнаруженные нами в архиве сведения самого Хлебникова, скупо отметившего в ответе на анкету Всероссийского союза поэтов 18 января 1922 г. (пункт 11-й):
Таким образом, наиболее достоверным было бы считать, что главным источником 3-го паруса был полный текст части поэмы Низами «Искендер-наме», в переводе на французский, язык, опубликованный в труде Ф.Б. Шармуа «Поход Александра Великого против русов: отрывок из Александреиды в Искандер-наме Низами».
Факт этот чрезвычайно важен для исследователя взаимоотношений Хлебникова и Низами: будучи доказанным, он позволяет установить, что в своей работе над 3-м парусом «Детей Выдры» Хлебников обращался не к комментированным пересказам и фрагментарным изложениям, а к полному тексту тех глав «Искендер-наме», которые стали историко-эстетическим “материалом” его поэмы и импульсом развития не столько сюжета, сколько идей Низами. Отсюда — обширность и скрупулезность нашего поиска источников 3-го паруса.
Прежде чем сопоставлять тексты Хлебникова и Низами,49![]()
![]()
![]()
Свободная транскрипция имен героев Низами у Хлебникова, видимо, и объясняется тем, что он читал их по-французски, не заботясь впоследствии об абсолютной точности их русского графического воспроизведения: ведь “на слух” ‘Кинтал’ и ‘Кентал’, ‘Зоревенд’ и ‘Зеривенд’ звучат по сути одинаково.
Этим же, очевидно, можно объяснить и отдельные ошибки Хлебникова, касающиеся некоторых историко-географических сведений и названий. Так, поэт прочел Нушабэ как мужское имя (‹...› Спасая Нушабэ и его страну). Это вполне объяснимо. У Шармуа нет перевода главы, предшествующей отрывку о походе русов и повествующей о том, как Александр инкогнито посетил царицу Нушабэ, победившую его ум женской хитростью.52![]()
Опираясь на текст Шармуа (собственно, на текст Низами), можно теперь объяснить, почему в 3-м парусе есть детали и эпизоды, которых нет в изложениях В. Григорьева и других русских авторов, но которые мы находим непосредственно в «Искендер-наме». Подобные эпизоды, относясь к ряду не столько исторических фактов, сколько художественных вымыслов Низами, естественно, как “частные” моменты, не интересовали историков-ориенталистов. Но эти моменты оказались весьма важными для Хлебникова, воспроизводящего в Искандере, как и Низами, образ идеального героя, чьи идеи мира между Западом и Востоком, неотвратимого наказания захватчиков, восстановления исторической справедливости и т.д. лежат в основании 3-го паруса «Детей Выдры».
Покажем это на весьма характерном примере.
Для Низами, как и других восточных поэтов, любое справедливое деяние могло осуществиться лишь с соизволения аллаха, символизировавшего высшую силу, освещающую это деяние. Поэтому и в строении «Искендер-наме», и в ее многочисленных отдельных сюжетах все начинается с имени аллаха, с молитвы, да и завершается ею же. Все поведение Искендера в поэме Низами также подчинено этому непреложному закону. Так ведет он себя и перед последним сражением с русами: входит в „чертог молитвы” для обращения к богу:
Во время битвы Искендер у Низами ждет некоего знака свыше („Для разгрома врага ждал он должной поры”), действительно, данного ему аллахом-“звездочетом”: „Он сказал Искендеру: „К последнему бою // Устремляйся. Победа, о царь, за тобою”.54![]()
![]()
Естественно, Хлебников убирает все эти (существенно необходимые в древнем восточном повествовании) сакральные подробности. Однако и для него важно было дать читателю постигнуть ту мысль, что великие идеи и деяния Искандера-освободителя как бы освящены некой “высшей силой”. Поэтому, не стремясь быть столь же конкретным, как Низами, он сдержанно и сжато передает этот эпизод ожидания “знака” в храме, куда, неожиданно для современного читателя, также вводит Александра с его войском. При всей реалистичности этой сцены она все же явно восходит к соответствующим деталям «Искендер-наме»:
Почему из эпопеи Низами избрана эта, казалось бы, не столь уж необходимая сцена? Потому, что в образе Искандера Хлебников стремился воплотить подвиг национального освобождения малого народа из-под ига захватчиков как деяние, освященное небом, т.е. некой высшей мировой совестью, и традиционные построения Низами давали ему эту возможность.
Не случайно Искандер Хлебникова выступает как одна из ипостасей характера главного героя поэмы — Сына Выдры. Кто такие Дети Выдры? Символизируя в себе идею Прометеева огня, необходимого в равной степени всем и, собственно, делающего человечество человечеством (огонь — символ культуры), они мифологически-условно воплощают в поэме ту верховную силу справедливости во взаимоотношениях между племенами и народами, какая движет и “идеальным героем” — Искандером — и у Низами, и у Хлебникова.
Вот почему сцена появления Искандера в храме, знаменующая его связь с небом, столь существенна в структуре 3-го паруса; не случайно в предваряющей его авторской ремарке смысл главы передан так: Сын Выдры слетает с облаков, спасая Нушабэ и его страну (2, 148). Здесь для нас важно, что тождество Искендера и Сына Выдры, постоянно трансформирующегося в образы различных героев человеческой истории, воплощено одновременно и в едином подвиге (спасение Берда’а) и в той сходной, небесной символике, которая сопровождает этот подвиг.
Очевидно, что „чертог молитвы” Низами и храм Хлебникова, как и фантастический полет с облаков Сына Выдры, — при всей традиционности «Искендер-наме» и нетрадиционности хлебниковской поэмы — выступают (именно с точки зрения этой высокой символики) как явления одного духовно-художественного ряда. Подобные схождения раскрывают закономерность взаимодействия великих поэтов, у которых выбор различных образных форм воплощения гуманистической идеи, соответствующих особому типу их художественного сознания, не может заслонить общности взгляда на сущностный смысл бытия и деяния человеческого и сходной оценки этого деяния.
Вместе с тем эти схождения показывают, как не прост творческий процесс взаимодействия художников, как сложен путь автора «Детей Выдры» к ориентально-художественным истокам 3-го паруса, как трудно ответить на вопросы, связанные с проблемой не только выбора Хлебниковым тех или иных мотивов и образов Низами, но и отказа от важных открытий восточного предшественника, казалось бы, близких духовному миру русского поэта. Будучи гипотетичными, подобные ответы, тем не менее, могли бы дать возможность проследить путь Хлебникова к восточному наследию не как поиск кладоискателя, а как творчество личности, создающей новые художественные ценности в соответствии и с общим строем современного и индивидуального поэтического сознания.
С этой точки зрения был бы особенно интересен ответ на вопрос о том, почему Хлебников не ввел в 3-й парус материал важнейшей главы «Искендер-наме»: «Освобождение Нушабе и примирение Искендера с Кинталом». Такой поворот темы, раскрытый уже в самом заголовке, — мир между народами и их правителями — должен был быть очень близок Хлебникову; по сути, это один из кардинальных семантических пластов его поэзии рубежа 900–910-х годов. Отчего же он в 3-м парусе уходит от фабулы Низами, заставив своего Искандера не примириться с вождем русов, а убить его в очном поединке? (Добавим, что при этом смерть Кентала — один из наиболее выразительных эпизодов 3-го паруса, эмоциональная кульминация всей главы).
Объяснить такое изменение общеизвестного сюжета простым незнанием текста Низами вряд ли возможно. Во-первых, у Шармуа глава о примирении Искендера с Кинталом переведена полностью, и трудно представить, что Хлебников просто не дочитал до конца весь отрывок из «Искендер-наме». Во-вторых, приведенная выше авторская ремарка к 3-му парусу показывает, что факт освобождения Нушабе, вынесенный Низами в заголовок, был известен Хлебникову.
Таким образом, речь может идти лишь о сознательной творческой переработке этой ветви сюжета «Искендер-наме». В чем ее причина и смысл?
Ответ на этот вопрос начнем издалека — с рассмотрения композиционной структуры 3-го паруса.
Глава строится, мы помним, как параллельное течение двух сюжетов, кажущихся автономными: первый — о движении арабского каравана по дороге старых персиян, вдоль Волги в Булгар; второй — о нашествии русов и их разгроме Искандером.
Первый сюжет в главных своих контурах взят у одного из подлинных участников посольства багдадского халифа к царю волжских булгар (921–922) — уже известного нам арабского историка Ибн-Фадлана; посольство, по его свидетельству, действительно, „продвигалось как обычный купеческий караван”.56![]()
Второй сюжет, как мы знаем, заимствован у Низами.
Однако рассказ о набеге на Берда’а и сражении Искандера с Кенталом у Хлебникова принадлежит не Низами, а вымышленному герою — поэту Иблану.
Сквозь имя героя легко “просвечивает” имя Ибн-Фадлана; в его горестной поэме о судьбе Берда’а слышны отзвуки монолога Дувала из «Искендер-наме», так же как в описании битвы — голос самого Низами. В чем же суть этой трансформации двух реальных исторических лиц — Ибн-Фадлана и Низами — в Иблана? Почему не Низами, а Иблан у Хлебникова — автор «Искандер-наме»? (Иблан запел: Искандр-Намэ! ‹...›; Искандер-Намэ в уме слагая, // Он пел про руссов ‹...›) (2, 149).
Для понимания замысла Хлебникова и хода наших дальнейших рассуждений важно помнить, что Иблан — не некая сторонняя личность, не летописец давно прошедших событий, а их непосредственный современник и участник: он живет в том же XI веке, когда русы напали на Берда’а, и движется вместе с караваном вдоль Волги по тем же местам, где недавно пролегал путь Кентала на Каспий.
Но главное: Иблан представляет символический Караван — тот спокойный путь мира и торговли, тот вообще Путь — метафору связи людей, — который на всем протяжении 3-го паруса, мы помним, Хлебников противопоставляет трагическим дорогам меча и насилия.
Двигаясь с караваном (одна сюжетная линия) и слагая песнь о набеге русов и подвигах Искендера (другая сюжетная линия), Иблан, таким образом, становится доминантной фигурой прежде всего композиции главы. Но в этой фигуре не только парадоксально перекрещиваются сюжеты 3-го паруса — в ней пересекаются кардинальные проблемы всей поэмы Хлебникова, связанные с человеческой историей, с войной и миром.
В этом смысл и трансформация поэта Низами и историка Ибн-Фадлана в образ Иблана, дающего эстетическое и историческое осмысление бытия, в чем-то сходное, а в чем-то отличное от мировосприятия своих “прототипов”. Хлебниковский Иблан создает собственную «Искандер-Намэ», где определенный отрезок истории Запада и Востока рассмотрен с позиций Каравана, осуществляющего связь людей и с ужасом взирающего на тех, кто несет лишь смерть другим племенам и народам. Здесь Хлебникову необходим был вымышленный герой — поэт, несущий в своей эмоции и в своем слове концепцию войны и мира самого автора «Детей Выдры» (что для нас особенно интересно) — своеобразную интерпретацию “готового” сюжета Низами.
Хлебников отнюдь не стремился повторять “схему” характера Искендера у Низами. В своей эпопее, где Александру даны были всеобъемлющие функции полководца, законодателя, вершителя судеб, Низами не детерминировал и не объяснял поступки героя-полубога, совмещая их лишь с мифологически-фольклорным нравственным кодексом его времени. Примирение Искендера и Кинтала соответствовало этому кодексу, ибо выражало романтически-высокое отношение к побежденному, проявившему смелость в открытом бою, стоящему на определенной ступени иерархической лестницы вождей-богатырей и заслуживающему снисхождения победителя. Поведение Кинтала и его разбойничьей дружины (во время нападения на Берда’а) в главе о примирении уже не упоминалось.
Хлебников, наоборот, строит свой 3-й парус таким образом, что тема смерти и насилия, которые несут с собой захватчики, становится стержневой в «Искандр-Намэ» Иблана:
В «Искендер-наме» Низами этот сюжет выполняет роль завязки целой цепи битв и поединков, развернутых во времени и пространстве эпопеи, прерывающихся отступлениями и фантастическими образами; к моменту боя Искендера с Кинталом он вообще забывается как исходный пункт повествования.
В Искандр-Намэ хлебниковского Иблана это — эмоционально-философский ключ ко всему 3-му парусу: не только к стремительному действию Искандера и его дружины, сбрасывающей насильников в море, но и к осмыслению войны как гибели всего живого и к пониманию необходимости уничтожения тех, кто несет на своих мечах гибель прекрасному миру.
В повествовании Иблана о разгроме русов звучит не голос мести, а лишь мысль о справедливом возмездии; имя Искандера выступает как условно-художественный традиционный символ этого акта. Не случайно в 3-м парусе нет даже описания боя между Искандером и Кенталом: Хлебникова, в отличие от М. Кузмина, интересуют отнюдь не Подвиги великого Александра.57![]()
У Низами, после того как Искендер „стиснул шею Кинтала аркана петлею”, предводитель русов попадает в плен; о судьбе остатков его разгромленного войска кратко говорится: „Уцелели немногие. Скрылись они”.58![]()
Картина гибели Кентала и его дружины у Хлебникова, таким образом, — плод поэтической фантазии автора «Детей Выдры», довольно далеко отстоящей, как мы убедились, от сюжетной линии Кинтала у Низами.59![]()
Как ни гипотетичны наши предположения о причинах этих изменений фабулы «Искендер-наме» у Хлебникова, следует попытаться найти им подтверждение прежде всего на самом “открытом” — лексическом уровне текста.
Мертвый Кентал у Хлебникова „мчится наяву” с своим поникшим кистенем. Слово это, на наш взгляд, является здесь ключевым — оно помогает постигнуть не частный, а общий ряд рассуждений Хлебникова. У Низами все богатыри вооружены мечами и копьями, в том числе и Кинтал, нарисованный как рыцарь:
У Хлебникова оружие Кентала — кистень, всегда ассоциировавшийся в русском сознании с образом разбойника; в словаре, например, отмечено: „Ходить с кистенем (нар.-поэт.) — заниматься разбоем”.61![]()
Налицо явное стремление к резкому снижению образа Кентала: перед нами не „кипарис”, а разбойник с кистенем.
Суть этого превращения помогают понять наблюдения над композицией 3-го паруса. Песнь Иблана о гибели Кентала возвращает нас к “внесюжетному” образу повешенного ушкуйника из экспозиционного четверостишия 3-го паруса:
Таков зачин главы, совершенно не связанный с ее фабульными линиями и поначалу кажущийся “лишним”, “случайным”. Однако явственна композиционная корреляция образов повешенного разбойника62![]()
У Низами Кинтал — предводитель почти миллионного войска; его бой с Искендером — поединок равных, кульминация главы. Отсутствие этого немаловажного эпизода в 3-м парусе эстетически оправдано: высокому мечу справедливости негоже сражаться с кистенем разбойника, несущего с собой рабство и смерть во имя низкой наживы.63![]()
Так же художественно закономерна в контексте поэмы Хлебникова и гибель Кентала. Не забудем, что драматический рассказ о ней принадлежит Иблану. Таким образом, оценка деяний Искандера и Кентала дана представителем Каравана, одновременно осуществляющим высокую миссию Поэта. С этой позиции, символизирующей мудрые пути материального и духовного взаимодействия людей Земли, Иблан и вершит свой тяжкий суд над Кенталом.
Постоянно соотнося “непересекающиеся” дороги русов-завоевателей и мирного каравана и ставя тем самым в центр поэмы вопрос о выборе путей человеческих, Хлебников, мы видим, по-своему связывает проблемы судьбы личности и судеб мира, жизни и смерти, милосердия и возмездия.
Отклонения Хлебникова от фабульных линий «Искендер-наме» таким образом, — это трансформация не просто сюжета или образа Кентала, а важных моментов философии истории. По мнению автора «Детей Выдры», примирение с захватчиком невозможно; несущий смерть, он заслуживает единственного наказания — смерти; судьбу мира и человека решают не романтические душевные порывы “идеального царя”, а ход истории, представленный в 3-м парусе не столько фигурой Искандера, сколько непосредственно авторской позицией Хлебникова.
Позиция эта, конечно, не основывалась на точном понимании развития исторических событий с революционной точки зрения. Но при всей отдаленности от многих социальных проблем эпохи, от диалектического их анализа Хлебников остро ощущал движение раздираемого противоречиями мира к грядущей войне, которая не могла не стать разбойничьей, захватнической, грозившей уничтожить цивилизацию.
Назревал 1913 год, война и мир становились не литературной темой, а грозной действительностью. В этот момент обращение Хлебникова к древней восточной эпопее Низами отнюдь не стало, как мы убедились, очередной попыткой поэтической реставрации традиционного ориентального сюжета об Александре Великом. Восходя к значительным гуманистическим идеям «Искендер-наме», используя ее условно-фантастические анахронизмы и образы, творчески видоизменяя отдельные ее мотивы, Хлебников создает произведение глубоко современное. «Дети Выдры» — это поэма-призыв и поэма-предупреждение, обращенная не к прошлому, а к настоящему и будущему человечества, чей мирный караван все-таки движется сквозь трагическую историю народов.
В статье «О расширении пределов русской словесности» (1913) Хлебников, как уже отмечалось, упрекал отечественную литературу в узости ее очертаний и пределов. Стремясь быть предельно доказательным, он довольно подробно перечислял здесь те области, которых она мало или совсем не касалась. Среди них в статье названы персидские и монгольские веяния, древние пути в Индию, сношения с арабами, а также — несколько неожиданно рядом с этими значительными ориентальными темами (кстати, затрагивавшимися нашей литературой) — Сибирь с Амуром, с его самыми древними преданиями о прошлом людей (орочоны) (НП, 341–342).
Содержание и поэтика орочонских мифов, упоминаемых Хлебниковым, в ту пору вряд ли были известны кому-либо, кроме узких специалистов; тем не менее эти создания восточного мифотворчества ко времени написания статьи уже были материалом и составной частью поэзии и прозы самого Хлебникова: стихотворения «Пламена», рассказа «Око» (с подзаголовком «Орочонская повесть») и 1-го паруса поэмы «Дети Выдры».
Особенно большую роль мифологические представления амурских племен сыграли в поэме Хлебникова, где древние предания орочонов о прошлом людей, составляющие главный сюжетно-образный пласт экспозиционной главы, сделались не столько историко- хронологическим, сколько духовно-эстетическим основанием дальнейшего движения «Детей Выдры».
Самый общий смысл связей орочонской мифологии с комплексом магистральных проблем хлебниковского творчества 910-х гг. можно (хотя и не без труда) уловить в более позднем объяснении замысла поэмы, данном Хлебниковым в «Свояси» (1919):
Попытаемся соотнести то, что нам уже известно о проблематике «Детей Выдры», с этим авторским изложением художественного смысла поэмы, а главное — с ее мифологическими корнями, восходящими к сказаниям орочей.
Проведенный нами выше анализ 3-го паруса «Детей Выдры», — тематики, связанной с традициями мировой “Александрии”, с духовным потенциалом «Искендер-намэ», — должен был показать значение идеи западно-восточного единства мира в духовно-художественной концепции Хлебникова. Несмотря на то, что в «Свояси» он говорит о своем замысле построить обще-азийское сознание в песнях, в поэме речь идет, по сути, об общечеловеческом сознании, о той преемственности культуры, жизни духа, которая является доминантой общности разнонациональных явлений мирового бытия, во многом несходных, в чем-то, естественно, контрастных, но все же сближаемых своей принадлежностью к великому роду “гомо сапиенс”. Поэтому проблема единства мира, его целостности — вопреки племенной розни и стремлению решать вопросы существования путем насилия — интересует Хлебникова в первую очередь. В «Детях Выдры» он стремится найти самые глубинные опорные точки, некие “пракорни” этого единства. Вот почему художник ведет свой поиск не только в “ближних” культурных пластах духовного мира человечества — в подвигах героев античной мифологии (Прометей), деяниях известных исторических лиц (Александр Македонский), в творениях гуманистической литературы разных эпох (Низами, Пушкин, Гоголь), — но и в древнейших в мире преданиях Востока, отразивших в самых изначальных формах духовной культуры людей их попытки осмыслить устройство (или, как в мифе, использованном Хлебниковым, переустройство) вселенной согласно своим представлениям о мировой гармонии.
Попытаемся проследить путь Хлебникова, к мифологическим истокам «Детей Выдры»; это даст возможность ответить на ряд важных вопросов, завеса над которыми лишь слегка приоткрыта в приведенном выше отрывке из «Свояси».
Известен основной источник, на который опирался поэт, используя те или иные мотивы орочонской мифологии: книга В.П. Маргаритова «Об орочах Императорской Гавани».64![]()
![]()
Этот заголовок явно шире задачи, поставленной самим автором: „Предметом настоящей статьи является исследование источников некоторых поэтических и прозаических текстов Хлебникова — мифологии орочей ‹...›”66![]()
Исследование этих проблем попытаемся предварить ответом на вопрос: почему орочоны привлекли внимание Хлебникова своими мифами?
Прежде всего необходимо выяснить, почему Хлебников избирает в качестве мифологического “пролога” к поэме именно сказания орочей, древнего амурского племени. Думается, признание в том, что они поразили его, выражает не просто эмоциональное отношение к поэтическим достоинствам орочонских мифов, а нечто более важное для автора «Детей Выдры».
Обратим внимание на то, что даже в рамках небольшого отрывка из «Свояси» Хлебников называет амурские племена то орочами, то орочонами. Это не случайно. В начале века о восточных народностях дальней окраины России было известно очень мало; помимо принятых названий этих народностей, существовали и “самоназвания”, что вносило в исследования и путевые заметки определенную путаницу. Художественная литература того времени жизни и духовного мира орочей не коснулась — в этом Хлебников был абсолютно прав. Даже дотошный Чехов, довольно подробно остановившийся в своем «Острове Сахалине» на описании быта и мира “инородцев”, смог лишь кратко отметить: „Кроме гиляков, в Северном Сахалине проживают еще в небольшом числе ороки, или орочи, тунгусского племени. Но так как в колонии о них едва слышно и в пределах их распространения нет еще русских селений, то я ограничусь одним только упоминанием о них”.67![]()
Весьма сжатые сведения о племенах, которых именовали ‘орочами’, ‘орочонами’,68![]()
![]()
![]()
Возможно, первоначальный интерес к малоизвестному амурскому племени зародился у Хлебникова уже в детстве. В своем письме в ЦГАЛИ В. Земацки, подружившийся с поэтом во время совместного прохождения воинской службы (февраль 1917 г.), вспоминает: „Отец Владимира (Виктора. — П.Т.) проживал некоторое время в Сибири и там записал много сказок из фольклора сибирских “инородцев”. Хлебников помнил эти сказки и очень образно мне их пересказывал”.71![]()
Этот интерес мог получить дополнительный импульс в казанский период жизни Хлебникова, поскольку, по странному стечению обстоятельств, именно в Казани в 80–90-е годы появился ряд публикаций, связанных с орочонами.72![]()
![]()
Подобная информация миссионера, знакомившегося с амурскими племенами мимоходом, могла быть и не принята во внимание; однако ею грешили и серьезные издания. Так, солидный «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона буквально повторил сведения А. Протодьяконова: „Орочоны Приморской области, — отмечалось здесь, — стоят на самой низкой ступени духовного развития; у них вовсе нет преданий”.74![]()
Тем не менее орочоны обладали разветвленной системой космогонической мифологии, тщательно изученной Хлебниковым.
Исследование его непосредственных связей с орочонским мифотворчеством попытаемся предварить ответом на заданный нами выше вопрос: почему именно орочоны привлекли в этом плане внимание Хлебникова?
Думается, для него было существенно, что в отличие от большинства народов Запада, в чьей памяти мифы охранились лишь как “сказки” их далеких предков, племена Дальнего Востока (а малочисленные, “дикие” орочоны, может быть, в первую очередь) и в начале XX века продолжали во многом жить представлениями своего национального мифотворчества. Таким образом, использование древнейших в мире сказаний амурских племен давало художнику возможность передать в первобытных условно-фантастических символах мифа не только способ мышления и тип мировосприятия их “первопредка”, но и в чем-то мифологическую философию его потомка — своего современника.
Древний миф не оживает, а живет в сознании репрезента амурского племени — человека Азии XX столетия; это позволяет воспринять мифологию орочонов как бесконечную временную нить, протянувшуюся через духовный мир малой народности сквозь все эпохи, и тем самым выразить связанные с этой мифологией идеи как “всевременные” и общечеловеческие.
Не случайно сюжет хлебниковского орочонского мифа в «Детях Выдры» не рассказывается, а как бы разыгрывается на воображаемой “сцене”; мифологические действия Сына Выдры, связанные с уничтожением солнц, воспринимаются как нечто происходящее наяву, ибо разворачиваются как фрагмент так называемого “медвежьего праздника” орочонов, описанного Хлебниковым не только на материале названной книги В. Маргаритова (что доказывает X. Баран), но, возможно, на основании наблюдений и других современных исследователей-этнографов. Развернутую картину такого праздника мы находим, например, в 13-й главе III тома солидного труда Л. Шренка «Об инородцах Амурского края»; вот отдельные извлечения из нее, во многом совпадающие, как увидим, с экспозицией 1-го паруса у Хлебникова:
„‹...› Меньший медведь был светло-бурого цвета, самый большой — темно-бурого, а средний — почти черного”.75![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Сопоставим эти выписки с картиной медвежьего праздника из 1-го паруса «Детей Выдры», имея в виду не буквальные совпадения, а сходство общих контуров изображенного художником и отмеченного ученым:
Хлебников, мы видим, основательно исследовал не только непосредственно мифологический, но и “сопутствующий” ему ритуально-этнографический материал, однако вовсе не для того, чтобы художественно запечатлеть среду и придать своему прологу большую достоверность. Перед ним стояла другая задача: совместить время мифическое и время реальное, сегодняшнее. Конечно, это опрокидывало классическую “схему” мифа, в котором мифологическое и современное обязательно разделено во времени — эпоха первотворения максимально отодвинута от момента ее художественного “воссоздания”, традиция — от ее символического “увековечения”.
Но ведь Хлебников не повторяет миф, а “строит” на его основе общечеловеческое сознание. Его точный сюжетно-композиционный ход — сдвижение современного ритуального акта с актом первотворения “мифического” героя, создающего новую вселенную, — позволяет воспринять символику мифа не как мертвый фонд застывших эмблем, а как своеобразную знаковую систему живых традиций, способных выразить не только мир потомка древних амурских племен, но и, в определенной степени, идеи художника XX столетия.
На первый взгляд это несовместимо. Как соотнести мифологическое мировосприятие орочонов, полудиких детей Азии, и жизнь художественного сознания русского поэта — во всех параметрах человека иного измерения? Чтобы понять возможность такой корреляции, познакомимся со структурой того конкретного орочонского мифа, который использовал Хлебников.
Впервые этот миф стал художественным материалом для поэта, видимо, в стихотворении «Пламена». Этот вывод можно сделать при сопоставлении его с 1-м парусом «Детей Выдры», написанным прозой. Н. Харджиеву принадлежит точное замечание о том, что один из фрагментов 1-го паруса (именно тот, где воплощен орочонский миф) представляет собой “прозаическую параллель” с «Пламенами», причем в прозе „сохранена даже рифма”: Сын Выдры, вынув копье и шумя черными крылами, темный, смуглый, главы кудрями круглый, ринулся на черное солнце (НП, 447). Сравним с «Пламенами»:
Думается, воспроизведение рифмы в «Детях Выдры» свидетельствует об изначальности стихотворного текста по отношению к прозаическому. Важно, однако, не столько установить этот факт или определить видовые различия между произведениями, созданными на основе одного мифа, сколько уловить разницу между самим осмыслением мифологического источника в стихотворении и в поэме.
В «Пламенах» уничтожение солнца есть акт своеобразного самоутверждения “первочеловека”, мотивированный либо жаждой борьбы и разрушения “устоев” (Огонь бесовских дум в мозгу, как лава, клокотал), либо пробуждением первых ростков человеческого чувства; концовка поэтому воспринимается как искусственно сцепленная с сюжетом мифа:
Хотя в «Пламенах» мельком и упомянуты три солнца, деяние героя, убившего одно из них и, таким образом, сохранившего два остальных, мифологически не обосновано. В солярных мифах подобного архаического пласта (а именно такой миф использует Хлебников) сюжет, связанный с неким множеством солнц, имеет важный причинный, этиологический аспект: ведь речь идет об уничтожении лишних солнц! Вспомним, что в мифологической космогонии любые, даже самые безудержные фантазии “первопредков” в конечном итоге восходили к определенным представлениям об окружающей их действительности, по тождеству с которой строилась мифологическая модель. В «Пламенах» эта мифологическая логика отсутствует.
Наоборот, в «Детях Выдры» мотив деяния героя не только сам мифологически обоснован, но и позволяет мотивировать точное следование Хлебникова (в отличие от стихотворения «Пламена») сюжету и логике орочонского мифа.
Обратимся к тексту 1-го паруса:
У народов Дальнего Востока сохранилось множество мифов, в том числе и тех, главным персонажем которых выступает солнце. Современные исследователи отмечают, что в мифологической космогонии орочей возникает образ “солнечной земли” (‘сеу нани’); „на солнечной земле живет солнечная девушка ‹...› с ослепительно светящимся лицом. Видимое нами солнце и есть ее лицо”80![]()
![]()
Однако из множества солярных мифов древнего амурского племени, где символический смысл главного космогонического персонажа вполне “позитивен” (в некоторых мифах солнце выступает даже в роли покровителя „обиженных и беззащитных людей”),82![]()
В контексте поэмы «Дети Выдры» причина этого выбора художника совершенно ясна. Уничтожение “лишних” солнц устраняет дисгармоничность прежней “домифологической” космогонии и устанавливает гармонию новой мифологической модели мира, — гармонию, связанную в первую очередь с образом одного солнца. Эта гармония возникает не только в соответствии с истинным положением вещей, т.е. со строением нашей системы, которая, действительно, “обходится” одним солнцем. Этиология акта, совершенного у Хлебникова крылатым духом, мифологически обоснованнее, ибо соответствует в первую очередь мифопоэтическому сознанию древнего восточного племени. Суть в том, что согласно мифологическому числовому коду, именно число ‘один’ символизирует идею целостности и единства (т.е. ту идею, которая и лежит в основании всей поэмы «Дети Выдры»), а одним из важнейших космогонических актов, по определению исследователя, является „сведение всего сущего к единому и выведение всего из единого”.83![]()
Если три солнца, которые стоят на небе, — это символическое воплощение хаоса, то одно оставшееся солнце — знак космического порядка (напомним, что само слово ‘космос’, помимо общепринятого значения ‘вселенная’, — синоним понятий ‘порядок’, ‘упорядоченность’). В этом плане деяние крылатого духа, уничтожающего “лишние” солнца, в соответствии с космогонической мифологией, есть защита космоса от хаоса, т.е. подвиг, равный аналогичным деяниям мифических и эпических героев, защищавших добро от зла.
Но если это так, то почему Хлебников отмечает, что в глазах крылатого духа, бросающегося с копьем на красное солнце, много злой воли? Это отнюдь не случайно. Вспомним, что та же злая воля, воспринимаемая как осозаанная небходимость, приводит в 3-м парусе хлебниковского Искандера, вопреки сюжету Низами, к убийству захватчика Кентала.
Подобная параллель основана не только на метаморфозах Сына Выдры, выступающего в первой главе в роли крылатого духа, а в третьей — в облике Александра Македонского: перекличка здесь более существенна.
В самом деле, установление космического “порядка”, целостности и единства вселенной, совершенное духом, есть, в мифологическом смысле этого понятия, начало культуры. Захватническая же война, символизируемая разбойничьим набегом Кентала на Берда’а, есть уничтожение культуры — начало хаоса. С этой точки зрения убийство “лишних” солнц и убийство Кентала — в равной степени благо, а крылатый дух и Искандер, совершившие эти акты справедливости и возмездия, несмотря на их пространственно-временную отдаленность и кажущуюся несовместимость мифологического и историко-литературного персонажей, — фигуры одного идеологического и художественного ряда, несущие в себе уже известный нам концептцальный смысл общего движения мысли самого Хлебникова. Не случайно оба они — творцы мира: первый — в пространственно-космическом, второй — в ином, “антивоенном” смысле этого слова; но оба смысла уравновешиваются общим понятием единства и гармонии, равно достигаемым деяниями обоих героев. Поэтому закономерно, что они оба — Дети Выдры, Матери Мира. В 1-м парусе Сын Выдры, указывая на сохраненное им единственное белое солнце, говорит: Это — я! Демиург и культурный герой, организующий целостный космос, у Хлебникова одновременно выступает, мы видим, и как символ этой целостности. Продолжая ту же линию в других главах поэмы, Хлебников призывает человечество к духовной активности и действию. Сыном Выдры может стать каждый, кто несет миру добро, гармонию, справедливость. В 3-м парусе им становится Искандер, в 5-м — сам поэт (Сын Выдры вырезает на утесе свое имя — Велимир Хлебников). Эти непрерывные трансформации, превращения и метаморфозы призваны обусловить целостность и единство произведения о целостности и единстве человечества.
Движение использованных Хлебниковым условных сюжетов и образов — мифологических, исторических и литературных, “западных” и “восточных” — не мифологизация истории и не “историзация” (и тем более не осовременивание) мифа. Это поиск возможностей утверждения идей, которые заключены в кратком и многозначном слове ‘мир’ и составляют своеобразный художественный “космос” «Детей Выдры».
Это подтверждается и другими наблюдениями над соотношением восточного мифа и поэмы Хлебникова.
Помимо мифологического мотива уничтожения “лишних” солнц, который мы рассматривали выше, в азиатских преданиях мы находим и иные, чисто онтологические детерминанты этого деяния. Причинно-следственные связи между огненным состоянием земли и “лишними” солнцами, видимо, вполне объяснимы и закономерно находят отражение именно в многочисленных мифах опаленного горячим солнцем Востока. В частности, в китайских солярных мифах говорится о десяти солнцах; все они „из-за какой-то путаницы появились одновременно, так что казалось — весь мир будет ими сожжен”.84![]()
![]()
![]()
![]()
У Хлебникова “климатическое обстоятельство”, судя по тексту 1-го паруса, также присутствует, но магистральным становится все же мотив философско-космогонический: пробуждение природы (небу возвращается голубой блеск, море из черного с красными струями стало зеленым, всюду травы, деревья, рощи берез и т.п.) трактуется не как простая смена “климатических обстоятельств”, а как возвращение мира в его естественное, ахаотическое состояние, отвечающее философскому пониманию мировой гармонии, которой не было, пока в небе „стояли три солнца”, но которая именно такой и должна быть.
Понятие единства и упорядоченности мира слито здесь с эстетической категорией прекрасного. Это находит отражение и в других элементах поэтики 1-го паруса. Так, мифологическая система абстрактно-количественных закономерностей, связанная с образами трех солнц, получает в тексте Хлебникова ту же, но более традиционную трактовку, когда он обращается к цветовым ассоциативным рядам. Сын Выдры, уничтожив красное и черное солнце (цвета “безобразного” — крови и смерти), оставляет “в живых” белое — цвет “прекрасного”, сочетающий в себе весь спектр красок (символ разделенного единства) и отражающий сущность самой жизни. Цветовой “код” позволяет глубже постигнуть код мифологически-числовой.
Таким образом, идея поэмы закрепляется на разных уровнях поэтики: от сложной символики восточного космогонического мифа космогонического мифа до ассоциативных клише мировой поэзии и фольклора. При этом мифологическая знаковая система и здесь, как и в композиционно-сюжетной структуре поэмы, мы видим, не автономна. Постоянно пересекаясь с иными эстетическими “составными”, она лишь призвана подчеркнуть глобальность и всевременную масштабность замысла Хлебникова, “строящего” общеазийское и общечеловеческое сознание от “правремен” до XX столетия.
Эта пространственно-временная разомкнутость поэмы Хлебникова, совмещение в ней прошлого и настоящего, диахронического и синхронического дают основание увидеть в ней самой своеобразный художественный “миф” XX века, в котором все воплощается и трактуется в уже прослеженном нами философско-космогоническом аспекте.
Этот аспект подчеркнут и вынесением в название поэмы “имени” Выдры — образа сюжетно нейтрального и далее 1-го паруса не возникающего.
Подобные териоморфные образы полуводяных животных в различных восточных мифологиях отражают представления о том, что суша возникла из мирового океана. Для Хлебникова важно иное.
В приведенном В. Маргариновым орочонском мифе выдра выступает лишь как “посредник” между людьми и Андури (высшим существом), жалуясь ему на неупорядоченность мира. После этого именно Андури все „переделал и велел быть так, как оно теперь существует”.88![]()
У Хлебникова же Выдра появляется как демиург: она — Матерь Мира, которая ‹...› задумчиво смотрит на свои дела. Это несколько неожиданно: ведь по сюжету дела по переустройству вселенной совершает крылатый дух. Правда, он же именуется Сыном Выдры. Может быть, в этом родстве и кроется смысл парадокса, нарушающего логику сюжета?
По-видимому, утверждая в образе Выдры духовное творящее начало, Хлебников рассматривает его как исток, эмбрион будущего активного деяния. В основании деятельного добра должна лежать прежде всего идея; в сущности, именно мифологическому сознанию принадлежит открытие: „В начале было Слово”.
Для Хлебникова, мы знаем, существенно, что выдра — земноводное существо, равно принадлежащее морю и суше, т.е. контрастным и в то же время связанным между собой стихиям — представляет собой символ контрастной целостности. Эта идея (по сути, идея единства противоположностей), воплощенная в образе Выдры, в художественном движении поэмы перенесена Хлебниковым из сферы “природы” в сферу социума: обе части идеи соотносятся как сущее (контраст) и желаемое (единство). В этом, как уже отмечалось, значение образа Выдры для понимания не только заголовка, но и общего смысла всего произведения, страстно утверждающего возможность единства в противоречивом “космосе” человеческих, племенных, межнациональных отношений.
Кардинальная идея поэмы, рожденная, бесспорно, самой действительностью, “современным” гуманизмом поэта, не случайно начинает свое движение в «Детях Выдры» с сюжетов и образов восточной ветви мирового мифологического дерева. Художник ищет подтверждения своих концепций во всем бесконечно уходящем в прошлое развитии человеческой культуры, одним из самых ранних пластов которой было мифотворчество народов Древнего Востока.
Но пласт этот не является единственным фактором мифологической “подпочвы” поэмы. Западное мифопоэтическое сознание представлено в «Детях Выдры» греческой мифологией — образом одного из самых мощных ее героев, Прометея. Мы не будем касаться роли этой фигуры в художественной системе хлебниковской поэмы, поскольку такая задача выходит за рамки нашего исследования. Однако необходимо соотнести знаковый смысл разнонациональных мифологических корней произведения в том аспекте, который касается возможного пересечения заключенной в них символики.
Взаимодействие восточных и западных мифологических эмблем в «Детях Выдры» несомненно. Востоку у Хлебникова принадлежит миф о демиурге, создавшем вселенную и гармонию во вселенной, Западу — миф о культурном герое, давшем людям огонь. Первый сотворил единый мир; второй принес ему то, что с давних времен воспринимается как символ культуры, в свою, очередь являющейся залогом человеческого единства.
Таким образом, по своей гуманистической сути деяния мифопоэтических персонажей совпадают, поскольку идея единства человечества восходит к философии единства мира вообще.
Восточная и западная мифологии, невзирая на известные различия между ними, составляют в поэме два мощных и равных “пракорневых” пласта хлебниковской концепции общественного бытия как разделенного на Запад и Восток, но неделимого в своей человеческой сущности разумного социума.
Мы убедились в том, что обращение к древнему орочонскому мифу у Хлебникова не сводится к простому использованию, воспроизведению мифологического сюжета и образной системы. Оно имплицирует всю жизнь художественного сознания Хлебникова в его поэме — возникновение и развитие своеобразного мифопоэтического строя восприятия и воспроизведения мира. По существу вся система художественных открытий Хлебникова мифологически-глобальна, космогонична, пронизана стремлением создать символическую знаковую систему, объясняющую развитие мира и дающую ему примеры и образцы, восходящие к социально-духовному опыту множества поколений.
Конечно, Хлебников не знает истинных путей сотворения „золотого счастья”, переустройства мира, хотя и включает в свою “программу” насилие, злую волю как одно из условий этого переустройства. Главные проблемы поставлены и решены в «Детях Выдры» не социально, а нравственно; но при этом нравственное имеет здесь глубокие исторические и доисторические корни. Так возникает в поэме своеобразное мифопоэтическое начало, движущее весь сложный мир произведения о человечестве и развитии его сознания.
Даже не зная конкретных вех революционной переделки бытия, Хлебников улавливает их общие контуры: они раскрыты в самих “сигнальных” символах и именах известных мифологических фигур или образов, сотворенных по их подобию ц заключающих в себе разумный гуманистический путь развития мира. Это — путь Прометея, завещанный Выдрой, Матерью Мира. Как и всякая мифологическая знаковая система, эта символика абстрактна; но направление, избранное художником и раскрывающееся в его “мифометафорах” вселяет надежду на то, что он обязательно придет к более социально-конкретному и исторически-точному осмыслению действительности.
Однако для этого потребуется ещё целое огромное пятилетие: империалистическая бойня, попытка футуристической “конфронтации” с миром “сытых”, грозное и опаляющее дыхание Великого Октября...

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 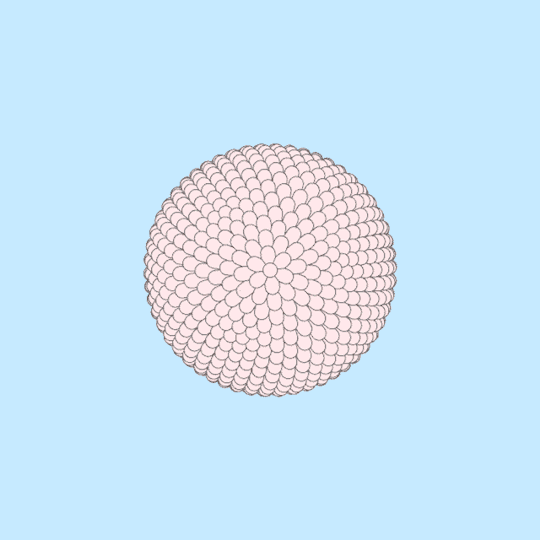 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||