

Одной из граней этой идеи была мысль о равенстве человека Запада и человека Востока, о бессмысленности их противостояния, о разделении всех людей Земли не по расовому, а по социальному принципу, несущему в себе зерно подлинной справедливости и братства. Лозунги русской революции возвещали сконцентрированные в чеканном слове Ленина дух и чаяния не только России, но державную волю всех народов Запада и Востока.
Мысль эта зрела и развивалась в недрах сознания русского общества на протяжении веков. “Всемирная отзывчивость” Пушкина — лишь одна из наиболее емких и точных формул той великой идеи интернационализма, в русле которой развивалась вся демократическая культура России в эпохи, предшествующие Октябрю. Гуманизм русской литературы, ее поиски социальной справедливости и истины необходимо включали в себя дух межнационального равенства наций, народов и племен. И в этом духе формировалось художественное сознание писателей и поэтов, не только несходных между собой по социальным устремлениям, но порой довольно далеко отстоявших от конкретных задач революционного переустройства общества и не постигших связи этого процесса со своими гуманистическими воззрениями на проблему человеческого братства. Расплывчатость и незрелость мировоззрения, неясность политических взглядов, тем не менее, сочеталась в таких художниках с твердо усвоенными, впитанными “с молоком” матери-России принципами “всемирной отзывчивости”, преданности идее человеческого братства, независимого от расовой или национальной принадлежности людей.
В ряду подобных поэтов России был и Велимир Хлебников. Его стойкий и константный интерес к Востоку основывался, в частности, не только на фактах ранней биографии будущего поэта (к чему нередко полностью сводят хлебниковский ориентализм), но прежде всего на внутренней верности гуманистическому духу русской литературы, ее принципам “открытой души”, постоянной заинтересованности жизнью разных народов, племен, наций мира, интернациональной масштабности и всегдашней разомкнутости ее проблематики и поэтики. Эта способность русского художника загораться “чужим” светом, сострадать “чужому” горю, впитывать красоту инонациональной гармонии, перевоплощаться и оставаться самим собой — все это было и тем основанием, и тем богатством, которые помогли формированию хлебниковского ориентализма. Поэтому весьма далекий от понимания многих социальных проблем века Хлебников в глубинной своей сути оставался художником масштабного интернационального плана и если не по конкретным связям, то по общему направлению своего творчества примыкал к тому крылу русской культуры, которое не могло не желать социальной революции и не принять ее с радостью. Ибо революция решала и значительное число общегуманистических проблем, составляющих содержание наиболее серьезных произведений Хлебникова, главных духовно-художественных концепций его творчества.
Трудно найти в русской словесности художника, который вызвал бы столь различные и неоднозначные оценки, суждения, приговоры и мнения, как Велимир Хлебников. А.В. Луначарский называл Хлебникова человеком, „которого многие считают большим чудаком, но который, несомненно, имел в себе нечто гениальное, что признавал целый ряд русских филологов...“1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
К этим суждениям современников Хлебникова можно прибавить отзывы больших художников последующих десятилетий, вплоть до нашего времени. В 1927 г. Ю. Тынянов сетовал на то, что нет издания, „достойного того значения, которое Хлебников приобретает чем дальше, тем глубже, длительнее и больше“.8![]()
![]()
![]()
Сложность и неоднозначность творческого почерка Хлебникова, его прорывы в неизвестное, постоянная экспериментаторская работа поэтического “патологоанатома”, попытки сочетания звука и цвета, поиски вселенского языка, числового кода к историческому движению мира — все это (нередко казавшееся попросту бессмысленным тем, кто не видел связи глобального мышления Хлебникова и этого постоянного поиска методом проб и ошибок) зачастую упрощалось — не объяснялось, а сводилось к наклеиванию прочных ярлыков, к отрицанию смысла всей деятельности Хлебникова и зачеркиванию его поэзии как явления русской культуры. Так, о дооктябрьском творчестве Хлебникова писалось: „Все это не выходит за пределы литературных опытов, лабораторной работы. Здесь Хлебников ограничивает себя пределами новаторства формы, совершенно не заботясь о содержании“.11![]()
Еще грубее и несправедливее высказывания о Хлебникове в малоплодотворные периоды навязывания категоричных мнений и однозначных выводов. “Поэт для эстетов” — так называлась одна из статей 1948 года, где говорилось о „камерной, глубоко индивидуалистической, последовательно формалистской поэзии Хлебникова“, о его „невежественном дилетантизме“ и „мнимой революционности“; яростно развенчивалась “порочная” легенда о высоком таланте художника.12![]()
Не забудем, однако, что в создании этой легенды принимали участке Луначарский и Маяковский, Асеев и Тынянов, Шкловский и Вс. Иванов; она обретала почву даже в суждениях тех, кто не считал себя “поклонником Хлебникова”. Так, Горький (кому принадлежит это признание), говоря о „словесном хаосе“, об „узко и обостренно индивидуальных ощущениях“13![]()
![]()
Суть именно в том, что к Хлебникову нельзя подходить “в лоб” и так однозначно, как это иногда делается. Самое простое — зачеркнуть большого поэта, убоявшись “бездны премудрости”, необходимой для того, чтобы разобраться в его сложном духовно-художественном мире. Вс. Иванов, упрекая нашу культуру в невнимании к этому миру и, порой, в желании попросту “списать” Хлебникова из русской литературы “за ненадобностью”, с горечью отмечал:
Н. Асеев, всеведущий знаток поэзии Хлебникова, призывал к поиску и изучению его наследия, к тому, чтобы прежде всего понять и открыть то, что можно назвать “школой Хлебникова”:
Наследие Хлебникова требует глубокого постижения. В этом направлении у нас пока сделаны первые шаги: книги о Хлебникове Н. Степанова17![]()
![]()
„Его творения все еще нуждаются в организации вокруг них “поля понимания” (Ст. Рассадин), того поля, которое так ошутимо, например, при обращении нашей филологии к впечатляюще ясному и сложному испанцу Лорке, но в котором иной раз с порога отказывают незаурядной сложности и ясности русского Хлебникова“.19![]()
Надо прислушаться к великолепному мастеру слова Юрию Олеше: „Я поражаюсь удивительной простоте так называемой непонятности Хлебникова“.20![]()
![]()
„Понять, что было главным для самого поэта...“ В решении этой задачи исследование проблемы “Хлебников и Восток” имеет особое значение. Не только потому, что, как уже отмечалось, интерес Хлебникова к Востоку был константным и по сути всеобъемлющим, а следовательно, социально-эстетический опыт народов Азии и Африки с самого начала стал одной из составляющих духовного потенциала художника. Еще важнее то, что Восток был для Хлебникова одной из составляющих гораздо более грандиозной субстанции, чем его собственное творчество: огромной пространственно-временной частью неразделимого единства — мира, истории, человечества. И той их частью, которая, по представлению Хлебникова, пока еще художественно исследована русской литературой поверхностно и слабо. В статье «О расширении пределов русской словесности» (1913) он не совсем справедливо, но весьма категорично утверждал: Она не знает персидских и монгольских веяний ‹...›, Индия для нее какая-то заповедная роща ‹...› В пределах России она забыла про государство на Волге — старый Булгар, Казань, древние пути в Индию, сношения с арабами; Биармское царство ‹...› Воспет Кавказ, но не Урал и Сибирь с Амуром, с его самыми древними преданиями о прошлом людей (орочоны) ‹...›22![]()
Хлебников, однако, не ставил перед русской литературой ограниченной задачи постижения Востока — он сетует и на слабое проникновение ее в жизнь Польши и Югославии, славянской Генуи и Венеции, рубежа XIV и XV века, где собрались вместе Куликовская, Коссовская и Грюнвальдская битвы. И заключает статью словами: Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым (НП, 342).
Здесь, возможно, ключ к постижению „главного“ в Хлебникове. Мышление его глобально, его взгляд объемлет Землю, а не просто тот или иной ее регион; человечество, а не просто того или иного его репрезента. Поэтому его Восток неотъединим от его Запада, хотя и тот, и другой могут быть “отдельной” темой, местом действия, родиной героя или национальными детерминатами его поведения и характера.
Как в своем словотворчестве Хлебников ищет корни некоего “праязыка” и пути к созданию единого наречья Людей Земли, так и в общественной жизни он ведет поиск историко-культурных доказательств возможности единства народов, способов достижения огромного человеческого «Ладомира» — мира общего счастья и лада. Можно говорить не о материковом, а о “вселенском” художественном сознании Хлебникова, верящего в будущий ладомир. Он не знает и не может знать верных и точных путей к нему, но его мысль — не только когда он создает свои грандиозные поэмы, но и когда ведет “лабораторную” работу над словом — постоянно бьется именно над этим и ради этого: всегда, денно и нощно, ежечасно. Это — не гипербола, это — истина. Достаточно взглянуть на черновики поэта, на эти пожелтевшие гроссбухи, вдоль и поперек испещренные словами, корнями, звукосочетаниями, неологистическими находками, чтобы постигнуть: вся эта непрерывная работа ума была не “штукарством”, а частью гигантской деятельности будетлянина — строителя будущего Земли, размышляющего о ее прошлом, настоящем и будущем, о кровопролитных сражениях полководцев и наций, о муках и трагедиях человеческого непонимания и о вечном сострадании Поэта не к европейцу или азиату — к человеку, носителю мировой культуры, которая не должна погибнуть.
Доказательств этому в архиве поэта — множество. Приведем лишь одно из них — взглянем на несколько страниц из тетради Хлебникова 1907–1910 гг. (из архива М.И. Матюшина). Они испещрены однозвуковыми фонемами, однокорневыми словами, попытками создания новых словообразований; однако этот эксперимент и эти экзерсисы непрерывно перемежаются записями, касающимися не только мотивов и идей творчества тех лет (например, здесь — набросок Обращения училиц Петроградского Всеучбища — одна из тем поэмы «Внучка Малуши»;23![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Этот ветхий гроссбух из архива Матюшина — словно слепок всего творчества Хлебникова: он подобен своеобразному потоку сознания, убеждающему в том, что “раскопки” в древних и современных залежах „словесной руды“, размышления о природе слова не просто параллельны у Хлебникова мыслям о природе человеческого мира; нет, подобный “эксперимент” есть поиск адекватных средств и способов выражения философии поэта, его гуманизма, его исторического и интернационального чувства.
Творческая индивидуальность художника диктовала Хлебникову этот постоянный поиск-эксперимент. Но не трюк.32![]()
Не потому ли в этой ранней черновой тетради так остро и пронзительно звучит еще один мудрый неологизм поэта: И вселенноногая печаль....33![]()
Художественный ориентализм Хлебникова — это не просто тема, предмет временного увлечения или “продолжение” “калмыцкого” периода биографии поэта. Восток для Хлебникова — это один из древнейших очагов той самой мировой культуры, которая единственно способна, по его убеждению, спасти мир от уничтожения в величайших катаклизмах вооруженных народов. Глубже многих своих современников Хлебников ощущал и историческую связь с Востоком своей родины — России, издревле стоявшей на перекрестке Европы и Азии, но воспринимавшейся поэтом не как “щит” Запада в его борьбе с Востоком, а как средоточие материкового мозга, способного расширить пределы не только своей словесности, но и всей мировой культуры благодаря положению “связника” и посредника между Западом и Востоком.
Путь Хлебникова к этой идее был длительным и полным ошибок и напряженных поисков. Чтобы понять этот путь, необходимо отступить от непосредственного предмета исследования и в самом сжатом виде представить проблему “Россия и Восток” в ту эпоху, когда формировался художественный ориентализм Хлебникова.
Конец XIX – начало XX века — время ожесточенных споров о месте России по отношению к миру. Проблема “Запад — Восток” также составляла важную грань этих споров и прежде всего самого “статуса” России, по-разному воспринимавшейся самими русскими. Речь идет о статусе не столько региональном, сколько духовном; в широких кругах русской интеллигенции этот вопрос дебатировался и раньше, особенно остро разделяя “западников” и “славянофилов” послепушкинской поры. В интересующее нас время проблема России как репрезента Запада или Востока также была связана с бурным всплеском неославянофильства, — с именем Вл. Соловьева и его программными стихотворениями «Ex oriente lux» и «Панмонголизм». Здесь Россия безоговорочно рассматривалась как носитель “света с Востока”, но Востока не Ксеркса, а Христа34![]()
Подобное восприятие России зиждилось на утвердившемся ранее тезисе славянофильской философии: Восток — „это значит: не Китай, не исламизм, не Татары, а мир Славяно-православный, вызванный к сознанию своего единства и своей силы явлением Русского государства. В отличие от него Запад — значит мир Романо-Германский или Католическо-Протестантский“.35![]()
![]()
Еще в первой трети XIX столетия утвердилась и прочно овладела сознанием многих представителей русского искусства иная, противоположная точка зрения, особенно четко выраженная Белинским: „Россия ‹...› принадлежит к Европе и по своему географическому положению, и потому, что она держава христианская, и потому, что новая ее гражданственность — европейская, и потому, что ее история уже слилась неразрывно с судьбами Европы“.37![]()
![]()
![]()
![]()
К началу XX века подобное восприятие России как особого исторического явления, находящегося на стыке Запада и Востока, обретает все возрастающую актуальность. „Россия, — справедливо отмечал Л. Долгополов, — вырисовывается теперь в сознании писателя как пограничная страна, расположенная — и с географической, и с нравственно-психологической точки зрения — на пересечении двух противоположных тенденций мирового исторического развития — “западной” и “восточной”. Проблема России становится мировой проблемой; ее судьба приобретает значение всемирно-историческое“.41![]()
В решении вопроса о соотношении “западного” и “восточного” русская творческая интеллигенция прошла различные стадии развития: от их противопоставления (тезис Вл. Соловьева) к идее отрицания их роли в духовном движении России и мира (А. Белый: „Запад смердит разложением, а Восток не смердит только потому, что уже давным-давно разложился!“42![]()
![]()
Разделяя мнение Белинского о том, что Россия „принадлежит к Европе“, многие русские поэты начала XX века в гораздо меньшей степени отделяют ее от Азии, от истории, философии, религии, искусства Древнего и Нового Востока, составляющего, по выводам многих, не только “внешнюю”, но в определенной степени и внутреннюю среду общества (составной частью которого давно уже стали Кавказ и Закавказье, Средняя Азия и казахские степи, приволжские и сибирские восточные народности, племена Дальнего Востока и Азиатского Севера) — среду, все в большей мере оплодотворяющую русскую духовную жизнь.
Велимир Хлебников, пройдя весьма сложный путь от раннего славянофильства к “пушкинской” идее России — страны-посредника, даже в самом начале творческого пути не разделял исторического пессимизма Вл. Соловьева и А. Белого, считавшего и Запад и Восток силой “искусственной”, мертвящей для России, предназначенной к своему, “внезападному” и “вневосточному” развитию. В частности, социально-эстетический опыт народов Востока был той важной почвой, на которой возрастал не просто хлебниковский художественный ориентализм, но и весь философско-концептуальный мир Хлебникова, приведший его к приятию Октября и поискам возможностей действенного участия в революционных событиях на Востоке.
Общее отношение демократической России начала XX века к Востоку — огромный интерес, поиск духовных контактов, утверждающее понимание человеческого единства культур и права каждой из них на национальное самоопределение — все это, тесно связанное с общими тенденциями и путями развития русского социума эпохи двух революций, составляло важнейшие детерминаты формирования хлебниковского мира; сжатое изложение некоторых значительных явлений, способных помочь ощутить масштабы и горизонты взаимодействия русского общества с Востоком в 1890–1910 годы, представляется поэтому необходимым.
Отношение России к Востоку, как и все кардинальные идеологические вопросы, нужно исследовать, исходя из методологически выверенной формулы В.И. Ленина о двух нациях в каждой нации. Другими словами, поскольку было две России — буржуазная и демократическая — было и два различных подхода к проблемам Востока, взаимодействия с его народами, два отношения к их истории и социально-эстетическому опыту, к их будущему.
Начало XX века отмечено особым вниманием В.И. Ленина к судьбам Востока. В эти годы им изучены книги Йорка фон Вартенбурга «Проникновение Российской державы в Азию» (Берлин, 1900), Керзона «Россия в Центральной Азии» (Лондон, 1889), Абазы «Завоевание Туркестана» (СПб, 1902), Отто Гетча «Русский Туркестан и тенденции русской колониальной политики» (Лейпциг — Мюнхен, 1913), Т. Седельникова «Борьба за землю в Киргизской степи» (СПб., 1907), Т. Егера «Персия и персидский вопрос» (Веймар, 1912), Н. Остроумова «Коран и прогресс» (Ташкент, 1903) и др. Часть их законспектирована Лениным, чьи заметки и записи на полях раскрывают необыкновенную масштабность и социальную точность характеристик и оценок процесса взаимоотношений России и Востока.44![]()
![]()
Материалы и документы начала века свидетельствуют о точности этой характеристики. Стоит лишь перелистать подшивки газет и журналов той поры, чтобы ощутить мощное движение русского капитализма на Восток — в Азию, Африку, Индию, другие ориентальные регионы.
Обширная переписка Победоносцева с Александром III по поводу строительства русских железных дорог в странах Востока, развития русско-восточной торговли, возможностей “обскакать” англичан, рвущихся в страны Ближнего и Среднего Востока, в Индию, изобилует откровенными признаниями: „Владеть железными дорогами на Востоке — значит владеть фактически страною“46![]()
![]()
Книги, статьи, заметки, рецензии в русской прессе конца XIX — начала XX века с большей или меньшей степенью завуалированности раскрывают те же цели проникновения русского капитала в Среднюю Азию,48![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Скрытые за красивыми фразами планы экономической экспансии на Восток, “культурного” колонизаторства сменялись в литературе и периодике начала века весьма циничными откровениями завоевателей. Так, в 1904 г. в Курске вышла книга «Китай и мы», в рецензии на которую «Вестник Европы» писал о „явном душевном расстройстве“ ее автора, „воздыхающего по нашим патриархальным временам“. Негодование рецензента понятно: в книге утверждалась необходимость „пока не поздно взять и поделить Китай с народами белой расы“,54![]()
Не менее жестоко было отношение буржуазной России к малым восточным народам “внутри” государства — к так называемым инородцам, большинство которых было обречено на вымирание. „Исторически проверенные факты гласят, — отмечал журнал «Жизнь» в 1897 г., — что инородцы начинают исчезать везде, как только на них надвигаются цивилизованные народы“.55![]()
![]()
![]()
![]()
“Мы не можем более относиться безучастно к судьбе инородцев и к инородческому вопросу ‹...›”,59![]()
Немало русских демократических деятелей литературы и искусства в начале XX века ощущало то, о чем в свое время точно сказал Энгельс, касаясь в известном письме к Марксу вопроса об исторически “прогрессивной роли” России „по отношению к Востоку“.60![]()
![]()
Резко осуждая экономическую и духовную экспансию русского капитала, его ориентально-колонизаторскую жестокость, русская интеллигенция видела объективную связь этих явлений с движением прогрессивной мысли России на Восток, резко отделяя в своем сознании бесчеловечную буржуазную цивилизацию от подлинной человеческой культуры, власть капитала от духовного взаимотяготения народов. В письме к Сунь Ят-Сену (1912) Горький, обращаясь к адресату с просьбой написать о том, как „относится китайский народ к завоевательным стремлениям европейского капитала вообще и, в частности, — как относится он к действиям русских капиталистов“, при этом добавлял: „В мире существует вражда правительств и не должно быть вражды народов“.62![]()
Этот тезис был главным внутренним импульсом многих русских литераторов, даже тех, кто не во всем разделял политические позиции Горького. Лучшие люди эпохи содействовали активному движению русской прогрессивной культуры на Восток, ощущая в то же время все возрастающее “обратное” движение древних восточных культур на Запад, к “всемирно отзывчивому” народу России. Именно с этим взаиморазвитием была связана в художественном сознании Горького, как и Брюсова,, Блока, Бунина, Хлебникова, мысль о том, что „в мире ‹...› не должно быть вражды народов“. Отмечая, что открытие античности и Америки были важными вехами приобщения Европы к мировой культуре, Стефан Цвейг в своей статье «Драматизм “Тысячи и одной ночи”» справедливо подчеркивал: „Открытие Востока — последний из трех этапов грандиозного расширения европейского кругозора ‹...› Трудно даже понять, почему оно совершилось так поздно, — это открытие Востока для Европы. Все, что лежит к Востоку, веками было для нас окутано тайной; с Востока — из Персии, Японии и Китая — поступали лишь недостоверные сведения ‹...›“63![]()
В последней фразе Цвейга в какой-то мере кроется и ответ на поставленный им вопрос. И хотя в понятие “Восток” он, естественно, включает и Россию, скрытую от Запада „нелепым туманом отчуждения“, мысль его оставалась верной и по отношению к самой России, воспринимающей себя как Запад по отношению к названным им регионам. Еще в 1854 году в рецензии на одну из книг О. Сенковского «Библиотека для чтения» отмечала, что для Востока „Запад — такая же сказка, как Восток — доныне сказка для Запада“.64![]()
При всех сдвигах в сторону „расширения европейского кругозора“ и усилении культурных связей России с Востоком в конце XIX — начале XX века в русской периодике и литературе этой поры продолжают раздаваться сетования на “загадочность Востока”,65![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Жажда духовного познания Востока всегда была в России огромной. Энциклопедист Брюсов, рассуждая о том многом, что ему известно, вместе с тем сетовал на то, что существуют „целые миры“, о которых он „едва наслышан“: „древний Египет, Индия, государство майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью“.73![]()
Восток „с его удивительной жизнью“ влек к себе Чехова, жажду познания которого не насытило путешествие на Сахалин. По словам Бунина, Чехов полагал, что писатель должен быть „сказочно богат“ — но лишь для того, чтобы „он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света ‹...›, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи“.74![]()
![]()
Весьма целеустремленно и плодотворно знакомился с Востоком Бунин: впечатляющий список его путешествий в Турцию, страны Ближнего Востока, Северной Африки, на Цейлон, Кавказское и Крымское побережье Черного моря подтверждает слова писателя о владеющей им страсти „неустанных скитаний и ненасытного восприятия“.76![]()
![]()
![]()
Это „наследственное тяготение“ было свойственно большинству деятелей русской гуманистической культуры. В. Верещагин писал И.Н. Крамскому: „Хочу объехать Амур, Японию, Китай, Тибет и Индию ‹...›“.79![]()
![]()
![]()
Это становится внутренней духовной необходимостью для многих в России. К.А. Куприна вспоминает, что близкий друг ее отца художник П.Е. Щербов и его друг журналист А.А. Чикин совершают в 90-е годы „большое путешествие: Дальний Восток, Африка, Персия, Яффы, Порт-Саид, Аден, Занзибар, Килиманджаро ‹...›“.82![]()
![]()
О „прирожденном устремлении в какую-то неведомую страну“ и о попытке убежать „в какую-то Азию“84![]()
![]()
Кругосветные вояжи русских путешественников конца XIX — начала XX века, их путевые записки привлекают всеобщее внимание; журналы охотно публикуют эти записки с продолжением, как приключенческие повести; заголовки глав звучат для многих не просто как экзотически-заманчивые призывы к познанию восточного мира, но и как поразительные откровения об этом мало знакомом мире.86![]()
Неожиданным для многих становится прежде всего смешение понятий: оказывается, не старая Европа родина античности, а Древний Восток воспринят русскими путешественниками как колыбель цивилизации. Таковы, например, путевые очерки А. Краснова, так и именуемые: «Из колыбели цивилизации. Письма из кругосветного путешествия».87![]()
![]()
Подобные суждения не случайно вызывают в памяти превосходные ориентальные стихи, очерки, полотна крупных русских художников: путевые наблюдения российских путешественников часто не были дневниковыми записями любознательных туристов: они почти всегда несли в себе мысль, обобщение, дух проникновения за ту черту, перед которой обычно останавливались обладатели “куковского” билета кругосветных путешествий, рвавшихся на экзотический Восток.
Это позволяло не только преодолеть пропасти незнания, но и делать серьезные шаги к тому глубокому постижению Востока, которое создало в России начала XX века своеобразную питательную среду для развития мощной струи тонкого художественного ориентализма Бунина и Рериха, Брюсов а и Врубеля, Блока и Стравинского, Бальмонта и Бенуа, Верещагина и Хлебникова.
Важной и весьма существенной частью этой среды было и довольно широкое знакомство русской интеллигенции конца XIX — начала XX века с внутренней духовно-философской и религиозной жизнью Востока.
Огромный интерес к индуизму, буддийскому учению, конфуцианству, синтоизму, исламу и т.п. засвидетельствован множеством фактов. В своей известной поэме о раннем Маяковском Н. Асеев, отмечая характерные штрихи и детали русской духовной жизни начала века, не случайно, среди прочего, упоминает „индусских учений обложки в витринах“89![]()
Восточные философские и религиозные системы, преломляясь в острых коллизиях российского общественно-литературного бытия, становятся в 1880–1910 годы основой различных по значению и уровню, но весьма симптоматичных поэтических творений И. Анненского,90![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Образы и формулы, ономастика и символика древневосточных сакрально-философских постулатов становится в эту пору органичным лексическим, терминологическим, художественным фондом мыслящей России, так или иначе ассоциируясь с современностью и выражая ее. С. Городецкий пишет Блоку: „Вам предстоит стать Буддой, Магометом. Иисусом, т.е. создать моральную систему ‹...›, или субординироваться под какую-нибудь из существующих моралей“106![]()
![]()
![]()
![]()
О различных восточных философских системах, идеях, вероучениях и их основателях появляются десятки книг, очерков, статей, ведутся споры о их значении для развития мировой культуры, их понимании и художественном преломлении, их роли в обогащении русской национальной духовной жизни или их отвержении как не дающих верных путей к истине. Информативные обзоры110![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Рамки нашей работы не позволяют подробно рассмотреть причины столь широкого интереса к философским и сакрально-мифологическим течениям Востока в России конца XIX — начала XX века; отметим лишь главное: диспропорцию (а точнее, обратную пропорциональную зависимость) между техническим прогрессом — и культурой; буржуазной цивилизацией — и гуманизмом, моралью, этикой; диспропорцию, все возрастающую в капиталистическом мире XX столетия и имплицирующую поиск в прошлом иной, более человечной цивилизации. Естественно, обращение в этом плане к учениям Востока было лишь иллюзией выхода; однако оно создавало определенное впечатление Пути к преодолению (пусть в узких религиозных рамка ориентальных школ) таких тенденций капиталистической “цивилизации”, как расизм, европоцентристская ограниченность, холодный рационализм и эгоцентрическое мещанское самодовольство, возведенных в ранг философских систем и во многом знаменующих кризис буржуазного сознания. В этой ситуации известный крен демократической интеллигенции России (и не только России) в сторону восточных религиозно-философских систем, трактовавших онтологические проблемы с позиций естественного равенства, стихийного гуманизма и необходимости совершенствования личности и мира, становился своеобразной формой нравственного протеста против социального, духовного, национального порабощения, связанных с наступлением капитализма. При всей сакральной “всеблагости” этих учений они стояли ближе к человеческому сердцу, совести, разуму, чем “культура” буржуазной Европы. Не случайно почти все крупнейшие мыслители и художники конца XIX — начала XX века испытывали серьезное тяготение к той или иной школе Востока — индуизму, даосизму, конфуцианству и в особенности к какой-либо разновидности буддизма. Не избежал, как увидим, ощутимого воздействия некоторых идей буддизма (в частности, чань-буддизма) и Велимир Хлебников, в поэзии которого слышны мифологические отзвуки и других восточных учений, чаще всего эстетически переосмысленных и “перевоссозданных” художником.
Глубокое внимание русской поэзии к Востоку проявлялось, в частности, в постоянном художественном “исследовании” эстетического мира народов Азии и Африки, — великого наследия их классики, мифологии, фольклора. Начатое в предшествующие десятилетия, оплодотворенное художественной практикой Пушкина и поэтов его плеяды, Лермонтова, Фета, это движение к „сердцам восточных братьев“, к постижению их эстетического арсенала в эпоху Хлебникова стало особенно бурным, хотя большинство ориенталий, обращенных к мотивам восточной мифологии и фольклора, к темам или формам восточной поэзии, были данью моде. Лишь у глубоких мастеров слова, к числу которых, бесспорно, относился и Хлебников, этот поиск в сокровищнице эстетического наследия Востока был органичным и плодотворным.118![]()
Рассматриваемая эпоха — это время, когда в русском искусстве шли особенно напряженные поиски исторически сложившегося национального сознания народа и закономерностей его единства с человеческим многообразием мира. И в этих поисках обращение к мифологии и народному творчеству Востока, к его классике было одной из граней глубокого постижения истории и современности, Востока и Запада, пробуждающихся к грандиозным схваткам с вековечным злом. Как показывают даже самые сжатые обозрения русской ориентальной поэзии, этот процесс, сублимируемый всем ходом национальной истории и демократической культуры России, в течение XIX века шел по восходящей, закономерно достигая высших точек развития именно в эпоху Хлебникова, в чьей поэзии мифологические и фольклорные представления, образы, мотивы народов и великих поэтов Востока преломляются особенно своеобразно и глубоко.
Завершая обзор многообразных связей России и Востока в сложный период истории русского общества и словесности — в пору, применительно к проблемам нашей работы названную нами “эпохой Хлебникова”, — отметим, что многое из рассмотренного нами выше осталось за рамками непосредственного внимания и творчества художника. Однако все это, взятое как исторический процесс, не могло прямо или опосредованно не воздействовать на художественное сознание личности, ищущей духовных связей с миром Востока и подготовленной к их восприятию всем ходом своего развития.
Для нас важно было показать не только то, что вошло. в мир Хлебникова и художественно запечатлелось в нем, но и то, что осталось за его пределами. Такой взгляд помогает вскрыть с большей степенью точности вектор движения Хлебникова-“ориенталиста”; но он позволяет заметить и известную отграниченность этих поисков от многих конкретных и важных экономических, политических, социальных проблем, касающихся сложных взаимоотношений России и Востока. Подобная отграниченность не могла не повлиять на степень действенности того явления, которое мы условно именуем “художественным ориентализмом” Хлебникова.
Вместе с тем сильные стороны этого явления рельефно выражают глубину философско-эстетических устремлений Хлебникова, опирающегося в своем движении “к Востоку” на социально-эстетический опыт народов мира, на пушкинскую гуманистическую концепцию “всемирной отзывчивости” — на те демократические элементы национальной и инонациональной культуры, которые были впитаны им с детства и составляли основу его художественного сознания.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 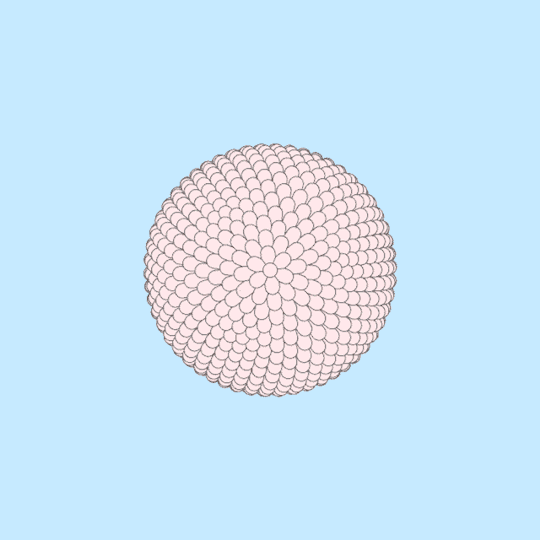 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||