


Если можно говорить о “предопределении” — как о судьбе художника, то Восток был как бы “запрограммирован” в самой природе хлебниковского таланта — мысль, уже получившая достаточно обоснованную аргументацию.1![]()
Семейные апокрифы и признания самого Хлебникова по-разному раскрывают его родословную, не ставя, однако, под сомнение сам факт его русско-восточного происхождения.
В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие)‹...›, — писал Хлебников, называя последних особой породой, от которой пошли великие искатели земель, пролагавшие пути на Восток (Пржевальский, Миклуха-Маклай и другие ‹...›) (НП, 352). Эту биографическую запись подтверждают воспоминания В. Земацки, добавляющего еще одну возможную — грузинскую — ветвь в хлебниковское генеалогическое древо: „Происходил он, по его словам, от одного из первых русских насельников Астраханского края ‹...›, женатого на армянской (или грузинской) княжне“.2![]()
Помимо того, по свидетельству двоюродной сестры поэта М.Н. Качинской (в письме к А.Е. Парнису), „у Хлебникова по материнской линии была цыганская кровь“.3![]()
На этой ориентальной генеалогии Хлебникова можно было бы и не останавливаться столь подробно, если бы не постоянное и весьма обостренное внимание самого поэта к своей восточной родословной, ощутимое и в автобиографических заметках, и в письмах, и в беседах с не столь уж близкими людьми.4![]()
Вторым миром, определившим ориентальное направление духовно-художественного развития будущего поэта, была среда, окружавшая его с рождения:
Автобиографическую заметку 1914 года Хлебников начинал весьма знаменательно: Родился 28 октября 1885 в стане монгольских исповедующих Будду кочевников — имя “Ханская ставка”, в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря ‹...› (НП, 352). Даже сам по себе необычный, насыщенный ориентальными лексемами состав этой первой фразы хлебниковской автобиографии (“монгольские”, “Будда”, “кочевники”, “Ханская ставка”, “в степи”, “Каспийское море”) призван погрузить наше сознание в особый, своеобразный, ни на что не похожий мир раннего детства Хлебникова. Здесь все должно не просто подчеркнуть восточную принадлежность места рождения поэта, но и дать ощутить глубокие исторические, мифологические, психологические детерминаты его связи с Востоком.
В дополнительных сведениях (1917) к прежней анкете Хлебников отмечал: Я родился ‹...› в урочище Ханская Ставка калмыцкой степи, или на морской окраине России вблизи устья Волги (5, 280). Определение калмыцкой, так же как и упоминание о Волге и России, здесь не случайны. Как убедительно показал А.Е. Парнис, Хлебников „ощущал свой родной край местом эмблематической встречи Европы и Азии, цивилизации и кочевья, славянской и восточной, в частности калмыцко-монгольской, традиций и, наконец, местом, где встречаются четыре стихии — пустынная, степная, водная и лесная“.6![]()
Юношеский, студенческий период биографии Хлебникова, несмотря на его отъезд из Калмыкии, все же свидетельствует о развивающихся его устремлениях к восточному миру. Прежде всего это связано с пребыванием в Казани (1898–1908) — городе, где, как и в знакомой Хлебникову Астрахани, господствовала все та же русско-восточная онтологическая, речевая, духовная стихия. За это время Хлебникову довелось побывать и в Дагестане (1903) в составе геологической экспедиции; гунибские впечатления впоследствии легли в основу некоторых значительных произведений, где с достоверностью очевидца воссозданы ущелья, скалы, люди горного края. Впоследствии, когда Хлебников вновь попал в эти места, он чувствовал себя здесь, как дома. Современница вспоминает: „Очевидно, в нем было какое-то обаяние для обитателей этих диких горных гнезд, потому что, по его рассказам, его так же хорошо и даже особенно хорошо встречали в Гунибе“.7![]()
Русско-японская война наложила отпечаток на отношение Хлебникова к Японии; однако, несмотря на свои несколько узкие национальные взгляды (о их проявлении в поэзии Хлебникова будет рассказано ниже), он не теряет интереса к восточной, в частности, японской духовной культуре. Н. Харджиев приводит воспоминания гимназического товарища Хлебникова — Б.П. Денике: „Летом 1904 года студент Хлебников жил в селе на берегу Волги, один в избе ‹...› Приходя к нему в избу, я часто заставал его за изучением японского языка. — Я ищу в нем особых форм выразительности, — объяснил мне Хлебников ‹...›“.
Далее Н. Харджиев справедливо отмечает: „К сожалению, мемуарист совершенно не касается своих взаимоотношений с Хлебниковым. Между тем Б.П. Денике, несомненно, интересовал поэта как историк восточного искусства, о котором они могли беседовать еще в “казанский” период“.8![]()
Это предположение подтверждается многочисленными биографическими данными. В частности, весьма существенно, что увлеченный вначале математикой и естественными науками и достигнув на этом поприще значительных успехов, Хлебников после нескольких курсов математического и естественного отделений Казанского и Петербургского университетов переводится (1909) на факультет восточных языков „по разряду санскритской словесности, а вслед за этим переходит на 1-й курс славяно-русского отделения историко-филологического факультета“ (1, 9). Как видим, поиски Хлебникова постоянно включали в себя Восток; ориентальный мир был частью его жизненной программы, что наиболее рельефно выразилось в более позднем (1913) письме к А. Крученых. Наиболее часто цитируемая часть этого послания составляет своеобразный план, к выполнению которого Хлебников неуклонно стремился:
В этом своде любопытных задач (определение самого Хлебникова) важно отметить недискретное восприятие Запада и Востока; здесь отчетливо видно стремление постигнуть историю, мифологию, духовно-художественное многообразие мира в единстве и целостности человеческой культуры. За кратким жеречнем встает огромная цель: сделать достоянием творчества живую жизнь Земли — людей и божеств, растений и созвучий, языков и поэзии, прошлого и будущего Запада и Востока. Эта программа, как мы убедимся, во многом была выполнена Хлебниковым. И живое постижение Востока было одним из важных оснований его всеобъемлющей эрудиции и возможности заглядывать в своих стихах в русский, индийский, монгольский, японский, арабский, иранский, азербайджанский миры, чтобы создать свою “энциклопедию” западно-восточного бытия в пространстве и времени.
Исследователи учли и описали почти все восточные путешествия Хлебникова. Показано значение его постоянных наездов в Астрахань, позволяющих не прерывать связей со “степным” миром его детства,9![]()
Во всяком случае ни первый публикатор и комментатор Хлебникова Н. Степанов, ни составители «Неизданных произведений» Н. Харджиев и Т. Гриц, ни составители наиболее полного собрания сочинений Хлебникова В. Марков и А. Парнис (Мюнхен, 1968–1972) не отмечают факта пребывания Хлебникова на Востоке летом 1909 года. Между тем этот факт имеет немаловажное значение для понимания общей эволюции художественного ориентализма Хлебникова, ибо, как мы убедимся, впрямую связан с возникновением глубокой и имеющей “продолжение” восточной темы в поэзии Хлебникова.
Публикатор многих писем Хлебникова этой поры Н. Харджиев полагал, что все лето 1909 года Хлебников провел в Святошине, под Киевом. Комментируя письмо к В. Каменскому от 10 января 1909 г., посланное Хлебниковым из Святошина, Н. Харджиев отмечал, что в мае поэт вернулся оттуда в Петербург, а 10 июня вновь выехал на Украину, где провел полностью летние каникулы (июнь–август) (НП, 469).
Автор примечаний прошел мимо шутливой фразы Хлебникова (из письма тому же В. Каменскому от 8 августа 1909 г.), дававшей возможность усомниться в категоричности подобного вывода. Странная фраза эта гласила: Лето я провел в плену “бесерменском полоне” (НП, 357). Совершенно очевидно, что слово бесерменском (конечно же, обозначавшее “басурманском”) намекало на пребывание Хлебникова где-то на Востоке.10![]()
Где именно? И можно ли понять в таком смысле слова о бесерменском полоне летом 1909 г.?
Ответ на эти вопросы дает сам Хлебников. В его архиве (ЦГАЛИ) нами обнаружена открытка, отнесенная архивистами к 1909 году и адресованная сестре в село Дурасовку Уфимской губернии, где Вера Владимировна, очевидно, проводила лето. Текст краткого послания Хлебникова гласит: Я здоров; купаюсь в море. Ловлю рыбу. Я доволен тем, что поехал сюда. Погода хорошая.11![]()
![]()
Поскольку 10 июня Хлебников был еще в Петербурге (этим днем датировано его письмо Вяч. Иванову (НП, 355), а 8 августа пишет В. Каменскому уже из Святошина (НП, 355), его пребывание в бесерменском полоне, видимо, следует отнести к июлю 1909 года.
Где же именно был Хлебников? Обратный адрес на открытке сестре гласит: Петровск, Барятинская ул., дом Васнецова, кв. Дворкина.13![]()
Таким образом, поездку на Каспийское побережье (стык Дагестана и Азербайджана) летом 1909 года можно считать точно установленным фактом биографии Хлебникова. Это проливает новый свет как на общие связи поэта с “живым” Востоком, так и, в особенности, на его внимание к материалу, положенному им в будущем, 1910, году в основу поэмы «Медлум и Лейли», написанной прежде всего на основании знакомства с известным сюжетом Низами. Можно полагать, что поэма Низами «Лейли и Меджнун» (отдельные мотивы и главы которой пелись, распространялись, как фольклор, и составляли как бы воздух тех мест, где провел часть лета Хлебников) именно здесь могла заронить в душу русского поэта те зерна, которые через короткое время проросли в его первой восточной поэме 1910 года.
„‹...› Хлебников был всегда в пути, он не знал оседлости. Он считал, что путь мыслящего россиянина идет на Восток ‹...›“14![]()
![]()
![]()
Через 30 лет после приводившегося нами письма-программы Хлебникова, после его требования проникнуть, наконец, в суть персидских и монгольских веяний, в старый Булгар, Казань, древние пути в Индию, постигнуть и воплотить сношения с арабами, воспеть не только Кавказ, но и Урал и Сибирь с Амуром, с его самыми древними преданиями из ориентально-мифологического фонда, обратить внимание на великий рубеж 14 и 15 века, в частности, на Куликовскую битву (НП, 341–342) — через 30 лет после этой новой, еще более широкой программы-перспективы, относящейся уже не только к самому Хлебникову, но ко всей отечественной литературе, академик Алексеев в своей речи перед востоковедами отметил: „Культурные миры требуют комплексного изучения: индийский — иранский — китайский — арабский — кавказский — еврейский — среднеазиатский“.17![]()
![]()
Здесь сопоставлены явления разного времени и разного порядка; возможно, такое сопоставление несколько “некорректно”; однако оно может дать возможность в какой-то мере постигнуть высоту нравственного духа и глубину духовного подхода Хлебникова к ориентальному миру в его исторических, социальных, культурных связях с Западом, с Россией, ее словесностью, воспринимавшейся Хлебниковым как совесть нации.
Если “по вертикали” арена действия хлебниковской поэзии — вся человеческая история, то “по горизонтали” — весь мир. И во временном, и в пространственном планах Восток занимает в творчестве Хлебникова огромное место, масштабность его ориентально-художественного мира передает и степень эрудиции поэта, и его стремление к “комплексному” воспроизведению “культурных миров” человечества. Имена, реалии, детали, символы, термины Востока, реминисценции из его великих поэтов, сюжеты различных восточных мифологий и классических поэм, история западно-восточных конфронтации, попытка угадать, прозреть движение времени через сонмы действительных фактов, дат, числовых кодов, касающихся в наиболее значительной степени именно Востока, — все это у Хлебникова не “фон”, а строй мышления личности, для которой Восток — понятие не “внешнее”, а “внутреннее”, воспринимаемое как органичный пласт художественного сознания поэта.
С. Мирский в монографии «Восток в творчестве Велимира Хлебникова» отмечает необыкновенную широту хлебниковского ориентального мира: „Число стихотворений Хлебникова, которые связаны с азиатскими и квази-атскими областями России (т.е. областями, принадлежащими Европе по их географическому положению, но заселенными населением азиатского происхождения, как, например, дальние районы Нижней Волги), очень велико. Но Хлебников не удовлетворяется изображением этих знакомых ему с детства мест, а идет много дальше и включает в свое творчество исторический материал, который распространяется даже за пределы связей России с ее азиатскими окраинами: он ведет в Персию, в Индию, в Японию и в Африку“.19![]()
Чтобы в какой-то мере представить себе широту хлебниковской ориентальной эрудиции и то место, какое занимал Восток в его памяти и представлениях о мире, приведем таблицу из трактата «Учитель и ученик» (1913), где один из участников диалога стремится показать, что существует некий точный “срок”, разделяющий падения государств:
| Испания | 711 | Египет | 672 |
| Россия | 1237 | Карфаген | 146 |
| Вавилон | 587 | Авары | 796 |
| Иерусалим | 70 | Визинтия | 1453 |
| Самария | 6 по р.х. | Сербия | 1389 |
| Индия | 317 | Англия | 1066 |
| Израиль | 723 | Корея | 660 |
| Рим | 476 | Индия | 1858 |
| Гунны | 142 | Индия | 1526 |
| Египет | 1517 | Иудея | 134 |
| Персия | 226 | Корея | 1609 |
Не вдаваясь в суть неплодотворных попыток Хлебникова установить числовой код (5, 178) к истории и судьбе государств и наций, отметим в данном случае, что из 22 поименованных национальных сообществ почти три четверти перечня составляют государства восточных регионов: помимо того, на ближайших страницах трактата упомянуты монголы, половцы, турки, арабы, татары (Куликовская битва), Тамерлан, Баязет, Босфорское царство, Китай, Япония, причем историко-географические познания Хлебникова, в отличие от его математических экзерсисов, покоятся на подлинных фактах и глубоком изучении реального развития мира, в частности истории Востока.
To же можно сказать и о художественном творчестве Хлебникова. В его «Детях Выдры», например, действуют арабы, индийцы, армяне (Зоревенд из Мазандерана), племена тюрков, вендов (сарматов, абхазов, населявших Дагестан и Ширван), люди страны Берда’а — предки нынешних азербайджанцев; здесь упомянута дорога старых персиян, разноплеменная армия Александра Македонского и столь же многонациональное войско Дария; в одном из парусов (глав) мы переносимся в эпохи русско-татарских сшибок, в другом — на Кавказ, к берегам Терека, в Грузию; мифический герой поэмы — Сын Выдры думает об Индии на Волге; он говорит: „Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукой осязаю каменные кудри Индии“ (2, 148). Поэма «Медлум и Лейли» воспроизводит фабульные коллизии Низами, восходя, возможно, и к другим восточным версиям известного сюжета. В ряде произведений мы переносимся в Индию, Египет, Среднюю Азию и на Ближний Восток, в Африку, на Северный Кавказ и в Закавказье, в Башкирию, калмыцкие степи, на Дальний Восток — в мир орочонской мифологии, во времена битв Святослава с печенегами и Дмитрия Донского с Мамаем, в современный конфликт России и Японии… Перечень этот составить гораздо легче, чем назвать восточный регион или народ, не ставший в той или иной ипостаси, в том или ином ракурсе не просто “материалом” или “фоном”, но фактически органичной художественной средой или зерном важной характерологической, сюжетной, идейной линии хлебниковской лирической и эпической поэзии.
Но главное в художественном ориентализме Хлебникова, конечно, не пространственно-временная масштабность (хотя она впечатляет), а масштабность духовно-художественная. Исследование ее и составляет задачу настоящей монографии, охватывающей пока лишь дооктябрьский период творчества Хлебникова, когда художественный ориентализм поэта претерпел известную эволюцию, которую мы попытаемся показать в конкретных разборах и анализах. Конечно, следует сразу отметить, что наиболее мощный качественный скачок “ориентальной” поэзии Хлебникова связан с эпохой Октября: поэт, проживший после 1917 года лишь 5 лет, создал в течение этого краткого времени целый мир ориентально-художественных открытий, исследование которых — задача будущей нашей книги. И все-таки начало этих открытий, если говорить о становлении и развитии хлебниковской западно-восточной концепции, лежит в тех пластах художественного сознания поэта, которые складывались в пору создания его восточной лирики и эпоса предоктябрьской эпохи и сыграли немаловажную роль в безоговорочном приятии им революции и верном служении ей. Тем более понятен и значителен интерес к этому этапу творческого пути художника, открывавшего — вслед за Пушкиным, Лермонтовым, Полонским, Фетом, рядом с Буниным и Брюсовым — “свой”, по слову Блока, Восток20![]()
Каков же он — Восток Велимира Хлебникова? Думается, дать полный ответ на этот вопрос в рамках одной книги весьма трудно. Сегодня все еще идет процесс постепенного научного освоения этой сложной и многогранной проблемы, в котором участвуют хлебниковеды не только нашей страны (Ю. Тынянов, Н. Степанов, Н. Харджиев, А. Парнис, Вяч.Вс. Иванов, Ю. Лощиц, В. Турбин, В. Григорьев, Р. Дуганов и др.), но и Европы и Америки (В. Марков, С. Мирский, Р. Вроон, X. Баран и др.).21![]()
Интернационально-гуманистическая концепция Хлебникова сложилась в тяжкой борьбе не только с установленными официальными догмами национального сознания самодержавной России, но и с собственными узконациональными умонастроениями молодого поэта; потребовались годы, чтобы возник светлый западно-восточный мир «Медлума и Лейли», «Детей Выдры», «Хаджи-Тархана», в котором не могут существовать друг без друга западная и восточная звезды, а мусульмане — те же русские ‹...› В 1905–1908 гг. перед нами часто возникает воинствующий “патриот”, взывающий к изначальной силе славянской с призывом родить иную, “чистую” кровь, чтобы в веках раздался “запев”: „Славь идет!“: Иной роди, иной крови, иной думи, иных речей, иных бытей. — // Инобыти (2, 23).
Славянофильство Хлебникова имеет здесь явную “антизападную” направленность («Протянул бы на Запад клянущую руку...»), причем символом Запада выступают немцы: Напор славы единой и цельной на немь (2, 23). Аналогично в воззвании к славянам (1908): Разве мы не понимаем события как воодушевленную борьбу между всеми немцами и всеми славянами? Разве мы не ответим на вызов, который немецкий мир противопоставляет славянскому?22![]()
Однако было бы опрометчиво рассматривать славянофильские настроения Хлебникова столь односторонне. Утверждение самобытности славянства поэт проводил и через отрицание Востока, порой принимавшее в его ранних стихах довольно враждебные формы.
Политическая незрелость сознания Хлебникова была внутренней причиной этого процесса; “внешние” импульсы лишь дополнительно детерминировали столь узкие границы национальных чувств молодого поэта. Одним из таких импульсов было поражение России в войне с Японией и особенно Цусима, произведшая на Хлебникова трагическое впечатление. Гораздо позже, в «Свояси» (1919), он напишет о том, что первым толчком к его поискам всеобщих законов времени было именно известие о Цусиме (2, 10) — важное воспоминание, к которому мы еще вернемся. Пока же отметим, что попытка создания “исторической” концепции движения мира во времени и установления неких закономерностей этого движения с самого начала была связана с конфликтом России и Азии, Запада и Востока, очень эмоционально воспринятым Хлебниковым. Поражение России он рассматривает не как частный случай, а как одно из звеньев общей цепи русско-восточных столкновений на протяжении веков, воссоздавая ее со времен Чингис-хана и завершая началом XX столетия, Цусимой, в которой он, явно не забывая о Куликовом поле, видит своеобразный залог будущих побед русского оружия; о причинах этого парадокса мы скажем ниже.
В отличие от многих художников, историков, публицистов, стремившихся разобраться в сложном конгломерате чувств, связанных с русско-японской войной, исследовать причины поражения России, трагедии ее бесславия и падения,23![]()
Это та же боль и ощущение трагедии, что наполняют душу Блока, писавшего Белому о кошмаре, преследующем его после известия о гибели “Петропавловска”: „Небесный свод сам раскололся... Ныряет и расползается муравейник положим расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной...“.24![]()
![]()
Однако в том же письме Блока мы находим символику социального обобщения; ему видится конец не просто “Петропавловска”, но „нашей воли, свободы, просторов“: „везде — расколотость, фальшивая для себя самого двуличность“.26![]()
![]()
Художественная реакция молодого Хлебникова, при всей предметной выразительности его эмоционального всплеска, драматизме и личностности переживания, воплощенного в стихотворении, в целом более узка и идеологически определенна. Его стихотворение, помимо чувства трагического, выражавшего понятное ощущение попранной национальной гордости, раскрывает и те смещения акцентов, которые восходят к непониманию подлинных корней и истоков цусимской бойни, исторических и социальных причин войны и связанных с ней перспектив русского общественного движения. Оторванность Хлебникова в начале первого десятилетия XX века от прогрессивной социально-философской мысли, неумение установить истинные связи современных общественно-исторических явлений, разделить их не по национально-ограниченному, а классовому принципу — все это отразилось и в рассматриваемом, произведении. Поэтому эстетическая выразительность его условной первой части, основанной на подлинном переживании, сменяется бледными лозунгами и риторикой; стихотворение обретает характер выспренной и ожесточенной клятвы, данной лирическим героем: отомстить косым и смуглым японцам, в которых ощутимо различается у Хлебникова “корневой” пласт древних восточных “обидчиков” России:
Поэт обращает свою ярость и на море, не “поддержавшее” русское воинство, и провидит будущие битвы, в которых победит Россия: Раздается Руси к морю гнев, // Не хочешь быть с Россией, с ней? // Так, чашей пучины зазвенев, // Кровями общими красней! // Так и ты, Ниппон, растерзан был ее орлиным лётом ‹...› // Туда, туда она направит лёт орлицы! // Бледнейте, смуглые японцев лица. (2, 33).
Эта зарифмованная клятва обнажает и художественные слабости произведения, основанного лишь на той голой волне эмоции, которая захлестнула некоторые слои русской интеллигенции после Цусимы. Как видим, Хлебников еще не составлял исключения: двадцатилетнего поэта трудно упрекнуть в том, что он не разобрался в сложной общественно-исторической обстановке эпохи и поддался общим настроениям, потопившим, те ростки интернационального восприятия народного мира Запада и Востока, которые были заложены в его мирочувствовании всей жизнью отца и матери, впечатлениями “калмыцкого” детства и восприятием России как родины художников великой “всемирной отзывчивости”. Стихотворение «Были вещи слишком сини...» не было единственным подобным откликом Хлебникова на русско-японскую войну. Именно поэтому с определенным недоверием воспринимаются воспоминания матери поэта, Е.Н. Хлебниковой, по свидетельству которой „в период русско-японской войны Хлебников занимал пораженческую позицию, возбуждая этим негодование патриотически настроенных обывателей“.28![]()
К сожалению, приведший это высказывание Н. Степанов не комментирует его. Между тем свидетельства — стихи поэта — говорят об обратном: даже в 1909 году призрак Цусимы, воспоминание о ней вызывали у Хлебникова неадекватный художественный отклик, дающий возможность ощутить ту размытость патриотических идеалов, которая может трактоваться достаточно широко и смыкаться с национально-шовинистическими элементами сознания. Таково, например, стихотворение «Памятник», посвященное Александру III, чей монумент был установлен на Знаменской площади 23 мая 1909 г.
Стихотворение начинается с появления на японских островах некоего призрака; это фантасмагорическая фигура всадника — памятника Александру III, который, сорвавшись с пьедестала, таинственным образом возникает на Востоке, Где русской державе // Вновь угрожал урок иль ущерб. (2,86). После короткого воспоминания — картины цусимского боя (Суровые и гордые глаза // Узнали близко призрак смерти; „Хочешь ли к берегу пройтись пешком?“ // Японцы русскому кричали — (2, 86) — памятник-призрак появляется на японском берегу пустынном, как живой всадник, предопределяя теперь уже мифическую победу русских над японцами: И русским выпал чести жребий: // На дно морское шли японцы. Выполнив свою миссию, монумент вновь появляется на своем пьедестале, откуда его препровождают в участок за нарушение общественного порядка.
Все фантасмагорические линии стихотворения, связанные с исчезновением памятника, возникновением его в виде небесного призрака-всадника, который неведомо как топит японцев (здесь ощутимы отзвуки гофманианы, гетевской и гоголевской художественной ирреальности: дело с нечистью свито), призваны выразить нестихающее после Цусимы глубокое волнение Хлебникова, тяжело пережившего поражение России. Ясно, что условная, “ирреальная” струя стихотворения передает то, что происходит лишь в фантазии поэта, но должно воплотить идею неотвратимости отмщения, — грядущей русского победы (2, 87).
Трудно ответить на вопрос, был ли осознанным сюжетный ход Хлебникова, “повторявший” ситуацию «Медного всадника», но еще более трудно признать этот ход художественно оправданным. “Карательная” миссия хлебниковского памятника-всадника носит совершенно иной, по сравнению с Пушкиным, социально-исторический характер: она прежде всего националистична, внеисторична. Один и тот же формальный прием (образ срывающегося с Пьедестала “медного всадника”) несет в себе абсолютно различное содержание. Понятные национальные чувства Хлебникова в его «Памятнике» тем не менее функционально связаны с условным деяниемрусского самодержца, который ни по каким параметрам не мог быть соотнесен с великим и грозным предком, воссозданным Пушкиным.
Хлебников не ощутил социально-эстетической неестественности возникшей параллели с «Медным всадником», что вело к дополнительному смещению оценок и пропорций исторических событий и личностей; но для раннего Хлебникова это было закономерным.
Суть здесь не только в том, что национальные эмоции еще преобладали у поэта над возможностями объективной и социально точной корреляции исторических явлений разнонационального плана. Хлебников не мог подняться до осмысления событий с той единственно верной, точки зрения, которая привела бы его к отрицанию тождества России и Александра III, к пониманию невозможности исконной (и продолженной в будущем) вражды между русским и японским народами.
Непонимание истинных социальных корней многих событий и явлений русско-восточной истории и современности, обусловившее “антивосточный” аспект некоторых произведений Хлебникова 1906–1909 гг., четко проявляется и в стихотворении «Мы желаем звездам тыкать...» (1908), которое относится уже к другим ориентальным регионам и позволяет понять в известной степени общий характер хлебниковских заблуждений.
Высокомерный взгляд поэта на народы Кавказа и Сибири здесь несовместим с той позицией уважения и равенства, какую Хлебников займет буквально через год-два в своих “восточных” эпических вещах. Пока же он обращается к соотечественникам с призывом не кланяться роже басурманов (2,15), приводя в качестве образца грозного атамана донских казаков Бакланова, известного на Кавказе своей жестокостью. “Антивосточная” направленность стихотворения подкреплена, ссылками на подвиги предков, побеждавших басурман: Ермака — покорителя хана Кучума и Осляби — инока, отличившегося в Куликовской битве.
При всех сложных переплетениях темы неправомерным выглядит смешение мотивов освободительной борьбы с татаро-монгольскими захватчиками и завоевательных экспедиций на Кавказ, хотя пренебрежительный тон поэта по отношению к Востоку вполне согласуется с призывом “уподобиться” Святославу, известному в основном своими грабительскими походами. (Кстати, через несколько лет в «Кубке печенежском» гибели Святослава от руки степняка будет дана вполне объективная оценка).
Здесь вновь, как и в стихах о Цусиме, примечательно обращение к историческому прошлому, к русско-восточным конфронтациям прежних веков как парадоксальному “залогу” будущих побед России над басурманами. Единство приема наталкивает на мысль об определенных, закономерностях метода. В чем же они?
В основании подобных “смещений” эпох и искусственных “связей”, устанавливаемых Хлебниковым, лежали, помимо расплывчатости национальных и социальных идеалов, и поиски математических законов времени. Идея эта, как уже было отмечено, видимо, не случайно зародилась в его сознании именно в дни цусимской трагедии. Поражение России в войне с Японией имплицировало у Хлебникова стремление открыть некие закономерности в цепи решающих исторических событий — войн, битв, морских боев, взятий и падений городов, — причем поиск числового “кода”, дававшего, по его понятиям, возможность предсказать будущее, незаметно для Хлебникова обретал контуры спонтанной подтасовки, подтягивания одной даты к другой.29![]()
В художественных произведениях Хлебникова (в том числе и в рассмотренных нами) эта подспудная “историко-математическая” подоснова оставалась за рамками стиха, “результат” же объективно воспринимался в “квасном” националистическом ключе, обретая звучание мотивов мести Востоку, ныне торжествующему, но “математически” обреченному на будущее поражение.
Естественно, эта теория могла получить столь одиозное художественное выражение лишь пересекаясь с внутренними узконациональными устремлениями поэта — причины и следствия здесь переплетались. Хлебников и в будущем сохранит наивно-идеалистический взгляд на историю; однако впоследствии гуманистический потенциал его художественного сознания, как мы увидим, окажется гораздо глубже “теорий” и попранных национальных чувств, и идея единства Запада и Востока как магистрали истории человечества станет основой философско-исторической концепции Хлебникова в его главных произведениях предоктябрьского десятилетия.
Восток живет и спонтанно возникает в поэтическом мире Хлебникова уже в самых ранних его попытках передать в слове впечатления живого бытия, тех или иных литературных, мифологических, фольклорных источников. Назовем это “условным ориентализмом” Хлебникова.
Иногда пестрая смесь виденного, прочитанного, впитанного складывалась в причудливое творение поэта, вряд ли искавшего в подобном стихотворении выхода сложившейся мысли, но в самой образно-семантической системе выражавшего мир, связанный сложными нитями с этими ориентально-реальными и ориентально-литературными впечатлениями. Так, трудно постигнуть смысл (если это не аллегория и не натуралистическая интерпретация лермонтовского «Демона») стихотворения Хлебникова «Чудовище — жилец вершин...» (1906–1908) Чудовище — жилец вершин, // С ужасным задом, // Схватило несшую кувшин, // С прелестным взглядом. // Она качалась точно плод // В ветвях косматых рук. // Чудовище, урод // Довольно, тешит свой досуг (2, 40).
На первый взгляд сопоставление с «Демоном» кажется ирреальным. Однако вся ситуативная линия стихотворения, перенос действия в край вершин, под которым угадывается Кавказ; традиционное изображение восточной “девы” с кувшином, аналогии которому мы находим не только в «Демоне», но и в огромном количестве русских поэтических ориенталий; эмблематичные символы добра (девичий образ) и зла (чудовище) — все это призвано передать в заостренной образно-стилевой форме ту коллизию, которая в русской поэзии давно уже была связана с реальными ситуациями, горскими легендами, философско-нравственными притчами, восходящими к обязательной ориентальной среде, ее деталям, символам, образным клише и антиномичным стилевым структурам. Обратимся к некоторым из них, чтобы аналогия получила вначале традиционно-литературное обоснование.
Сопоставим прежде всего парадоксально-сходные мотивы Лермонтова и Хлебникова:
Одна из множества граней лермонтовского романтического образа как бы подменена у Хлебникова его натуралистическим (или, может быть, пародийным?) “экстрактом”. Однако явное сходство ситуативное имплицирует ощущение и отдаленной философской переклички образов (если, повторим, брать лишь одну из характерологических линий лермонтовского Демона):31![]()
Сама экзотичность коллизии вызывает необходимость перенесения действия в экзотическую среду, где нет времени, но пространство замкнуто вершинами Кавказских гор, а героиня обретает черты горской девушки, “предопределенные” известной литературной традицией.
Вспомним: восточная дева Пушкина „у вод ‹...› стояла, // Текущих с каменных вершин, // И долго кованый кувшин // Волною звонкой наполняла ‹...›“.32![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Отвращение, вызываемое образом чудовища, — очевидно, именно та эмоция, какую желал подчеркнуть Хлебников. Если уж поминать традиции, то и этому образу можно найти соответствующий аналог у Пушкина. В «Езерском», говоря об одном из предков героя, поэт неожиданно употребил то же выражение, что и Хлебников: „При Калке ‹...› // раздавлен, как комар, // Задами тяжкими татар“.38![]()
У Хлебникова ему противостоит воплощенный в восточной девушке возвышенный образ человеческой одухотворенности (‹...› несшая кувшин, с прелестным взглядом). Контраст, создаваемый почти полной симплокой (С ужасным задом — с прелестным взглядом), где созвучия антитетичны по смыслу; взаимоотталкивание образов “плода” и ветвей косматых рук, символизирующих как бы библейское “древо зла”, — все это напоминает резкие краски горских легенд и волшебных сказок, где добро и зло не только предельно “разведены”, но и предельно рельефны в своей гиперболической метафоричности.
Конечно, в хлебниковском опыте не было никакой аллегорической заданности; скорее, традиционные образы или коллизии русской ориентальной поэзии возникли и были воплощены в стихотворении спонтанно. Однако вряд ли стоит уходить от того факта, что Хлебников избирает ту же “среду” и сходную ситуацию, те же элементы образности, металогические контрастные ряды, что и его предшественники, переносившие на Восток и воплощавшие в образах ориентального мира мир своего художественного сознания. Возможно, в основании стихотворения Хлебникова лежала какая-то конкретная горская легенда, услышанная им в пору его пребывания в Дагестане (1903), чей-то рассказ того типа, какие в наше время связаны с темой “снежного человека” — выяснить это трудно. Для нас важно отметить, что сам выбор “среды” и семантико-стилистические контуры одного из ранних произведений опираются на те впечатления жизненного и литературного ряда, которые связаны непосредственно с Востоком и вызывают в молодом Хлебникове желание художественно выразить себя в формах и поэтике “условно-ориентального” типа.
“Условный ориентализм” раннего Хлебникова чаще всего восходит к усвоенным, впитанным, хотя и почти всегда трансформированным, ориентальным мотивам и образам русской поэзии XIX века, в особенности пушкинской.
Трансформации и метаморфозы Хлебникова внезапны, “непредсказуемы”, их корни и значения трудно улавливаемы, поскольку введение в авторский текст ориентальных “продолжений” сюжета предшественников и появление “восточных двойников” в вещах Хлебникова обычно ни социально, ни психологически не мотивировано. Впрочем, это относится и ко многим неориентальным сюжетным и образным превращениям в творчестве Хлебникова 1906–1910 гг., общая непроясненность которого связана с известной расплывчатостью замыслов и фантасмагоричностью концепций молодого поэта.
Тем не менее наблюдения над некоторыми литературными источниками “условного ориентализма” Хлебникова и поиски соответствий в этом направлении помогут выявить хотя бы общие контуры эволюции художника в его движении от буйной фантазии ранних опытов, в том числе и ориентальных, к живому, исторически достоверному и точно воссозданному Востоку. Дело в том, что несмотря на более поздние футуристические декларации, среди которых была и известная инвектива с требованием сбросить русских классиков „с парохода современности“, творчество Хлебникова дооктябрьской поры развивалось отнюдь не только в русле “сверхноваторского” отъединения от русской классической поэзии, но, наоборот, в тесной связи с ее содержательным и формальным фондом.
Так, внимательное прочтение уже известного нам хлебниковского восьмистишия «Чудовище — жилец вершин...» в более широком ряду произведений русской поэзии XIX века, связанных с мотивом похищения красавицы, приводит к аналогам “неориентального” ряда, позволяющим тем не менее прийти к любопытным корневым пластам уже иных ориентальных опытов и связей Хлебникова. Соответствия и взаимодействия здесь возникают самые неожиданные и, на поверхностный взгляд, случайные; однако у эрудированнейшего Хлебникова даже в ранней поэзии трудно обнаружить “случайные” переклички с предшественниками; обычно это либо развитие мотива, сюжета, образа, либо их сознательное пародирование.
Помимо рассмотренных выше ориентальных “предверсий” «Чудовища...», память подсказывает еше один (тождественный даже в деталях) мотив похищения из «Двенадцати спящих дев» Жуковского:
Распространенность этого сюжета в русской и западной поэзии могла бы послужить источником сомнений в необходимости приводить здесь еще одну аналогию. Однако если вспомнить, что именно данная фабула легла в основу поэмы «Руслан и Людмила», пародировавшей балладу Жуковского (о чем, как известно, сам Пушкин говорит в экспозиции «Песни четвертой»), а к этому добавить, что шуточная поэма Хлебникова «Внучка Малуши» — в свою, очередь пародия на многие, в первую очередь ориентальные, мотивы и образы пушкинского шедевра, то станет ясной необходимость наблюдений над подобными — прямыми и опосредованными — перекличками, помогающими постигнуть широкие пласты русской литературы, стоящие и за “условным”, и — впоследствии — за подлинным Востоком Велимира Хлебникова.
Итак, сопоставим: несшая кувшин, с прелестным взглядом — в ветвях косматых рук чудовища; „красавица младая“ Жуковского — в „руках могучих“ великана; пушкинская Людмила — в сетях чудовищного и смешного Черномора. Героиню поэмы «Внучка Малуши» тоже зовут Людмила, и она — та же дочь киевского князя Владимира, но никем не похищенная, а скучающая в окружении мифических персонажей, среди которых, помимо водяного, леших, бога добра и света Белуна, скифской богини Табити есть и некий хозарский хан (хозарский — транскрипция Хлебникова), претендующий на роль ее навязчивого друга и наперсника.
С образом хозарского хана и связаны пародийные соответствия поэмы Хлебникова и «Руслана и Людмилы», относящиеся прежде всего к сюжетным линиям Черномора и пушкинского хазарского хана Ратмира.
Смещая акценты “привычных” образов Пушкина, Хлебников отдает “роль” Черномора — старого карлы, надоедливого и комичного, но все же обладающего чудовищными колдовскими возможностями и влюбленного в юную красавицу, — другому герою «Руслана и Людмилы», хазарскому хану. Ему “переданы” и внешний облик, и любовные претензии, и возможности “оборотня”, свойственные пушкинскому Черномору.
Таким образом, Черномор, также, кстати, имеющий отношение к Востоку,40![]()
![]()
![]()
Сопоставление текстов Пушкина и Хлебникова позволяет легко уловить источники литературно-ориентального маскарада во «Внучке Малуши». Вспомним вначале, как по-восточному пышно и по-романтически традиционно представляет Пушкин своих героев и их окружение.
Другие характеристики Черномора — „волшебник хилый“,44![]()
![]()
![]()
В другом претенденте — Ратмире — Пушкин подчеркивает пылкую романтичность и “восточную” экспрессивность („Полный страстной думы // Младой хазарский хан Ратмир“),47![]()
Портрет и детали выезда хлебниковского хозарского хана словно синтезируют в себе и традиционно-внешностные, и индивидуально-психологические (но тоже ориентально-традиционные) свойства пушкинских восточных персонажей, доведя эффект комически-контрастного сходства до уровня пародии:
Рассматривая этот “портрет”, мы ощущаем, что Хлебников использует не просто словесный строй поэмы Пушкина, но и систему пушкинского пародирования, выступавшего в «Руслане и Людмиле» в известной степени и как самопародирование романтика, уже внутренне предощущавшего иной, новый потенциал возможностей искусства в изображении мира и человека. Структура образов Черномора и Ратмира, соединявших в себе “несоединяемое” и своей внутренней иронией разрушавших цельность романтического стиля (колдун и волшебник, оказывающийся вовсе не могущественным; гордый хан, обращающийся в рыбака), у Хлебникова, как мы видим, “дополнительно” заостряется, гиперболизируется и “повторно” пародируется.
Цель поэта — показать деградацию “героического” начала в движении русской истории и русской поэзии от языческих времен до эпохи капитализма, трансформацию мира “витязей” в мир торгово-промышленных сделок, подмену “высокого” романтизма высокими словесами историков, философов, социологов буржуазного толка. Их хилость и немощность в попытках связать древность и современность общими идеями и призван раскрыть символический костер из книг (Челпанов, Чиж, Ключевский, Каутский, Бебель, Габричевский, Зернов, Пассек ), сложенный училицами XX века, ведомыми княжной Людмилой назад, к живой природе и к временам первобытного “равенства” и языческого поклонения радостям земным.
Именно для этого Хлебниковым фантасмагорически использованы пушкинские элементы пародии на Жуковского (и вообще на русский романтизм) в гиперболически-пародийных превращениях хозарского хана, под конец трансформированного в купца Хаима, оставившего свой титул князя и вальяжный вид хана и подсчитывающего свои протори и потери.
Поначалу эта трансформация даже не угадывается: мы просто ощущаем в хлебниковском восточном герое, претенциозно выряженном (сравните у Пушкина: „Разряжен карлик бородатый“),49![]()
Пародийная повторность, заостряющая наше внимание на контрасте хлебниковских образных ходов с пушкинскими романтическими штампами, намеренно наслаиваемыми в «Руслане и Людмиле», создает сильный трагикомический эффект в шуточной поэме Хлебникова.
Так, Пушкин снабжает хана Ратмира постоянным эпитетом “младо”: „Младой хазарский хан ‹...›“,50![]()
![]()
![]()
![]()
Этот традиционный в своей усеченно-старославянской форме эпитет получает в портрете хозарского хана из «Внучки Малуши» (где он повторен в той же архаичной конструкции) обратное значение: Слезливых старческих буркал // Взор первой младости сверкал ). Элемент пародии заключается в том, что слово ‘младость’ выражает у обоих поэтов прежде всего иронию; но у Хлебникова она доведена до уровня абсурда, ибо то же слово употреблено в значении, обозначающем контрастный смысл: Ратмир — воплощение молодой непосредственности, хозарский хан Хлебникова — старости, по сути впадающей в “младость”.
В том же ключе звучит сопоставление других деталей образов обоих ханов: „Огня надежды полон взор“54![]()
![]()
Пушкинская система комических превращений и подобий, видимо, пришлась по душе автору шуточной поэмы”. Это касается не только названных героев. Пространство и время у Хлебникова фантастически представлено сразу и древней Киевский Русью эпохи Владимира, и Петербургом начала XX века; Запад и Восток — русской княжной Людмилой и хозарским ханом Хаимом. При этом в поэме возникает непрерывная цепь пространственных смещений, временных перебросов и национальных преображений, то рожденных буйной фантазией Хлебникова, то восходящих к неожиданным пародийным “продолжениям” «Руслана и Людмилы», особенно в ориентально-сказочных линиях.
Вместе с тем Хлебников, “пародируя” пародию, создавая и воссоздавая сказку, колдовскую мистерию с оборотнями, древнерусскими и скифскими богами, лешими, водяными, с непрерывным потоком образов, заимствованных не только у Пушкина, но и из древних летописей, «Слова о полку Игореве» (образы буй-тура, червленных щитов, воинов, скачущих „серыми волками“ и т.п.), стремится сохранить во многих пародируемых “характерах” черты исторической достоверности, почерпнутой уже не у Пушкина, не в языческой мифологии и не в древнерусской литературе, а в новейших исторических источниках, в том числе, возможно, и в тех, которые сжигают на костре последовательницы Людмилы из женского всеучбища.
В пору создания шуточной поэмы история самых древних русско-восточных связей, противостояний и общественно-промышленных сцеплений уже явно привлекала Хлебникова и была ему в достаточной степени известна. Молодой Хлебников пишет свою поэму почти через сто лет после молодого автора «Руслана и Людмилы», пишет, заглядывая, как и Пушкин, в «Повесть временных лет», в Карамзина (оттуда и могло быть заимствовано “генеалогическое дерево” героини: Людмила — дочь князя Владимира, прижитого Святославом от ключницы Малуши, служившей его жене Ольге, отсюда и заголовок «Внучка Малуши»).56![]()
Эта выписка позволяет постигнуть некоторые грани национальной трансформации хозарского хана в поэме «Внучка Малуши». В одном из эпизодов покинутый Людмилой хан едет хмурый, беспощадно коня терзая красоту, но неожиданно пьет какой-то волшебный эликсир из склянки — коня не стало и седока. А вместо них, в синей косоворотке // С смеющейся бородкой, // Стоял еврейчик ‹...› // Он говорил о чем-то оживленно, беспокоясь, // И, рукоплескания стяжав, // Желания благие поведав соседственных держав, // ‹...› пошел куда-то ‹...› // Хан был утешенный в проторях и потерях ‹...› (2,71).
Таким образом, сведения Ключевского, как и материалы «Повести временных лет», на которые он ссылается (древнее киевское предание), стали достоверными историческими источниками невероятных и кажущихся плодом фантасмагорического воображения поэта пародийных национальных мистификаций в шуточной поэме Хлебникова.
Конечно, все эти ориентально-литературные связи как в самой поэме, так и в предоктябрьском творчестве Хлебникова в целом имеют лишь частное значение. Общая непроясненность социально-исторических взглядов Хлебникова, размытость его общественных идеалов приводит его даже в условных рамках шуточной поэмы к построению ретроспективно-утопических общественных конструкций, к культу языческого поклонения древним структурам славянского первобытно-общинного “коммунизма” (Приятно ‹...› себя сознать средь равных равной. // Приятно общность знать племен ‹...›) (2,74).
Однако в движении ориентализма Хлебникова и “частные” линии национально-пародийного фарса «Внучки Малуши», и обращение к восточным персонажам первого эпического опыта Пушкина, и их трансформация, восходящая не столько к фантазии, сколько к истории, и стремление избирать национально-исторически мотивированные детерминаты метаморфоз героев — все это воспринимается отнюдь не как частное, а как весьма существенное звено общего движения поэта к Востоку, позволяя проследить некоторые историко- и литературно-ориентальные пласты, лежавшие в основании того явления, которое мы выше назвали “условным ориентализмом” раннего Хлебникова.
Использование пушкинских ориентально-фольклорных, ориентально-исторических и подобных им мотивов — одна из главных линий хлебниковского раннего условного ориентализма. В этом плане интересно стихотворение «Как два согнутые кинжала...», относимое комментаторами к 1911 году (НП, 405), но, возможно, написанное раньше. Об этом свидетельствует именно условность того призрачного “Востока”, на который Хлебников переносит действие своего стихотворения:
Два последних стиха поворачивают стихотворение к известному импровизационному мотиву из пушкинских «Египетских ночей», заимствованному из Аврелия Виктора («Клеопатра и ее любовники»). Сравним:
| Пушкин | Хлебников |
| Лишь только утреннней порфирой Аврора вечная блеснет, Клянусь, под смертною секирой Глава счастливцев отпадет.58 | А утром скатывает в море подруга Его счастливый заколотый труп. |
Внимательное прочтение хлебниковского опыта позволяет уловить и другие параллели: „Александрийские чертоги // Покрыла сладостная тень“59![]()
![]()
![]()
![]()
В. Брюсов, пытавшийся, как известно, продолжить пушкинский шедевр, отмечал, что в своих «Египетских ночах» Пушкин „намекнул нам на таинственную связь между страстью и смертью“.63![]()
![]()
“Равенство” есть уничтожение различий между “высоким” и “низким”, и единственной сферой, где это может произойти, является сфера чувств. На „золотом ложе“ любви царица становится „простой наемницей“,65![]()
Вот этот парадокс и влечет к себе Хлебникова, выражающего сложную психологическую коллизию в целостной (хоть и намеченной лишь контурно) системе своего произведения. Судя по неслучайным схождениям с «Египетскими ночами» и по некоторым другим деталям, на которых мы остановимся ниже, местом действия стихотворения, так же как у Пушкина, избран Восток. Но прежде чем обосновать отношение хлебниковского опыта к ориентальному миру, соприкосновение с которым, как увидим, весьма условно, рассмотрим художественную структуру этого “конспекта” психологической новеллы о „таинственной связи страсти и смерти“.
Все пространство стихотворения, несмотря на то, что в нем, казалось бы, господствуют безмятежные краски жизни — белый, золотой, багряный — окружено, охвачено отчетливо вычерченным трагическим кругом смерти. В экспозиции небо словно заколото вонзившимися в небо тополями-кинжалами, стоящими, как предсказание человеческой трагедии; оно сбывается в концовке, где заколотый труп замыкает это смертельное композиционное кольцо. Система контрастных рядов, парадоксально столь же отдаленных, сколь и близких друг другу, составляет образный каркас произведения. Антитетичны небо и земля из первого четверостишия, но они связаны неким единством: небо умерщвлено кинжалами-тополями, земля лежит, как усопшая. Антитетичны дворец и челнок — как символы огромного и малого, высящегося и незаметного, но и они сцеплены единством мироощущения героев, выраженным через эмблематику синекдох и эпитетов: Белый дворец стоит одинок — одинокий челнок.
Антитеза лежит в основе и самих “характеров” стихотворения, причем контраст, возможно, имеет социальный оттенок: она — дева из дворца, он — человек, одетый в руб (у Даля ‘руб’ — от ‘рубище’, одежда либо „самая грубая, толстая“, „будничная, рабочая“, либо — „ветхая, рваная“66![]()
При всей литературно-легендарной окрашенности сюжета, он выражает у Хлебникова ту вечную сшибку и связь жизни и смерти, добра и зла, счастья и трагизма, которые часто становились материалом легенд и поэм о любви, где Он и Она, как и мир, стоящий за ними, воплощали в себе всю немыслимую сложность жизни человеческого сердца и человеческого бытия.
Конечно, Хлебников вряд ли желал и мог воссоздать эти коллизии в характерах героев-современников, в обстоятельствах деловитого европейского XX века; ему нужны были среда и характеры дикие, страстные, экзотические, соответствующие тем коллизиям, какие он воссоздает. Поэтому, как и Пушкин, он переносит действие стихотворения туда, где условно-ориентальные контуры среды могут создать необходимый фон для развития необычного сюжета.
Можно спорить о том, является ли восточной условная романтическая среда, нарисованная здесь Хлебниковым. В конце концов сюжет его может быть связан и с известной легендой о Лукреции Борджиа, закалывавшей любовников после бурно проведенной ночи.67![]()
Во-первых, экспозиция стихотворения, его первый троп перебрасывают нас в места, где кинжал воспринимается как символ, а связанные с ним образы сразу же наполняются традиционным смыслом; конечно, кинжал мог быть оружием и на Западе, но клишированное уподобление, традиционный образ кинжала — это свойство поэзии Востока.
Такая гипотеза получает подтверждение и в ориентальной поэзии самого Хлебникова, в чьем художественном сознании образ кинжала ассоциировался именно с Востоком. Так, набросок, относящийся примерно ко времени написания «Как два согнутые кинжала...», начинается с утверждения о том, что азиаты “режут” из ревности, из удали. (НП, 265). Здесь примечателен глагол (‘режут’): из всех способов убийства назван тот, который, по Хлебникову, соответствует истине, восточному темпераменту и избираемому человеком Востока виду оружия. В позднем кавказском стихотворении Хлебникова «Осень» система уподоблений, связанных с излюбленным традиционным образом Востока, повторяет металогию рассматриваемого нами произведения: Ножами золотыми стояли тополя; Бештау ‹...› // Небу грозил боевым лезвием (3, 184–185).
Во-вторых, на всех уровнях текста ощутимо, как мы уже показали, легко улавливаемое сходство с ключевыми идеями, сюжетным ходом, ситуациями, подоплекой душевных движений героев пушкинских «Египетских ночей». Это, нам кажется, сообщает хлебниковскому стихотворению тот “затекстовый” (хотя и внеисторический) ориентализм, который вытекает из самой параллели с пушкинским восточным сюжетом и восточным характером деспотически властной и одинокой царицы Египта, контурно “повторяемым” образом хлебниковской “девы” из дворца.
В-третьих, любопытным звеном, связывающим «Как два согнутые кинжала...» с Востоком, с кавказским регионом можно считать лермонтовскую «Тамару». Сходство хлебниковского стихотворения с версией Лермонтова, восходящей к грузинским преданиям о царице, заманивавшей любовников, а наутро предававшей их смерти, несомненно: „Но только что утра сиянье // Кидало свой луч по горам, // ‹...› Волна погоняла волну; // И с плачем безгласное тело // спешили они унести...“.68![]()
![]()
При всей зыбкости очертаний хлебниковского Востока (особенно в сравнении с исторической и фольклорной конкретикой Пушкина и Лермонтова) для нас важен здесь сам ход художественного мыщления поэта, избранный вслед за классиками. Суть его — противопоставление мира сильных “восточных” страстей, бурных чувств, “демонических” взрывов как поисков выхода из одиночества — миру благопристойной посредственности, сытого спокойствия, холодного “европейского” существования. Выбор Востока как среды, рождающей мощные страсти и характеры (пусть воплощенные лишь в намеке, абрисе, ситуации), выражает уже не только генетическое, но и типологическое родство подобных опытов Хлебникова с русской классической художественной ориенталистикой.
Эти опыты, составляющие явление, обозначенное нами как “условный ориентализм” Хлебникова, как мы еще убедимся, зачастую автономны и дискретны по отношению ко многим из тех духовно-художественных открытий, к которым поэт придет в следующее десятилетие. Но они не отдаляют, а приближают его к этим открытиям, ибо уже на этом этапе, даже в произведениях условно-фантастического плана дают ему возможность искать и находить новые формы обогащения не только эстетического, но и национального диапазона, новые подходы к отображению бытия народов в их исторических связях, пусть даже воссозданных в системе литературных “переодеваний” и травестированных превращений.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 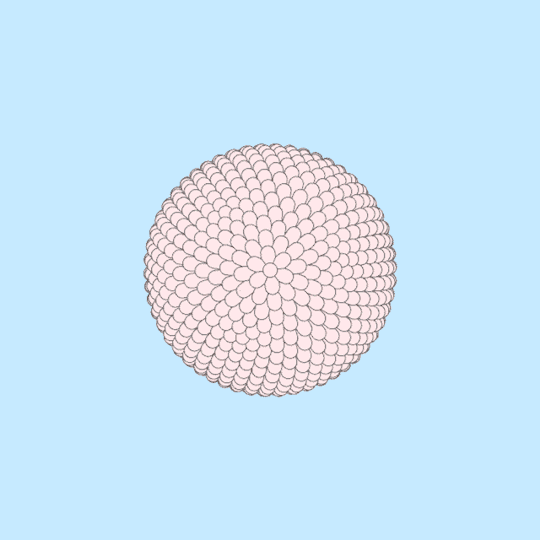 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||