



Стихотворение Хлебникова о тайной вечере, воспринимаемое не как рассказ о последнем ужине Христа с учениками, а как философская медитация о жизни и смерти, о таинстве иного причащения — тайне предсмертного мига и вздоха человеческого (Пред смертью жизнь мелькает снова, // Но очень скоро и иначе ‹...›), — начинается именно с этой “восточной” экспозиции. Но причем тут Япония и Индия?
Необходимая здесь эмоция трагизма возникает из неожиданного уподобления образа смерти (не могут звучать похороннее ) символам как будто внеассоциативного, но тонко почувствованного инонационального ряда. Они различны по смысловому, металогическому, лексическому наполнению, но соответствуют типам духовного самоощущения народов, о которых упоминает Хлебников. Мысль о своеобразно-бестелесном, молчаливом воплощении оттенков чувств и настроений, о прозрачности и ломкости всего мировосприятия, в котором жизнь и смерть равны в своих правах, ибо первая хрупка, а вторая нависает, как тень, над бытием человеческим, — все это с удивительным художественным колдовством национального прозрения передано в строке о хрупких тенях Японии, напоминающей тонкую японскую акварель с едва различимыми переходами от света к тени. И, наоборот, увековеченная тысячелетними представлениями откровенность индуистского восприятия бытия и небытия всего лишь как форм существования и перехода из одного состояния в иное закреплена грубоватым стихом об индийских плакальщицах, именно потому сладкозвучных, что в их причитаниях трагизм смерти отодвинут возможностью перевоплощения в существо высшего порядка, предусмотренной учением о карме и предполагаемыми добродетелями умершего.1![]()
Две экспозиционные строки становятся неким фоном, не играя основной роли в движении всей медитации, но давая ей общечеловеческий философский импульс и раскрывая при этом художественные возможности поэта, способного спонтанно избирать и тонко воссоздавать все, что входит в мир человеческой культуры Запада и Востока и может стать неожиданным, но эстетически необходимым материалом творчества и самим творчеством. Это один из признаков того масштабного и всепроникающего художественного сознания, для которого все национальные миры равны и равно подвластны таланту преображения во “вторую действительность”.
Создавая “свой Восток” Хлебников довольно редко прибегал к использованию непосредственно ориентальных жанровых или стилистических форм. Далеко отстоящий от опытов Брюсова, подражаний Бальмонта и будучи ближе к обнаженной поэтике отдельных ориенталий Бунина, Хлебников стремился передать дух Востока, избегая заимствований и подобных им типов ориентального метаморфирования. Однако сама по себе ориентальная трансформация, если ее диктовал поэту замысел произведения, была подвластна Хлебникову, обладавшему способностью национального перевоплощения и избиравшему для этого особые и специфические средства.
Воспроизводя ту или иную эпоху истории Востока, тот или иной национальный регион, художник даже в рамках одного произведения создает прежде всего характер — тип мировосприятия, “стиль” мышления личности, словно причастной именно к этой эпохе или региону. Метаморфозы художественного сознания Хлебникова в таких случаях мгновенны и касаются всего образно-стилевого, ритмо-интонационного, лексико-синтаксического строя соответствующей части стихотворения. В рассматриваемом ниже опыте две строфы (четверостишие и шестистишие) кажутся не связанными между собой именно потому, что автор сознательно переносится из одной эпохи в другую, одновременно меняя и тип национальных представлений о бытии. Первая строфа изображает Китай:
Вторая строфа воспроизводит детали извержения вулкана. Перед поэтом, закрывшим веки, предстает мир, воспринятый уже не сознанием китайца, любущегося соцветием пагод, фонариков и бубенчиков, а испуганным и мимолетно фиксирующим страшные детали взором “дикаря”, в чьем мифологическом представлении извержение вулкана — это мрачно-живописная земная явь и в то же время предощущаемая и, может быть, предсказанная в преданиях ужасающая небесная кара богов:
В этом стихотворении привлекает раскрытая Хлебниковым природа художественной национальной трансформации, совершенной “открытым” способом: путем объявленного воображаемого перемещения лирического субъекта в пространстве и времени (Я закрываю веки и вижу ‹...›).
Превращения касаются многих уровней текста. В первом четверостишии медлительный строй мышления, спокойное течение бытия, благостное восприятие его деталей как воплощения прекрасного в мироощущении китайца подчеркнуты протяженными, многосложными закрываю, благоуханны, богдыхана, разноцветных, бубенчики, с удлиненными открытыми звуками главных фонем (а, е). Начиная со второго стиха (первый напоминает верлибр) использован редкий многостопный ямб, причем количество стоп к последнему стиху строфы последовательно увеличивается: соответственно 5, 7 и 8 стоп. Это еще больше “растягивает” ритм четверостишия. Впечатлению медлительности бытия, его однообразного вращения способствуют многочисленные внутренние звуковые повторы, дополняющие рифменные созвучия: пагоды — благоуханны — богдыхана; разноцветных светочей и т.п. Резкое р в этой строфе смягчено соседством мягкого л и открытого а: с края кровли льют. Звук л господствует здесь, создавая нежную тональность “китайского” четверостишия: благоуханны, любимец, кровли, льют. Впечатление протяжности, создаваемое словно плывущим звоном, также восходит к фонетической системе строфы: оно усилено дополнительным сливающимся звуком н (в сочетании звон на пол), поддержанным еще четырьмя н в последующих фонемах (бубенчики, разноцветных, венчики). Созданию общего мягкого тона способствуют и уменьшительные суффиксы полных рифм (бубенчики — венчики).
Весь темп, стиль, экзотический строй строфы как бы задан удлиненно-растянутым словом-доминантой благоуханны, возникающим уже в первом стихе и словно концентрирующим в себе и протяжность, и мягкость, и звонкое ощущение невесомой легкости, изукрашенной красивости, незыблемости традиций страны пагод и богдыханов, фонариков и бубенчиков, естественно, в национальном восприятии этих понятий “изнутри”.
Совершенно иной Восток предстает перед взором закрывшего веки во второй строфе стихотворения. Несмотря на наличие нескольких четырехсложных слов, его ритм и темп заданы словами односложными, резкими, концентрирующимися во втором — четвертом стихах строфы: дым, лет, вой, гром, дождь. Эти слова, воплощающие в себе прежде всего широкий спектр первичных — сенсорных — ощущений (зрительных, слуховых, моторных), выражают конкретность реакций-восприятий субъекта, соответствующую эпохе “первотворения” и типу мифопоэтического сознания, улавливающего в первую очередь конкретные и понятные явления, а уже потом устанавливающего их связи с творящими силами. Абстрактный эпитет разноцветные из первой строфы здесь, в согласии с особенностями подобного сознания, сменяется конкретными, точно обозначенными определениями цветовой гаммы: сизый дым, красных камней лет, красный дождь, к облакам седым. Понятия ‘заря’ и ‘радуга’, также передавая грозную красоту совершающегося, стоят ближе к естественным краскам самой природы, понятной дикарю, в отличие от аксессуаров “китайского” четверостишия, относящихся к “искусственным” достижениям цивилизации.
Ассоциативная связь всего видимого (непонятной подземной зари, висячей радуги, страшного красного дождя) с “высшими силами” (в соответствии с типом мифопоэтического мышления субъекта) логично завершает строфу образом представляемого, т.е. возникшего вверху, в небе, божества. Чело обозначает антропоморфичность представления, протянутое — его необычность по сравнению с обыкновенным человеческим лицом. Этиология явления раскрывается как бы через само сознание дикаря, в которое метаморфируется художественное сознание поэта.
Таким образом, ориентальная трансформация всего образного строя стихотворения «Я закрываю веки и вижу пагоды благоуханны...» создает резко смещающиеся художественные пласты, неожиданные пространственно-временные, регионально-исторические перебросы, изменяя на всех уровнях поэтики тип национальных представлений о бытии. Так раскрывается не просто диапазон эстетических возможностей Хлебникова, способного воспроизвести какой угодно стиль, но прежде всего стремление художника связать в сознании читателя разнонациональные культурные миры, утвердить уважение к любому типу национального самовыражения.
Восток может возникнуть в стихах Хлебникова столь неожиданно, что невнимательное чтение вызовет при виде невесть откуда взявшегося восточного образа изумление; но Хлебникова нельзя читать невнимательно. “Фантастично” возникший Восток — слово, реминисценция, ориентальная ассоциация — всегда духовно мотивирован и эстетически необходим в его произведении. Особенно важны они в стихах, где с нарастающей силой звучит идея освобождения человека (и самого поэта) от пут европоцентризма, идея движения к расширенному пониманию духовных горизонтов мира — в его прошлом, настоящем и будущем.
Именно в этом плане воспринимаются восточные микроструктуры семантически и композиционно сложного стихотворения Хлебникова «Тихий дух от яблонь веет...», относящегося примерно к 1913–1914 годам.
Русь, природа, смерть, любовь, Восток — все эти контурно намеченные темы стихотворения, “неестественно” переплетенные между собой и связанные неожиданными перебросами от одной к другой, возникают как бы в сознании боярыни, чей образ появляется лишь в экспозиции произведения. Собственно, начало и конец его — это некая реальная “русская рама”, в которую помещено фантастическое видение: ночь, могильные тени, соль поцелуя, плывущие в саванах мертвецы, воздающие хвалу аллаху... Все кажется мистическим, перемешанным, перепутанным, ничем не мотивированным, и если бы эта вещь не была напечатана при жизни Хлебникова, ее, учитывая и разностильность поэтических слоев, можно было бы принять за несколько различных набросков о Западе и Востоке, искусственно соединенных (так бывало впоследствии) редакторами Хлебникова. Но стихотворение опубликовано самим поэтом и требует внимания как художественная целостность, пусть даже нуждающаяся, как и некоторые другие произведения Хлебникова, в “расшифровке”.
Попробуем приглядеться к разнонациональным пластам стихотворения. Вот, например, “русская” его часть — она цитируется нами в условном виде, так как стих 5-й из нее выпадает, а 6-й по смыслу, ритму и созвучиям явно (хоть и неожиданно) соответствует стихам 18-, 19- и 20-му — концовке стихотворения:
Стих 5-й, в этом отрывке нами опущенный (Плывут мертвецы), начинает тему фантастического видения. Включенные в это видение стихи 10–13-й неожиданно переносят нас в иной национальный мир, возможно, близкий родине Дон-Жуана, хотя не исключена интерпретация его в духе «Бахчисарайского фонтана»:
А затем, когда видение с мертвецами, поцелуями и фонтанами как будто уже растаяло, в стихе 15-м (строке резко ориентального лексико-семантического наполнения, по сути, цитате из Корана или мусульманской молитвы) в произведение врывается обнаженно-восточная струя: Поют о простом: „Алла бисмулла“ ‹...›
Тематическая, “сюжетная”, стилевая “перепутанность” образов стихотворения, смешение в нем реального и условного — все это, закрепленное, как мы видим, “рваной” архитектоникой, рифмовкой далеко отстоящих друг от друга стихов, непрерывной сменой разностопных размеров (что, впрочем, обычно для Хлебникова), призвано, по нашему мнению, воплотить не просто причудливую игру смутных ассоциаций капризного художественного воображения поэта. Столпотворение образов здесь, на наш взгляд, далеко не случайно.
Приступая к анализу творчества Хлебникова, исследователь зачастую вынужден вести в сущности “раскодирование” концентрированных структур, зыбких ассоциативных связей, на первый взгляд, дискретных микрообразов стихотворения. Здесь важно при всей кажущейся смелости частных гипотез (без чего, исследуя Хлебникова, обойтись невозможно) не упускать из виду общего направления духовно-художественных поисков поэта, его движения к идее культурного единства мира. Именно такую попытку и представляет анализ “бессвязного” и “зашифрованного” текста стихотворения «Тихий дух от яблонь веет...»
По существу оно представляет собой некую, подобную Вавилонской башне, поэтическую модель человеческого мира, в котором, как жизнь и смерть, парадоксально разъединены и объединены, контрастны и в то же время близки народы, племена, нравы, наречия Запада и Востока.
Хотя “западное” и “восточное” не образует здесь художественного синтеза, ибо в стихотворении нет органичной целостности, создаваемой эстетическим единством микроструктур с общей идеей, такая идея у Хлебникова все же существует. Особенно четко ощущается она, когда, казалось бы, разрозненные образы и темы стихотворения словно приводятся к “общему знаменателю” завершающим двустишием (уже цитированным нами в ином контексте, но здесь требующим особого внимания), где боярыня экспозиции не случайно обращается в Ярославну, а белый цвет яблонь и черемух, напоминающий снег, вызывает в сознании художника неожиданную ассоциацию с печенегом, которого гладит ее рука. В этом поэтическом мифе, воплощающем “единство” русской национальной героини и извечного восточного недруга Руси, не просто соединены реальное и фантастическое, но сделана попытка сблизить в сознании читателя то, что всегда было антитетично — Запад и Восток, взятые в их художественно-исторических символах, закрепленных в памятниках Древней Руси:
Как видим, Хлебников не стремится опереться на точно обозначенные образы именно «Слова о полку Игореве», в котором, мы помним, речь идет о половцах; хлебниковский печенег — фигура скорее ориентально-собирательная. Народ тюркского происхождения (возможно, отсюда „Алла бисмулла“?), печенеги еще до половцев часто нападали на Киевскую Русь. (Процитируем «Повесть временных лет»: „В год 6476 (968). Пришли печенеги на Русскую землю ‹...›“2![]()
Так концовка стихотворения стягивает в один узел все “разбросанные” и перепутанные фантастические сюжеты, временные несоответствия и анахронизмы, разнонациональные микрообразы и стилистические пласты произведения, во многом раскрывающего новое качество Хлебникова, освободившегося от славяношовинистических настроений середины 900-х годов и пришедшего к масштабному гуманистическому пониманию и воплощению мирового человеческого единства.
Все рассмотренные в этом разделе стихи (нами взяты лишь отдельные образцы) раскрывают масштабы художественно-ориентального дарования Хлебникова, его эстетических возможностей в воплощении тех или иных пластов истории и мифологии, среды и характера, бытия и мышления человека Востока, независимо от временных, пространственных и любых иных факторов. Но главное — и исследованные опыты позволяют уловить это — заключается, во-первых, в огромном человеческом внимании художника к миру Востока, к его специфическим, сущностным конкретно-национальным проявлениям, во-вторых, в том, что Хлебников, в отличие от многих своих современников, не делает “свой Восток” неким самодовлеющим эстетическим миром: он всегда (даже когда кажется, что это не так) связывает его в своем сознании и творчестве с другими мирами, чтобы в конечном итоге “выстроить” в восприятии читателей идею западно-восточного человеческого равенства, культурного единства, уважения к личностному, национальному, художественному миру людей Востока, их представлений, сложившихся, быть может, тысячелетия назад и пронесенных сквозь века, чтобы получить “новую жизнь” в создании русского поэта.
Попытаемся показать это на примере более масштабного произведения, полностью посвященного восточному миру, взятому на конкретном этапе его развития и в многоаспектном проявлении.
При всей затрудненности понимания ориентально-“исторического” сюжета у Хлебникова-лирика, при всей смутности психологической мотивации смены семантических, образных, стилистических рядов, смущающей нас неожиданностью перебивов смысла, возникновением новых, казалось бы, внезапных поворотов мысли, эмоции, причудливостью движения структурообразующих элементов произведения, — при всем этом читатель и исследователь, как показывают разборы, и анализы, могут полностью доверять эрудиции художника, безошибочности мельчайших и кажущихся порой “случайными” деталей хлебниковского Востока.
То, что именуется художественной средой и состоит из локально, этнически, социально, религиозно, психологически обусловленных “атомов” бытия, создающих конкретно-национальное пространственно-временное эстетическое “поле” произведения, у Хлебникова удивительно достоверно, абсолютно точно и всегда соответствует данным археологии и востоковедения, палеографии и социологии, этнографии и истории народов, их мифологических памятников, сакральных учений, своеобразных культур, известных науке того времени и того уровня, когда жил и творил Хлебников.
В этом отношении стихотворение середины 910-х годов «Смугла, черна дочь Храма...» может послужить образцом художественного проникновения в конкретно-национальную восточную среду конкретной эпохи, воссозданную не в общепринятых ориентально-традиционных экзотических формах, а через постигнутый в эверестах книг мир Индии, с ее многоликостью духовных и религиозных типов сознания, закрепленных в национальных тотемах, мифологических сказаниях, неписаных сводах обычаев, заклинаний, обрядов, с ее храмовой системой ритуалов, скульптурой и иконографией, с ее, наконец, живым человеком, открытым жажде добра и веселья и склоняющимся перед непреоборимостью воли богов... Вчитаемся в текст Хлебникова:
Перед нами — Древняя Индия,3![]()
Остановимся вначале на тех ключевых образах, которые, обнаруживая лишь частные типологические схождения с памятниками мифологии и искусства, определяют (несмотря на принципиальное отсутствие стилевых и образно-ассоциативных заимствований и подражаний) весь “древнеиндийский” историко-мифологический строй стихотворения Хлебникова, национальные “превращения” его художественного сознания.
Как внешний, зримый образный ряд произведения, так и его внутренний, не сразу различимый национально-этнический и национально-мифологический художественно преобразованный корневой пласт вводят читателя в эту “странную”, но живую Индию многовекового и определяющего владычества религии, ее законов и атрибутов над сознанием человека.
В центре стихотворения стоит образ жрицы Пляса, которая готовится к смерти, предустановленной неким торжественным ритуалом — либо в наказание за нарушение каких-то запретов (близко призрак гнева), либо в награду за фанатичное служение богам, дающее право на новую, иную жизнь после смерти (быть мертвой ‹...› отрада).
Образ смерти возникает уже в экспозиции, во втором стихе произведения, в символической эмблеме — перстне с змеиным ядом — кольце, которое как бы должно задушить жизнь, как душат человека кольца гада, обвившегося вокруг тела и готового вонзить в него свое жало. Эта эмблематическая линия, заключающая тему смерти в национально оформленный образ (кольцо — змей и кольцо — перстень с ядом) проходит через все стихотворение.
Хлебников-ориенталист, как уже отмечалось, почти не прибегает к стилизованному воспроизведению художественных приемов восточной поэзии, мифологии и фольклора. В его стихах редки классические композиционные повторы, кольцевые построения классики Востока, столь плодотворно использованные в свое время Фетом, затем — современниками Хлебникова Брюсовым и Бальмонтом, а впоследствии удачно имитированные Есениным в его «Персидских мотивах».
Поэтому вначале так удивляет семикратно повторяющийся стих А в перстне капля яда, яда (с вариацией А в перстне капля яда, в перстне), словно пронизывающий все стихотворение, возникающий в зачине, удвоенный в концовке и буквально охватывающий произведение, опоясывающий, “опутывающий” его, самой формой создавая тот же образ “змеиного” кольца, что возникает на содержательном уровне текста.
Поэт и здесь верен своему принципу “вхождения” в инонациональный, восточный мир без помощи стилизации. Его повторы — дань не амебейной композиции и множественным повторам стилевых формул (свойственных, кстати, более ирано-таджикской и тюркской, чем индийской поэзии), а прежде всего самой семантической сущности изображаемого им конкретно-национального бытия.
Конечно, рефрен Хлебникова может быть воспринят и как стремление передать ритм повторяющихся движений рук, тела героини — жрицы Пляса. Однако смысл стиха позволяет предположить с гораздо большим приближением к истине соотнесенность рефрена с другим ритмом, органично передающим внутреннее, духовное движение индийского “ведического” сознания. Ритмично повторяющийся стих Хлебникова, на наш взгляд, следует воспринимать как некое ритуальное заклинание, обращающее нашу память к индийскому тотему — к теме и образу кобры.
Исследователь-индолог отмечает: „С коброй связано в Индии неизмеримое множество мифов, преданий, верований ‹...› Кобра священна ‹...› Кобры обвивают шею всесильного Шивы, охватывают своими кольцами его руки и голову ‹...› Почти во всей индийской иконографии в том или ином виде присутствует кобра“.4![]()
Не менее широко представлен этот образ в индийском национальном эпосе. Тема змеи, смерти от змеиного жала и яда проходит через многие главы и сказания «Махабхараты». Хлебниковский образ змея, обвивающего кнеся (Был кнесь опутан телом гада) мог быть навеян не только описанием обвитого змеями Шивы, но и соответствующими картинами «Махабхараты», рисующими предустановленное богами убийство царя Парикшиты, ужаленного коварным змеем Такшакой:
Это змеиное кольцо, обвитое вокруг тела того, чья смерть неотвратима (вспомним и образ девушки, ужаленной змеей перед самой свадьбой6![]()
Один и тот же многократно повторяющийся стих, заключающий в себе по сути идею, зерно образа кобры (капля яда), непрерывно возвращает нас к теме, спонтанно ассоциирующейся в нашем сознании с видением мерно раскачивающейся из стороны в сторону змеи со смертоносной каплей яда в жале. Этот образ словно символизирует колесо судьбы, круговорот бытия, бренность жизни и неотвратимость смерти, “раскачивающихся” на весах фатума, силу “добра и закона”, которым, согласно индийским религиозно-мифологическим установлениям, подчиняется каждый.
Композиционный прием семикратного моноримического повтора (напомним, что семь — сакральное число в Ведах) закрепляет эту национально-окрашенную, формально-концентрированную идею заклинания — того парадокса духовной радости и духовного порабощения, который тонко уловил Хлебников. В образной системе стихотворения воплощение этого парадокса художественно-целостно и органично: символический образ живой ивы-девушки мгновенно “перечеркнут” смерти мчащимся потоком; жажда бытия, естественно, биологически ощущаемая ею (Она виденьям жизни рада), контрастно, но так же естественно (ибо это согласуется с предначертаниями индуистских воззрений), сочетается с ее жертвенным восторгом — с отрадой быть мертвой.
Создаваемая Хлебниковым художественная иллюзия заклинания связана не только с композиционным приемом повтора, но и с семантикой рефрена. Его образы вызывают в памяти серию магических заговоров «Атхарваведы», связанных с темой змеи и яда. Отдельные ведические формулы позволяют уловить известную близость между сублимированным образом яда у Хлебникова и в соответствующих разделах свода “атхарванов”, где ощутима магия древних заклинаний: „Как влага в пустыне иссяк твой яд“ (V, 13, I);7![]()
![]()
Понятно, нет и не может быть прямой связи между этим заклинанием индийской древнейшей веды и стихотворением Хлебникова. Однако погружаясь в стихию подобных мифологических “атхарванов”, мы невольно соотносим с ними поэтический вымысел художника. Даже не улавливая отдаленной внутренней близости образов приведенного ведического заклинания и стихотворения «Смугла, черна дочь Храма...», нельзя не отметить, что хлебниковская жрица также могла быть названной и “сестрой богов”, и “дочерью асуров” (небесные демоны), т.е. служить и Шиве, и, возможно, Кали. Напомним, что Кали (в буквальном переводе — ‘Черная’) — богиня-повелительница злых духов, почитаемая шиваитами как одна из ипостасей супруги Шивы.10![]()
Это касается и контрастной, белой гаммы оттенков, связанных с образом жрицы: Как свечи белые, бела; станет мелом все лицо; чернее ворона над снегом и т.п. Психологически обусловленная предощущением смерти, ее реальных мертвенных красок, эта белизна может быть внутренне связана и с иными, национально-мифологическими представлениями о цвете: белое в древней Индии было символом божественного, небесного (Ср. у Калидасы: „Белый хохот Шивы“11![]()
Таким образом, противостояние красок у Хлебникова может одновременно выражать и формулу “жизнь — смерть”, и свойственное индийскому мифологическому сознанию парадоксальное единство “небо — земля”, воплощающее служение богам и асурам, Шиве и Кали, что и сближает хлебниковскую жрицу с образом “рожденной от неба” и “от земли” из заклинания «Атхарваведы».
Правда, вопреки этому заклинанию, героине Хлебникова не удалось сделать яд лишенным сока (т.е. смертоносной силы), и она погибает. Но мы ведь не ищем сюжетных или формальных соответствий. Нас привлекает сама возможность соотнесения образа дочери Храма с “дочерью асуров”, “сестрой богов” — с такой же, как видно, мятущейся между жизнью и смертью, богами и демонами одинокой душой из ведического заклинания. Эта созданная даром художника возможность говорит о его глубочайшем проникновении в национально-сущностный дух древнеиндийских представлений о мире человека в мире богов и демонов; представлений, не замкнутых древним национально-историческим кругом вед, а разомкнутых для потомков талантом поэта другого народа и другой эпохи, воплотившего их в трагическом образе трепещущей ивы над смерти мчащимся потоком, к которому мы еще вернемся позже.
 Одна из ключевых историко-мифологических линий стихотворения «Смугла, черна дочь Храма...» связана с темой Пляски, к которой восходит не столько определение рода занятий героини, сколько выражение известного типа сознания целого народа. Тема танца, воплощенная в образе жрицы Пляса (у Хлебникова это слово не случайно начинается с прописной буквы), — одна из самых значительных в индийской мифологии и поэзии, ибо она изначально воплощает не случайное, а характерное и важное в самом национальном восприятии связи человека и движения, символизирующего жизнь. Не говоря уже о том, что бог Шива, которому служит жрица Храма, помимо прочих своих кардинальных функций, является еще и богом танца (чем обусловлен и ритуал индийских храмовых культов, и появление самого института жриц Пляса), танец есть онтологическое выражение индийского национального мира и характера, что засвидетельствовано множеством литературных шедевров Индии. Вспомним монолог Ганадасы из драмы Калидасы «Малявика и Агнимитра»:
Одна из ключевых историко-мифологических линий стихотворения «Смугла, черна дочь Храма...» связана с темой Пляски, к которой восходит не столько определение рода занятий героини, сколько выражение известного типа сознания целого народа. Тема танца, воплощенная в образе жрицы Пляса (у Хлебникова это слово не случайно начинается с прописной буквы), — одна из самых значительных в индийской мифологии и поэзии, ибо она изначально воплощает не случайное, а характерное и важное в самом национальном восприятии связи человека и движения, символизирующего жизнь. Не говоря уже о том, что бог Шива, которому служит жрица Храма, помимо прочих своих кардинальных функций, является еще и богом танца (чем обусловлен и ритуал индийских храмовых культов, и появление самого института жриц Пляса), танец есть онтологическое выражение индийского национального мира и характера, что засвидетельствовано множеством литературных шедевров Индии. Вспомним монолог Ганадасы из драмы Калидасы «Малявика и Агнимитра»:
В поэме «Облак-вестник» Калидаса воспроизводит непосредственно ритуал храмовой пляски; подобный ритуал, оставаясь за рамками стихотворения Хлебникова, ощущается в нем как потенциальный его художественно-мифологический и семантический пласт, детерминирующий не экзотическую, внешнюю, а сущностную, характерно-национальную основу образа жрицы Пляса. То, что Хлебников дает ощутить как ретроспекцию образа и окружающих его предполагаемых обстоятельств, Калидаса непосредственно изображает:
Известная поэтизация в подобных произведениях образа жриц Пляса, остававшихся в то же время дочерьми Храма, наложила отпечаток и на “индийскую легенду” Гете «Бог и баядера», где в романтических тонах воспета любовь “падшей девы” к „земли владыке“ — Магадеву; по этой причине она забывает свои “прямые обязанности” („‹...› И не надо ей даров, // И для пляски нету воли“).14![]()
Таким образом, все относящееся у Хлебникова к жрице Пляса опирается на реальности индийского национального бытия и освященной обычаями среды. Они связаны с культом Шивы, именуемого и Натараджей — ‘Царем танца’, воплощающим в своей пластике „ритмы кружения планет по небосводу и биение мельчайших частиц вещества, всегда пребывающих в движении, ритмы токов крови и приливов энергии — ритмы мироздания“.16![]()
Судя по рассматриваемому стихотворению, Хлебникову многое из этого было известно. Знал он и о тонкостях “профессионального” бытия ‘Дэвадаси’ — вспомним хотя бы строки: А ей быть жрицей Пляса надо. // Она не пляшет храма вне. В самом деле, исполнение священного танца ‘бхарат-натьям’ „могли видеть только жрецы и молящиеся“.17![]()
Законы эти были весьма жестокими по отношению к жрицам пляса, и Хлебников не смягчает “низких истин”, касающихся суровой и жалкой судьбы своей героини. При всей внешней традиционности формовыражения, близкой, к стилистике современной любовной поэзии, строки Хлебникова А ноги черны, смуглы, босы // Ведут толпу к вечерним негам говорят о тех сторонах “профессии” жриц Храма, которые были связаны с “любовью” совсем иного рода и проще именовались храмовой проституцией, — явлением, освященным религиозными установлениями индуизма (и многих иных религий). Хлебниковская жрица Пляса, как и ее финикийские сестры, подобные брюсовской Аганат,18![]()
Мы уже не раз могли убедиться в том, что образная система стихотворения Хлебникова удивительно точно соответствует фактическим деталям и реалиям древнеиндийской национальной среды. Это относится даже к частностям, ибо в том, что касается среды и обстоятельств, у Хлебникова нет поэтических вымыслов, метафор, условностей, не опирающихся на явный или скрытый пласт исторических наблюдений исследователей и фактологии национальных памятников изобразительного искусства и слова.
Простой пример: стих Хлебникова Идет туда, где смолы душны. В любом описании индийского храма мы прочтем: „В храме ‹...› царит таинственный фиолетовый полумрак, сыро: на каменных стенах оседает пар от дыхания и храмовой кухни, дым от факелов ‹...› Невероятно душно, пахнет камфарой, цветами, сандалом, куреньями ‹...›“19![]()
Эти и подобные им детали, “вычлененные” нами из поэтического текста, конечно, не выступают в нем как некие экзотические “знаки” хлебниковской Индии: они составляют органическое единство и с трагическим обликом героини, и с лирической стихией произведения, и с его ритуальным “сюжетом”. Однако подобная художественная целостность не могла бы возникнуть вне цепочки образов как вещного, предметного, так и духовного ряда, обращающих нас к этническим, социальным, мистическим, культовым — тысячелетней давности и ведидеской выразительности — деталям глубоко постигнутой среды, которые составляют как бы национальную материю стихотворения, в пространстве и времени которого движется эмоция художника.
Важно, что любая достоверная деталь или факт у Хлебникова внутренне соотносится с постижением национально-духовного мира Индии воссоздаваемой эпохи, выступает лишь как частица общего, внутреннего его движения.
Поэт непредсказуемых образных ассоциаций, внезапного переброса семантических рядов из одного смыслового пласта в иной, художник “немотивированных” перемещений, трансформаций и перевоплощений, — этот “странный” Хлебников неожиданно оказывается ясным и понятным, если мы можем подняться на высоту его “сверхвидения” и постигнуть глубины его проникновения в социально-исторический и национально-детерминированный мир, психологию, мифологическое сознание иного народа.
Так, вне этого мира и этого сознания, оказывается абсолютно непонятной заключительная строка стихотворения «Смугла, черна дочь Храма», особенно — внезапно возникший центральный ее образ, подчеркнутый нами: Быть мертвой слонихе отрада.
Между тем этот стих и образ могут иметь несколько толкований, причем каждое из них восходит не к “экспериментаторскому”, а к художественно-психологическому опыту Хлебникова-ориенталиста, к творческому поиску, в основании которого — жажда познания индийского национального бытия и талант эстетического “перемещения” в сердцевину историко-мифологического самосознания и кодекса представлений народов Древней Индии.
Образы слонов, появляющихся в экспозиции стихотворения, относятся к “внешнему”, зрительно-вещному ряду:
Достоверность этого “зрительного” ряда, усиливающая психологическую обусловленность образно-содержательных пересечений, покоится на включении в художественно-ассоциативную систему произведения реальных элементов индийской иконографии и храмовой скульптуры — предметных “знаков” национальной среды, засвидетельствованных в научных трудах, путевых записях, картинах об Индии, очевидно, знакомых Хлебникову. Исследователь отмечает: „Слонов можно увидеть в рельефных орнаментах индийских храмов или в виде скульптур, поддерживающих ворота или даже целые здания“.20![]()
Перекличка этих “внешних” деталей храмов, культовой среды с образом слонихи из заключительного стиха, нам кажется, не может быть случайной.
 Гипотетичным, но не лишенным оснований может оказаться предположение, что героиня стихотворения служит не только Шиве, но и его сыну — богу Ганеше, изображаемому всегда с головой слона.21
Гипотетичным, но не лишенным оснований может оказаться предположение, что героиня стихотворения служит не только Шиве, но и его сыну — богу Ганеше, изображаемому всегда с головой слона.21![]()
![]()
Возможно, однако, и иное толкование образа слонихи, на наш взгляд, более точное. Заключительный стих может нести в себе отзвуки индуистских воззрений на человеческое бытие как переселение душ — учения о карме. Карма (возмездие) — это возрождение человеческой души после смерти в телесной оболочке другого существа. И если неожиданное перевоплощение дэвадаси в трепетную иву над потоком смерти — это, конечно, всего лишь превосходная поэтическая метафора, плод фантазии художника, то трансформация дочери Храма в слониху может восходить к более точным и национально-исторически детерминированным корневым пластам индийского ведического самосознания. Жрица пляса могла быть убита не только в наказание, но и в награду, будучи принесенной в жертву всесильному богу, который превратит ее, в соответствии с ее прежними добродетелями, из “рабыни” и ‘тевадияль’ (проститутка) в существо, гораздо более близкое к ведическому пантеону, в особенности к слоноголовому сыну Шивы. Может быть, поэтому быть мертвой слонихе отрада?
Таким образом, тема рока получает у Хлебникова художественно оправданное “изнутри” (т.е. национально и исторически обусловленное) наполнение. Возрождение в новом облике, с этой точки зрения, может символизировать (конечно, в форме первобытных, мифологических представлений самой героини) развитие всего рода человеческого: будущее зависит от прошлого, настоящее — лишь ступень к будущему, а смерть — начало тропы к возрождению.
Воплощенная не в абстрактных суждениях о судьбе, а в конкретной судьбе человеческой, эта мысль обретает у Хлебникова художественное движение. Тема “колеса судьбы”, вечного круговорота вселенной, кольца, в котором человек — лишь песчинка мироздания (тема, раскрытая, как мы помним, и в образах перстня, змея и в самой композиционной структуре произведения), вновь возникает в иных образных линиях и на других уровнях текста, определяя его духовно-эстетическое единство.
В основании этого единства лежит слияние исторической, национальной и лирической стихий. При этом если две первых покоятся, как мы стремились показать, на постижении индийских историко-мифологических источников, то последняя восходит к национальным традициям русской лирики — не только к ее образности и металогии, но и (прежде всего) к духовной сущности ее поэтики. Элементы национальной образно-стилевой системы русской поэзии и фольклора (образ ивы, склоненной над водой, сравнения летящих кос с соколом, цвета волос — с вороном, змей, лишенных яда, — с зайцами, а бледного лица — с мелом и даже со снегом, которого в Индии и не видели), не отторгаются художественным “организмом” стихотворения и естественно передают его смысл и дух потому, что как бы исторгнуты из глубин высокой гуманистической эмоции, выражающей константное состояние души всех больших русских художников, к числу которых, несомненно, принадлежал и Велимир Хлебников.
И время — эпоха, отделенная от Хлебникова тысячелетием, — и пространство — далекая Индия — здесь вторичны по отношению к лирическому прозрению художника, ищущего в движении разных эпох и разнонациональных характеров человека. Не “гомо сапиенс”, а человека страдающего, пусть совсем непохожего, иного, но составляющего часть истории людей и потому вызывающего внимание, сочувствие, желание не только воссоздать его облик, но и проникнуть в мир духовный и душевный.
На всем протяжении повествования поэт то отдаляется от героини, чтобы понять ее, то приближается к ней, чтобы словно предостеречь, спасти, увести от самой судьбы. Сразу же за первыми строками зачина, создающими и внешний облик жрицы (Смугла, черна дочь Храма), и тревожную ноту фатума (А в перстне капля яда, яда), следует поэтическое обращение к луне, сходное с культовыми заклинаниями — космогоническими гимнами к светилам из «Ригведы»:
Кому принадлежит эта мольба-заклинание? Может быть, жрице Пляса, сознающей, что как только взойдет луна (то есть наступит ночь), ей грозит предустановленная ритуалом гибель: ‹...› Смерть взойдет в нее, ‹...› // И станет мелом все лицо ‹...›?
Но скорее заклинание это воспринимается как голос самого автора, словно предощущающего трагедию вместе со своей героиней. И далее это слияние, эта лирическая тревога поэта постоянно передается и выражается в те моменты, когда он переходит от эпических деталей и фабульных перипетий к воссозданию лика, дыхания, душевных движений дочери Храма; здесь и возникают драматически-контрастные повторяющиеся пересечения черно-белого портрета, которые выше получили свое “мифологическое” объяснение. Однако анималистические метафоры и уподобления этого портрета не воспринимаются лишь с этой, “рациональной” точки зрения. В них ощутима не только амбивалентность “небесного” и “божественного” или печать инобытия, уже ложащаяся на лицо жрицы, но и словно смятение души самого поэта, ищущей пронзительного выражения собственного страдания в этой трагической “игре” света и тени, где живое и мертвое непрерывно сменяет друг друга:
Как это далеко от “словесной игры” Хлебникова с теми же звуками ‘ч’ и ‘б’ в письме к А. Крученых, написанном, возможно, тогда же (1913), когда создавалось стихотворение! А казалось бы, какая близкая связь “теории” и художественной практики — приведенные стихи словно призваны проиллюстрировать эти положения:
Насколько выше и эстетически точнее Хлебников-художник по сравнению с Хлебниковым-экспериментатором, ищущим в звуке непосредственное выражение смысла!
Конечно же, не преобладание звука ‘ч’, а слитность “портрета” с драматическим сюжетом, с национально-историческими и мифологическими детермина-тами образа жрицы, эстетически точная металогия, насыщенная эмоционально-цветовыми контрастами, — вот что рождает “значения” и связи бытия и небытия, ощущение трагедии, общефилософский и общечеловеческий смысл которой не в “сюжете с убийством” и тем более не предполагаемом антагонизме избранных звуков, а в вырвавшемся из самой души лирическом всплеске:
Образно-стилевые ряды этого двустишия призваны передать, конечно, не только фатальную, национально-мифологически и исторически обусловленную закономерность свершившегося, но и вздох души человеческой по душе человеческой; он-то, может быть, более всего и связывает песчинку и мироздание, век с веком, память с движением человека в истории.
За этим пронзительным вздохом стоят, нет, — мечутся! — тени великих авторов «Станционного смотрителя», «Медного всадника» и «Шинели», «Бедных людей» и стихотворения «Вчерашний день в часу шестом...» И не потому ли, при всей социальной неоформленности, незакрепленности, зыбкости гуманистической эмоции поэта, в ней все же ощутима эта робкая социальная нота, ибо хрупкая девушка, обреченная на смерть, и убивающие ее боги, асуры, жрецы, дикие законы догматического вероучения — объективно — вызывают полярные и социально-контрастные им чувства читателя. Не случайно Маркс говорил когда-то о „человеке общественном, т.е. человечном“.23![]()
Не всякие аналогии закономерны и плодотворны. Однако вопреки логике сопоставлений поэтов разных эпох и народов, можно было бы отметить: лишенная этого вздоха по душе человеческой, сентиментальная «Бог и баядера» Гете, невзирая на гениальность ее создателя, — всего лишь благостная “индийская легенда”; стихотворение Хлебникова «Смугла, черна дочь Храма...» — социально-историческая человеческая трагедия. Она запечатлена человеком, в котором жил и изобретатель “словесной игры”, и философ, далекий от понимания истинных путей преодоления трагического разрыва между личностью и миром, и в то же время — великий художник-гуманист, продолжатель высоких традиций русской интернациональной и человечной литературы пушкинского типа и значения.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 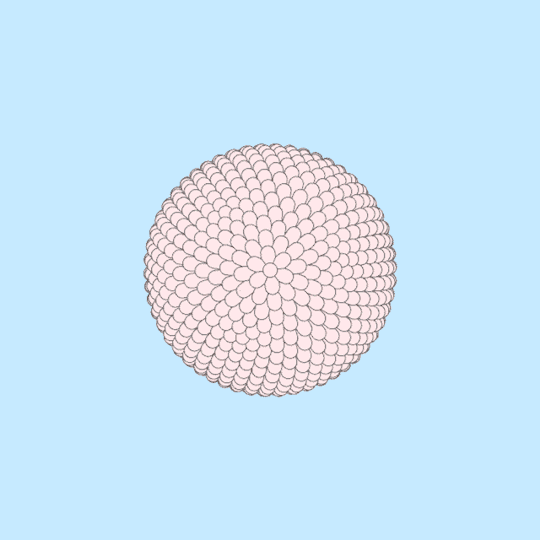 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||