





Эта идея и весь этот мир формировались в ту пору, когда Хлебников в своих поисках “нового искусства” еще не пришел к явлению, получившему название “футуризм”; впоследствии жизнь показала, что и футу ризм с его известными перегибами и наскоками на предшествующую культуру, в чем-то мешая Хлебникову, все же не отодвинул его от главных проблем, связанных с самим существованием рода людского, сохранением его культуры, поисками гуманистических и интернациональных корней бытия в истории человечества.
С самого начала творческой деятельности Хлебникова эти поиски, как мы убедились, велись и в тех социально-исторических и художественных пластах, которые остро затрагивали живую действительность и эстетический мир Востока. Связанный с ним своей биографией поэт всю жизнь последовательно углублял знания о Востоке, его цивилизации, мифологии, фольклоре, классическом эпосе и лирике, черпая в них и вдохновение, и глубокое убеждение в том, что бытие и духовный мир Запада и Востока, при всех их различиях, едины в своей главной, человеческой сущности.
Эта западно-восточная концепция Велимира Хлебникова легла в основу его предоктябрьского творчества (взятого в его главных измерениях), с особой силой воплотившись в эпических опытах художника — поэмах «Медлум и Лейли», «Дети Выдры» и «Хаджи-Тархан» составляющих своеобразный триптих. От них лежит сложный, но есттественный для Хлебникова путь к Октябрю, к послеоктябрьским шедеврам — к революционной «Трубе Гуль-Муллы», к воспевающему человека труда «Кавэ-кузнецу», к славящему братство людей Земли «Ладомиру» и «Единой книге».
В условном триптихе Хлебникова перед русским читателем совершалось мудрое художественное открытие мира, России, Запада и Востока в их исторически сложившихся и своеобразно, порой субъективно воспринятых художественным сознанием поэта сложных отношениях. Но в этих трех поэмах совершалось открытие и иного серьезного явления истории мировой культуры: самого Велимира Хлебникова.
Тем более значителен интерес к ним.
К началу 1910 годов контуры мировосприятия Хлебникова обретают чрезвычайно масштабный характер. Склонность к осмыслению явлений в их исторической взаимообусловленности, правда, не всегда уловленной в ее социальных детерминатах, но подчиненной гуманистической идее духовной связи народов, рождает у Хлебникова потребность и через поэтическую космологию, и через частные моменты жизни людей воссоздать прежде всего философски-всеобщую картину и ход бытия.
Известная пушкинская формула о “судьбе человеческой” и “судьбе народной”, в эту пору еще оторванная у Хлебникова от классовых причинно-следственных связей между средой и характером, зачастую абстрагируется в его поэзии; однако она обретает весьма конкретное звучание, когда получает углубленно-направленное интернациональное наполнение. Судьба своего народа и каждой отдельной личности не замыкается у Хлебникова национальными рамками. Пушкинская формула расширяется им до уровня проблем, касающихся судьбы мира в целом, его жизни или гибели, зависимости будущего от степени глубины и величия разума. Не абстрактного Мирового Разума, а способности человечества, исторически разделенного на Запад и Восток, мыслить реально и трезво, чтобы не истребить себя.
Объективно эта концепция может быть определена — при всех своих социально-расплывчатых контурах — как отвечающая интересам народов мира, ибо она не только воплощает в себе идею сохранения жизни на нашей планете, но и переносит центр тяжести философской проблемы борьбы противоположностей с племенной розни на иные явления общественного бытия.
В преддверии глубоких исторических катаклизмов, развязанных первой мировой войной, в 1911 году, создается поэма Хлебникова «Медлум и Лейли» — своеобразный философско-эстетический зачин целой эпопеи о прошлом, настоящем и будущем человечества.
Настоящее, современность играет здесь важнейшую роль общественно-исторического импульса, истока размышлений о судьбах планеты, раздираемой социально-историческими и национально-племенными противоречиями.
Будущее возникает в «Медлуме и Лейли» “через” прошлое — как абстрактно-гуманистический идеал, воплощенный в мифологизированной системе фантастических астральных образов, моделирующих художественную утопию Хлебникова.
Прошлое, составляющее основной сюжетно-характерологический пласт произведения о вражде родов, разлучающей влюбленных, воссоздано у Хлебникова в сложном процессе взаимодействий с разветвленной системой многочисленных и восходящих к разным эпохам источников — мифологических, фольклорных, литературных.
Вопрос об источниках поэмы Хлебникова «Медлум и Лейли», помимо самодовлеющего значения, что, конечно, немаловажно с точки зрения генезиса и текстологии произведения, неожиданно обретает и иной, более принципиальный смысл, касающийся непосредственно духовно-художественной структуры поэмы, ее философии и всей концепции бытия, исповедуемой Хлебниковым.
Основная посылка наших рассуждений на эту тему сжато звучит так: «Медлум и Лейли» — это своеобразная индивидуально-творчески воссозданная художественная модель мира, не восходящая ни к какому конкретному западному или восточному мифологическому, фольклорному или литературному “прототипу” (несмотря на огромное количество сходных сюжетных версий) и в то же время восходящая ко многим элементам, образам и структурам этих “прототипов”; парадокс в духе Хлебникова.
Конечно, внимательный читатель мгновенно ассоциирует уже само название поэмы «Медлум и Лейли» с многочисленными ориентальными сюжетами, связанными со сходной ономастикой («Лейли и Меджнун» Низами, Дехлеви, Сухайли, Джами, Хатифа, Табризи, Мауджи, Замири, Мир Джумла, Навои, Физули и др.). Так же несложно уловить в мотиве ссоры и кровной мести двух родов, препятствующих любви, западноевропейские фабульные линии (итальянский фольклор; Брук, Пейнтер, Шекспир), хотя, как увидим, типологически сходная коллизия есть и в одном из восточных вариантов. Наконец, ауторика1![]()
Все это, сцепленное между собой единством поэтического замысла и общей философской идеей, позволяет ощутить уже в самом принципе избирательности разнонациональных источников «Медлума и Лейли» некую запрограммированную систему, обусловливающую диалектически противоречивую, но объективно возникающую художественную целостность этого важного лироэпического опыта Хлебникова, связанную с его восприятием и воссозданием мира и человечества.
Необходимость быть доказательным и явная связь генезиса поэмы непосредственно с ее философско-эстетической концепцией заставляют несколько подробнее обычного рассмотреть вопрос об источниках «Медлума и Лейли».
Комментаторы безоговорочно относят их к единственному произведению — поэме Низами «Лейли и Меджнун». Однако уже в экспозиции Хлебников недвусмысленно подчеркивает, что не связывает себя каким-либо конкретным сюжетом того или иного предшественника, по сути декларируя свободу движения своего замысла. Вступительные строки поэмы напоминают эпический зачин фольклорного сказания или сказки; в нем не произнесено, но ощутимо традиционное „жили-были”:
Завершается экспозиционная часть двустишием, сознательно уводящим читателя от мысли о литературном происхождении поэмы:
Конечно, Хлебников знал о шедевре Низами, — по его словам, лучшей повести арамейцев (4, 58). В ходе создания «Медлума и Лейли» он, как будет показано ниже, очевидно, обращался к довольно полным и затрагивающим не только сюжетную канву прозаическим пересказам знаменитой восточной эпопеи о несчастных влюбленных. Однако весь зачин поэмы Хлебникова достаточно прозрачно намекает на то, что для него не имеет значения какой-либо “подлинный” и единственный источник: избранное им самим жанровое определение “прасюжета”, видимо, призвано указать на то, что автор опирается на некое “преданье” вообще, т.е. на апокриф, легенду, сумму бродячих сюжетов (а их действительно было великое множество: арабских, персидских, староузбекских, турецких, азербайджанских версий «Лейли и Меджнуна»; итальянских, английских, немецких историй о разлученных родителями любовниках), — опирается на все сразу и ни на один из них конкретно. Другими словами, поэт (как и любой другой “разработчик” предания — сказитель, акын, бахши и т.п.) использует фольклорную вариативность жанра, избранного им в качестве “источника”, предполагающую возможность бесчисленного количества предшествующих версий и их творческих “продолжений”: нового наполнения характерологии, сюжетики, образности и т.п. В пользу этого суждения говорят уже “внешние” изменения фабулы и ономастики “Медлума и Лейли”.
Место действия поэмы, в отличие от всех существующих версий, как восточных, так и западных, — не арабские пустыни и не европейский город, а Западный Иран (Курдистан), хотя существует лишь одна курдская версия сюжета, конечно же, неизвестная Хлебникову: рукопись ее на курдском (гуранском) диалекте не переведена и находится в Британском Музее.2![]()
Плодом фантазии Хлебникова можно назвать и имя одного из главных героев поэмы: Медлум. Подобной транскрипции мы не встретим ни в одной из восточных версий (известные ономастические разночтения ‘Маджнун’ и ‘Меджнун’).3![]()
Вольное движение хлебниковского сюжета затрагивает и более значительные изменения, касающиеся уже внутренних “характерологических” свойств главных героев. В восточных версиях инициатива обращения к небу принадлежит Меджнуну, молящему сначала звезды, а потом бога о помощи. У Хлебникова более активна Лейли, причем тема аллаха, неба и звезд, в которые она просит превратить ее и Медлума после смерти, сливаются в один монолог:
Во всех версиях сюжета эпопея несчастных влюбленных оканчивается их смертью. У Хлебникова смерть Лейли и Медлума — лишь начало их вечного пути друг к другу, символ разлуки и слияния, разделенного единства: Медлум превращается в восточную, а Лейли — в западную звезду; с этим связана вся философская концепция Хлебникова, именно потому включающая в свою орбиту и проблему западных и восточных источников, а не единственного “прототипа” поэмы. Дав понять читателю уже в экспозиции, что он избирает жанр “воссоздаваемого”, а по сути творимого “предания”, Хлебников освобождается от необходимости следовать конкретному источнику и одновременно проясняет мысль о причинах сходства тех или иных мотивов поэмы с известными сюжетными поворотами различных версий “традиционной” фабулы в предшествующей мировой словесности, как западной, так и восточной.4![]()
Этого не уловили ни первый публикатор и комментатор поэмы Н. Харджиев, ни автор примечаний к различным изданиям Хлебникова и книги о нем Н. Степанов, полагавшие, что «Медлум и Лейли» — развитие сюжета лишь Низами.
„Тема разлученных семейной враждой любовников восходит к поэме персидского поэта Низами Гянджеви (1141–1203) «Лейли и Меджнун»”, — писал Н. Харджиев.5![]()
![]()
В главе «Отец Меджнуна отправляется сватать Лейли» (которой предшествуют сцены “безумств” влюбленного Кейса) описано прибытие представителей рода амиритов во главе с отцом Кейса в стан „племени утешительницы сердец”7![]()
Свой отказ на брак Лейли и Кейса отец девушки мотивирует весьма убедительно: Кейс ведет себя, по понятиям того времени, слишком бурно и романтично, он кажется всем Меджнуном (безумцем), бродит по пустыням, бормоча стихи во славу Лейли. Никакой враждебности нет в рассудительном монологе ее отца, отвечающего отцу Меджнуна; наоборот, он даже не против возможного родства семей в будущем, когда Кейс исцелится:
Как видим, здесь нет никакой “семейной вражды”, есть лишь непонимание романтической страсти и боязнь мнения арабской “Марьи Алексевны”.
Таким образом, первый вывод, который можно сделать (неточность комментатора ясна, и больше мы к ней возвращаться не будем): сюжет “семейной вражды” русский поэт заимствовал не у Низами; между тем он звучит в “восточной” поэме Хлебникова с большой остротой: здесь прямо говорится о сече отцовских мечей и еще более определенно:
Конечно же, память немедленно подсказывает читателю сюжет шекспировской трагедии. По сути мы не найдем ни одного исследования или даже предисловия к восточным версиям сюжета, где не рассматривалась бы параллель: «Лейли и Меджнун» — «Ромео и Джульетта». Но параллель эта проводится в контексте реальных характерологических и сюжетных линий, касающихся судьбы главных героев.
Подобная параллель может оказаться весьма опасной для исследователя, изучающего генезис поэмы Хлебникова. Так, у Н. Степанова, с одной стороны, справедливо отмечено, что «Медлум и Лейли» — не пересказ поэмы Низами, а „попытка создания своего самостоятельного отображения этого сюжета”. С другой стороны, сразу же после уподобления героев Низами героям Шекспира о поэме Хлебникова говорится: „Сохраняя сюжет и локальные краски, Хлебников далек от стилизации, от восточного украшательства ‹...›”8![]()
Для нас важно не просто подметить противоречивость замечаний Н. Степанова, а тот факт, что отнюдь не сохраняя сюжета Низами, Хлебников отходит от него в первую очередь в мотивах и линиях, наиболее близких западноевропейским версиям о разлуке влюбленных. Как уже отмечалось, помимо «Ромео и Джульетты», здесь могли бы быть названы и иные (весьма сходные с этим мотивом Хлебникова) произведения из немецкой, французской, английской поэзии. Однако очевидно, что в основе этого важнейшего мотива «Медлума и Лейли» (речь идет о главной причине трагедии двух любящих сердец) лежат сюжетные детерминаты именно «Ромео и Джульетты» как наиболее известного и, по сути, традиционного, “классического” сцепления коллизий, препятствующих чистому и верному чувству: вражда двух противостоящих сил, двух родов, вражда, как и у Шекспира, замешенная на крови (где отцов пролита кровь) и решаемая силой оружия (сечей отцовских мечей).
Повторим: подобных коллизий нет у Низами. А мотив этот играет у Хлебникова главную роль. Ибо его поэма гораздо глубже, чем определяет ее суть исследователь: „Поэму о беззаветной любви Хлебников превращает в миф о “вечной любви”, достигнутой отречением от земных радостей ‹...› У Хлебникова Лейли и Медлум после смерти превращаются в звезды, вечно мчащиеся навстречу друг другу”.9![]()
Слово выбрала звучит здесь парадоксально: этот выбор причинно обусловлен не волей небес, а именно той ситуативной корневой, изначальной конфронтацией, враждой родов Медлума и Лейли, которые отсутствуют у Низами, но главенствуют как причина разлуки и трагедии у Шекспира.
Истины ради отметим, что в потоке восточных версий сюжета о Меджнуне и Лейли есть одно произведение, где подчеркнута враждебность рода героя и рода героини друг друга. Это — одноименная поэма Джами. А.Е. Крымский отмечает, что „Европа познакомилась с персидской поэмой «Лейли и Меджнун» впервые в обработке не Низами, а Джами (по французскому переводу А.Л. Шези” [1805]).10![]()
Может быть, однако, Хлебников все же опирался на сюжет Джами? Это предположение дополнительно опровергается тем, что мотив вражды двух родов у персидского поэта носит прежде всего социальный характер: богатый отец Маджнуна называет Лайли „последней из рабынь”; Маджнун отвечает ему в том смысле, что любви нет дела до неравенства и социального положения людей.11![]()
Может возникнуть впечатление, что автору книги хочется убедить читателя в полном отсутствии восточных истоков поэмы Хлебникова. Это, конечно же, не так: речь шла лишь об одном ее существенном мотиве, отсутствующем у Низами. Во многих же весьма важных своих линиях поэма Хлебникова, как мы постараемся показать, опирается именно на Низами, чья эпопея лежит в основании не только романтической канвы характеров и магистральной сюжетной линии (в общих ее контурах), но и значительных структурных элементов образно-философской системы «Медлума и Лейли».
Соответствия между поэмами Низами и Хлебникова касаются существенных граней мироощущения главных героев — восприятия мира с точки зрения человека Востока.
Прежде всего традиционен мотив обращения к высшей силе. У Низами это зачин не только всей эпопеи, но и отдельных ее частей, глав, монологов, где все начинается с имени аллаха. У Хлебникова молитва Лейли строится по тому же канону: Бог, чье страшно молвить имя (НП, 211).
Возможности высшей силы у Хлебникова, как и у Низами, связаны с космогоническими представлениями о связи светил, звезд, их возникновения и движения с волей неба; поэтому Лейли и обращается к нему с просьбой превратить влюбленных, разлученных волей отцов, в звезды: Повели, чтобы могли мы // Вверить жребий свой звезде (НП, 211). Эта грань образа аллаха, повелевающего небом и землей, человеком и звездами („Вселенная происходит от твоего приказа”;) особенно подчеркнута у Низами в монологе-молитве Меджнуна: „О ты, чьими рабами являются Зухра и Муштари ‹...› // Сделай так, чтобы звезда моей удачи освободилась от пут” (228–229).12![]()
Таким образом, поэма Низами дает немало оснований для вывода о семантико-структурных схождениях соответствующих пластов произведений, касающихся образа бога и связанных с ним деталей образно-мифологической системы мировосприятия главных героев Низами и Хлебникова.
Вторая образно-содержательная линия, в движении которой Хлебников наиболее ощутимо пересекается с Низами, — это тема любви Медлума и Лейли, собственно, главная тема обоих произведений, что определяет и наибольшую частоту соответствий восточного “канона” и русского “назира” (ответа).
Любовь героев Хлебникова — особая, необыкновенная, небесно чистая:
Схождения этого отрывка с Низами подтверждаются конкретными перекличками, которые, как и в предыдущем случае, можно условно классифицировать по сходству ассоциаций.
1. Небесная чистота любви, ее “божественность”.
2. Любовь — слияние душ. Не только душ влюбленных, но и души человеческой с одухотворенным миром бытия.
| Низами | Хлебников |
| У них была одна душа и телами стали одним... (305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мы оба — части одной души... (309) | И душа пылает всюду По лицу земной природы (НП, 210). |
3. Любовь — поэзия. Огненное слово поэта — наиболее адекватное и естественное выражение высокого чувства любви.
Вначале обратимся к высказыванию исследователя Низами:
Хлебников уловил у предшественника и воплотил в своей поэме эту грань не столько “сюжета”, сколько самой сердцевины проблемы любви, всегда связанной с пробуждением вдохновения, с возникновением “огня” души, ищущего выхода в слове, в языке. Сопоставим:
| Низами | Хлебников |
| Глас их любви звучал во всем мире (306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Меджнун из-под туч кровавых слез Развязал свой огненный язык (307). | Все меняет говор, норов И правдивый гонит лик Для любви нескромных взоров, Для проказы и погонь, И трепещет, как огонь, Человеческий язык (НП, 210). |
Тождество весьма близкое. Чтобы не было сомнений в том, что речь идет именно о поэзии, Хлебников далее добавляет: Все запело человечьим // Песен словом вдохновенным.
Думается, и в этом плане, касающемся темы любви и ее углубленно-философского звучания, соответствия «Медлума и Лейли» и поэмы Низами достаточно явственны.
Однако еще более любопытны схождения Низами и Хлебникова, захватывающие, так сказать, “внесюжетные” и более глубокие пласты философско-художественного сознания обоих поэтов. Ясно, что такие “взаимодействия” могли возникнуть не только вследствие знакомства Хлебникова с поэмой Низами, но и по причинам, связанным с общим интересом русского поэта к самым древним мифопоэтическим представлениям о вселенной и человеке, нашедшим отражение и в творчестве Низами.
«Лейли и Меджнун», так же как и “ответ” на нее русского поэта (хотя это — произведения письменной словесности), — своеобразные мифоэстетаческие системы, в которых человек и мир воссозданы, в частности, и через особые, присущие именно мифу “кодированные” знаки бытия. Одним из таких знаков — качественно-количественных моделей мира — в поэме Низами является двоичный числовой ряд, соответствующий как всей характерологической структуре произведения (2 рода, 2 главных героя, 2 несчастных сердца, 2 смерти), так и более общим представлениям азербайджанского поэта, его далеких предшественников и продолжателей о вселенной в целом.
Подойдем к этому числовому ряду издалека: вспомним сначала известное пушкинское «Подражание арабскому», с его афористической магистралью:
В.В. Виноградов отмечал, что образ заимствован из «Гулистана» Саади („‹...› Я и мой друг жили, будто два миндальных ореха в одной скорлупе”17![]()
В чем же суть подобных соответствий, число которых можно умножить, а корни — найти в древнейших мифах? Образ, объединяющий целостность (число 1: „одна скорлупа” у Низами и Саади, „единая скорлупа” в «Подражании...» Пушкина) и раздвоение этой целостности (число 2: „два ядра” у Низами, „два миндальных ореха” у Саади, „двойной орешек” у Пушкина), — это одна из самых распространенных в древне- восточных космологических воззрениях и мифопоэтическом сознании философско-художественных структур, призванная передать сущность представлений о мире (и в его частных, человеческих, и в его “вселенских” субстанциях) как о раздвоении единого. Число 2, как отмечает современный исследователь мифопоэтических систем и всего мифологического “метаописания”, „отсылает к идее взаимодополняющих частей монады (мужской и женской как два значения категорий пола; небо и земля, день и ночь как значения, принимаемые пространственно-временнóй структурой космоса), к теме парности, в частности в таких ее аспектах, как четность, дуальность, двойничество, близнечество”. В ведийской традиции число 2 „выступает как символ противопоставления, разделения и связи, с одной стороны, и как символ соответствия ‹...› противопоставляемых членов — с другой. В силу этих качеств 2 есть первичная монада, защищающая человека от небытия и соответствующая творению — небу и Земле, рожденным в одном гнезде”.18![]()
Все это имеет отношение к двоичной художественной структуре как восточного “канона” Низами, так и поэтического “назира” Хлебникова; поэма Низами в данном случае играет роль если не конкретного источника (ибо концепция Хлебникова масштабнее философских построений Низами), то во всяком случае того “переходного” и весьма важного философско-эстетического звена, которое восходит, как во многом и поэма Хлебникова, к древнему мифопоэтическому сознанию, по-разному, но в чем-то сходно преломленному у разделенных веками азербайджанского и русского художников.
Символика, связанная с числом “два”, находит отражение в поэмах Низами и Хлебникова почти по всему спектру перечисленных выше позиций. Сравним важнейшие из них.
1. Небо и земля. Эти категории мы находим у Низами постоянно. В монологе Меджнуна говорится об аллахе: „Наш листок он начертал особым способом ‹...› Чтобы мы узрели небо и землю” (46). У Хлебникова “свет” возникает “в небесах”, а “душа” пылает “по лицу земной природы”; имя бога страшно вымолвить “рту земного”, но голос влюбленных он услышал “с высоты ночного неба” и т.п.
2. День и ночь. У Низами тема дня и ночи, света и мрака — один из излюбленных символов добра и зла. „Удали краску с лица этих черного и белого” (43; в примечании комментатора дано объяснение: „Двое враждующих — день и ночь”).19![]()
Хлебников здесь отождествляет “восток” и “восход”, т.е. говорит о свете дня, противопоставляя ему, как и Низами, “сумрак” заката, ночи.
3. Раздвоение единого и единство контрастного. Тема эта с наибольшей остротой воплощает сердцевину философской концепции обоих поэтов — при всем их различии. Именно здесь они стремятся передать через мир двоих свое понимание мира вообще:
| Низами | Хлебников |
| Две свечи горели в одной подставке (305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Меч с двумя лезвиями лежит в одних ножнах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Они были дверозы с одной ветки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пусть две капли растворятся в одной чаше (309). | О, если расставаться нужно Двоим нам в свете этом, Так разреши, господь, чтоб дружно Гореть могли мы звездным светом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лучами прекрасную бледность Раздвояют небеса (НП, 211–212). |
Эти сопоставления убеждают, что Хлебников, во многом используя “числовой код” важных мотивов поэмы Низами, двоичную художественную систему, заложенную в самом сюжете и характерологии «Лейли и Меджнуна», структуру частных и общих бинарных оппозиций, углубляющих общечеловеческий смысл проблематики (удвоение как знак разлуки, страдания, гибели — и как символ любви, общности, единства); углубляясь по “вертикали” в наидревнейшие пласты человеческой мифологии, ощутимой и в некоторых образных рядах поэмы Низами, максимально расширяет рамки “предложенной” ему предшественником темы. На ее основе он создает свой антропогонически-астральный “миф” о людях и звездах, о земле и небе, превращая его с помощью прозрачных ассоциаций в современный и художественно воссозданный мир, где “печальная повесть”, трагедия влюбленных оборачивается предупреждением о всечеловеческой трагедии непонимания Запада и Востока, о гибели, грозящей людям Земли из-за вечной вражды племен и народов.
Конечно, и “звездная” тема у Хлебникова могла восходить к поэме Низами; Е.Э. Бертельс отмечал, что „астрономическая и астрологическая тематика вообще занимает у Низами очень значительное место”20![]()
| Низами | Хлебников |
| Две живые полукруглые черты, [Слившись], создали полный круг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расстояние между двумя полюсами исчезло, Зерцало двух утр осветилось одним светом (305). | Небосклон Двух сияющих сторон ‹...› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Там, звездою мчась вдоль круга, Над местами, где любили, Пусть Медлум узнает друга В ярком вечера светиле (НП, 212). |
Философский образ “круга” символизирует тот онтологически-духовный парадокс, который лежит в основе всей западно-восточной концепции Хлебникова — концепции бессмысленности противостояния людей и утопической веры в любовь и разум как силу, которая способна спасти человечество от гибели. Вспомним, что Лейли и Медлум у Хлебникова ведут себя и “по Низами”, и “по Шекспиру”: они не соединяются на земле, подчинившись судьбе и родителям; но в то же время они сознательно “вызывают” небытие, делают свой выбор, обращаясь к богу с просьбой “соединить” их после смерти. И “deus ex machina”, и автор — на стороне влюбленных; то и другое, пусть в фантасмагорически-условной форме астрального мифа, выражает философский парадокс Хлебникова достаточно четко: его герои, как звезды, одновременно неподвижны по отношению друг к другу (один всегда на Востоке, другая на Западе — символ скорее их постоянства, чем пассивности), но они всегда и в движении по замкнутому кругу небосклона — и это символ их активности.
Философия “раздвоенного единства” мира у Хлебникова, мы видим, очень близка к системе представлений Низами в «Лейли и Меджнуне». Но она не слепо, механически заимствована, а творчески воспроизведена с целью воплощения собственной идеи — идеи хлебниковского “Востокозапада” как диалектической художественной модели единого, хоть и раздвоенного мира. Этот мир у Хлебникова — цельная в своих контрастных проявлениях система сосуществования разнонациональных граней человечества, вечно движущегося по “предначертанному” объективными законами бытия “кругу”. “Божественный”, “небесный”, “господний” закон и воля — это лишь дань древнему источнику; подлинный источник хлебниковской диалектики в «Медлуме и Лейли» — история человечества и высокий гуманизм художника.
Завершая разговор о генезисе поэмы в связи с ее концепцией, надо отметить следующее. У исследователя не может не сложиться впечатление, что поэт, создавая свое произведение на мифологически-литературной основе, тем не менее постоянно и как бы намеренно “путает карты” любому, кто попытался бы свести поэму к какой-либо строго выверенной “версии” к конкретно-национальному духовно-художественному источнику. На вопрос об источниках «Медлума и Лейли» так же трудно ответить, как и на другие вопросы, заданные нам поэмой, и в этом — частъ ее замысла, ибо автор раскрывает величайшую сложность мира человеческого. Поэтому он и идет от древней истории не одного, а многих народов, желая вывести “вектор” движения мира, его перспективу из многочисленных “составляющих” и доказывая, что это, несмотря на разнородность и даже контраст этих “составляющих”, не только возможно, но и жизненно необходимо.
Дав своим героям восточные имена (заимствованное у Низами ‘Лейли’ и по-своему транскрибированное Медлум); переместив действие на Восток (но вовсе не туда, где разворачивается сюжет поэмы Низами, а в Курдистан); используя общий духовный смысл и образное выражение темы любви у азербайджанского классика, двоичный ряд его сопоставительно-контрастной художественной системы (тоже по-своему воплощенный); выражая во многом древневосточный космогонический взгляд на мир в целом и человека в этом мире, — словом, перенеся нас на Восток, поэт тут же, в рамках общего сюжета, повторяя миф о Вознесении и фабульные коллизии Шекспира, перебрасывает нас на Запад. И это не плод спонтанной игры воображения, а намеренное пересечение двух национальньных социально-исторических пластов, лежащих в основании всей поэмы Хлебникова, — пересечение уже в их “эмбриональной”, генетической, корневой части, восходящей только еще к разнонациональной “предыстории” «Медлума и Лейли».
Как Шекспир, не ведая того, в чем-то “повторял”, “развивал”, “продолжал” Низами, так Запад и Восток, развиваясь по спирали, “по кругу”, как вечные звезды Медлума и Лейли, — противостоя, но и светя друг другу, — создают эту извечную космогоническую систему бытия и человека — вот мысль, которую выразил Хлебников пересечением характеров и сюжетных линий своих западно-восточных “источников”; возьмем это слово в кавычки, ибо перед нами — оригинальное поэтическое произведение, где источники прежде всего играют роль художественных символов, включенных в систему образов поэмы.
Наблюдения над сложными проблемами жанра, композиции, сюжета, ритмической организации стиха поэмы, так же как и ее генезис, подтверждают и выражают единство замысла и философско-художественной концепции Хлебникова в «Медлуме и Лейли».
В публикациях и исследованиях произведение Хлебникова обычно именуется “поэмой”. Думается, применительно к «Медлуму и Лейли» определение “поэма” должно считаться весьма условным. Конечно, в самой “предыстории” своей, восходящей к многочисленным вариациям эпического сюжета, т.е. в корневых пластах, оставшихся “за рамками” собственного творения Хлебникова, оно, как их “продолжение”, получает известные типологические основания для того, чтобы по традиции быть причисленным к общему ряду поэм о Лейли и Меджнуне.
Однако непосредственно в «Медлуме и Лейли» мало признаков чисто эпического рода: на первый план выдвинут не объективный рассказ о событиях прошлого, а лирический субъект произведения. Отсутствует масштабность сложных повествовательных структур, разветвленность сюжета, раскрытие человеческих характеров, конкретной среды: Хлебникову нужна не характерология, а символика, не живые фигуры влюбленных, а их имена, фактически — традиционные образы, символы определенной идеи, получающей в «Медлуме и Лейли» новое, более глубокое символико-философское наполнение.
Вопреки заголовку, в сложной лироэпической конструкции, созданной поэтом, в качестве главного героя выступает сам автор или представляющая его концепцию “высшая сила”; в любой ипостаси этот герой комментирует и изменяет традиционный сюжет, перебивает его мощной лирической струей, в которой известная философская дидактика проповеди сочетается с романтической высокостью исповеди и эпическим размахом повествования: ведь речь идет не только о судьбах влюбленных, но и о судьбе мира.
Подобное переплетение жанровых признаков — то, что исследователь очень точно и тонко характеризует, как “общую эстетическую установку” поэта “на мифологический синкретизм”, ведущую к “относительности категории жанра” у Хлебникова,21![]()
![]()
Поэтика произведения как бы намеренно уводит нас от реалий бытия, среды, от человеческой конкретики — к символике творимого мифа, в котором есть лишь условные и художественно адекватные замыслу эмблемы определенных “представлений” и “верований” о мире и человечестве вообще. В чем их суть?
«Медлум и Лейли» — творимый миф Хлебникова — есть символ его веры в то, что человечество, образующее, как и вся сфера движения земли и неба — планет, звезд, солнца — некий замкнутый круг и разделенное лишь в силу самой структуры вселенной на полусферы “восхода” и “заката”, т.е. на Восток и Запад, — человечество есть некая общность, по сути своей неразделимая и вечная, как сама вселенная. Разорвать это единство противоположностей, разомкнуть круг не может даже взаимная вражда и ненависть, детерминаты которых не интересуют Хлебникова, ибо он воплощает максимально общие представления о мире, модель которого строит в «Медлуме и Лейли». Уходя от социально-исторических объяснений противостояния Запада и Востока, поэт ищет лишь тот высший символ, в котором сосредоточен, по его мнению, смысл бытия в бесконечном круговороте жизни, смерти, возрождения и бессмертия. Этот символ — наиболее вечное и чистое из духовных проявлений человеческого — любовь. Вся система отношений Запада и Востока лишь тогда обретет гармонию, когда их взаимотяготение, подобное высокому чувству Медлума и Лейли, определит “вознесение” человечества на вершины духа и обретет силу законов, равных законам вечного движения вселенной.23![]()
Уже композиционно-сюжетная структура поэмы, где идет постоянная перебивка одного мотива другим, где невозможно провести непрерывную фабульную линию Медлума и Лейли, где смена “источников” определяет хаотическое строение “здания”, внезапное появление параллельных мотивов, аналогий, отступлений и где в то же время все сцементировано общей идеей, — уже эта сложная структура позволяет судить о том, что Хлебников выходит далеко за рамки “любовного” повествования о Лейли и Медлуме.
Если продолжить традиционное сравнение поэмы с выстроенным зданием, то приведенные выше наблюдения над генетикой произведения показывают, что причудливые сдвиги и переплетения архитектоники и фабулы предусмотрены еще в подземных лабиринтах “нулевого цикла”. Напомним о некоторых наиболее значительных. Масштабный зачин «Медлума и Лейли» вызывает в памяти эпическую стихию былины или сказанья: тема кровной вражды родов восходит к Шекспиру или Джами; образ чистой любви, романтически возвышенного чувства, тема Медлума-поэта, мотив обращения к грозному, но справедливому аллаху — все это имеет основанием поэму Низами или одну из восточных ее версий; тема Вознесения извлечена из «Деяния святых апостолов» или преданий на основе библейского сюжета о Христе; наконец, мотив “трех желаний” и единственного выбора судьбы восходит к волшебной сказке разных народов мира.
Вся поэтика произведения соотнесена со сложным переплетением генетических, тематических и сюжетно-композиционных линии “нулевого цикла”; “здание” есть продолжение “фундамента”.
Трагический мотив противостояния сотрясает поэму Хлебникова, в которой все зыбко, непрочно, пересечено, сдвинуто, непрерывно изменяется и колеблется. Это подчеркнуто и перманентной сменой ритма и поэтических размеров; на условной диаграмме они образовали бы уродливо-ломаную линию с максимально вытянутыми вверх “пиками” и внезапными “провалами”.
Читая поэму, ощущаешь, как неожиданно ломается и перестраивается вся стиховая система при переходе от одной строфы к другой. Вот вторая и третья строфы «Медлума и Лейли»:
Ясная силлабо-тоника второй строфы, с ее, правда, “сбивающимся” в третьем и четвертом стихе, но все же четко ощутимым хореем, сменяется резкой тонической структурой третьей строфы, с почти не улавливаемыми “классическими” размерами, но с ритмически выделенными словами-фонемами; эту строфу можно записать “лесенкой”.
Ритмико-метрический “хаос” в поэме Хлебникова носит не только межстрофический, но и внутристрофический характер. Приведем в качестве образца строфу IV — своеобразное лирическое отступление от повествовательного сюжета, состоящее из восьми строк:
Двустопный дактиль первого и второго стихов сменяется анапестом третьего; четвертый стих — снова двустопный дактиль с усеченной клаузулой, образующей подобие ямбического слога; пятый — двустопный хорей (тоже с усеченной клаузулой); шестой — двустопный анапест; седьмой и восьмой — четырехстопный хорей, причем в последнем стихе достаточно было заменить ‘и’ мягким знаком (‘лобзанье’), чтобы сохранить плавное хореическое течение ритма; однако поэт оставляет это ‘и’, определяя еще один резкий ритмический сдвиг и разрушая “классическую”, спокойную форму чередования слогов.
Связь содержания и поэтики здесь, как всегда у Хлебникова, неслучайна, осознанна и безупречна. Непрерывная смена ритмических и метрических структур обусловлена прежде всего сменой семантических пластов и сама детерминирует внезапность их “переключений”, так же как и переход то к одному, то к другому мифологическому или литературному источнику.
Весь этот “хаос”, на наш взгляд, имеет в основании тщательно продуманную организацию. Создавая свое “преданье”, Хлебников словно держит в памяти всю историю мира, непрерывно потрясаемого бессмысленным противоборством родов, племен, народов, разрушающим то высшее проявление человеческого, которое символизировано в отношениях главных героев, но выражает идеал отношений людей вообще. История многоплеменного мира с древнейших времен, по Хлебникову, — это человеческая трагедия, подобная давнему мифу о Вавилонской башне и феномене непонимания, лежащем в основании ее гибели. По этой модели художник строит и свою поэтическую Вавилонскую башню, в основание которой не случайно закладывает мифологические и литературные “блоки” исторической памяти разных народов, а “стены” которой возводит из перепутанного, разнородного, нестыкующегося “материала”. Отсюда и сложная ритмико-метрическая, строфическая, композиционная, сюжетная конструкция поэмы, как и вся определяющая ее и определяемая ею семантическая структура «Медлума и Лейли».
Даже само название произведения Хлебникова дает пищу для размышлений в этом направлении. Ведь и оно построено на принципе смены привычного, на идее смешения, потрясения “основ”. Не говоря уже об измененном имени героя, у Хлебникова, назвавшего своего влюбленного Медлумом (имя, сохранившее восточный корневой оттенок, но обретшее и некий новый, невосточный колорит), “перевернута” система заголовка: вначале стоит имя героя, затем — героини. Вспомним, что в известных версиях последовательность обратная: «Лейли и Меджнун». Почему?
Здесь возможно несколько гипотез, хотя поэт вряд ли сознательно стремился к тому, чтобы эти сменяющие друг друга гипотезы, на которые можно дать несколько ответов, возникали.
Гипотеза первая. Хлебников знал единственный из вариантов классического сюжета о Лейли и Меджнуне — поэму Амира Хосрова Дехлеви «Меджнун и Лейли», где, как видим, изменена последовательность имен героя и героини в заголовке.24![]()
Гипотеза вторая. Хлебников исходил из традиционного представления о восточной иерархии (мужчина — впереди женщины), опирающейся более на коранический, чем на ориентально-поэтический стереотип.
Гипотеза третья. Хлебников шел от западной эпической и литературной традиции, согласно которой имена главных действующих лиц в поэмах о любви чаще всего ставились именно в такой последовательности, как в «Медлуме и Лейли»: «Тристан и Изольда»; «Ромео и Джульетта» и «Антоний и Клеопатра» Шекспира; «Алексис и Дора», «Герман и Доротея», «Бог и Баядера» Гете; «Эдвин и Эмма» Д. Маллета; «Руслан и Людмила» Пушкина; «Юрий и Ксения» Кюхельбекера; «Орфей и Эвридика» Брюсова и др. В русской ориентальной поэзии эта традиция была особенно прочной: помимо пушкинской поэмы, здесь могут быть упомянуты «Родамист и Зенобия» Грибоедова (развивавшая сюжеты Кребильона-старшего и Аламдарена), «Наль и Дамаянти» Жуковского (развитие сюжета Фирдоуси, но с произвольным заголовком), «Орсан и Лейла» Ободовского, «Див и Пери» Подолинского, «Магомет и Сафия» Бунина и др.
Любая из этих гипотез могла бы быть принята — или опровергнута как домысел.
Так, поэма Дехлеви вряд ли могла стать достоянием Хлебникова: нет свидетельства ее перевода на русский язык; однако уже в 1810 г. ее английский перевод был опубликован и, возможно, где-нибудь пересказан по-русски, хотя в книгах и периодике хлебниковской поры таких изложений обнаружить не удалось; не упоминают о них и востоковеды.25![]()
Что касается второго предположения, то в самой восточной поэзии в различных сюжетах наблюдались оба варианта расположения имен: у того же Дехлеви — «Хосров и Ширин», у Джами — «Юсуф и Зулейха», у Алишера Навои — «Фархад и Ширин» и т.п.; в то же время более пятидесяти версий «Лейли и Меджнуна» красноречиво говорят о том, что “кораническая” иерархия восточными классиками не соблюдалась; но она могла быть соблюдена Хлебниковым.
Третья гипотеза может быть оспорена примерами контрастного ряда; например, сюжет, аналогичный хлебниковскому и напоминающий «Ромео и Джульетту», именуется у Шиллера «Геро и Леандр» — имя героини предваряет имя героя, так же как и в «Алине и Альсиме» и «Эльвине и Эдвине» Жуковского.
Все эти гипотезы возникают не на пустом месте: они как бы “спровоцированы” всем философско-эстетическим строем и смыслом поэмы. Может быть, название дано было Хлебниковым произвольно (хотя в его поэзии почти нет неосмысленных явлений);26![]()
Думается, меньше всего Хлебников заботился о том, чтобы путем изменения всего, что возможно, в традиционных сюжетах, названиях, характерах уйти от “традиционного” и создать “новаторское”. Его новаторство не в этом, а в способности ввести духовный потенциал многочисленных традиций непосредственно в структуру своего философско-художественного сознания и творчески перевоссоздать их, с тем чтобы максимально произведенные им изменения сами сделались органической частью замысла и его поэтического исполнения. Как мы могли убедиться, этот замысел полностью удался. Гипотезы же — это лишь попытка ответить на вопросы, заданные нам поэтом и его произведением; и если наши ответы неоднозначны и противоречивы — значит, таков мир, в котором жил Мастер, стремившийся к гармонии, к любви и трагически ощущавший ту трещину, которая — повторим слова Гейне — не может не пройти через сердце художника, если мир раскололся...
Что же такое, в конечном итоге, поэма Хлебникова? «Медлум и Лейли» — это воплощенная в сложной поэтической структуре, “зашифрованная” в системе традиционных западно-восточных образов, мотивов и мифологизированных символов философская формула закономерности связи свободы и необходимости.
Свобода выражена в утверждаемом Хлебниковым принципе выбора судьбы (отсюда о6ращение к числу 3 и сказочный мотив трех желаний): Только выскажи лучшие желания, // Три, чтобы выбор у господа был; Только пусть воля будет трояка, // Чтобы божьей свободе был выбор. Правда, это свобода божьего выбора, но ясно, что идея бога (аллаха) в поэме — лишь эмблема высшей закономерности бытия, персонифицированная в соответствии с мироощущением героев в привычном для них образе. Мысль о свободе, помимо того, засвидетельствована у Хлебникова самим мотивом перманентного движения Медлума и Лейли — звезд Запада и Востока.
Вместе с тем вращение их по замкнутому кругу небосклона, не случайно названного в одном из поздних творений Хлебникова синими оковами (А эти синие оковы // Грозили карою тому, // Кто не прочтет их звездных рун; 1, 299), утверждает парадоксальную идею “несвободной свободы”, т.е. константного сцепления воли личности, народа, человечества с “волей” внеличной, объективно сущей и философски закономерной необходимости.
Все поэтические символы, фабульные коллизии, металогия, образность, мифологические и традиционно-классические “заимствования” Хлебникова полностью подчинены воплощению этой глубокой социально-философской концепции. Отсюда — и кажущиеся нелогичными смещения, пересечения мотивов, ломка ритмико-интонационного строя, противоречия семантизированных количественных рядов, связанных с числами 1, 2 и 3 (когда число 1 вмещает в себя число 2 или число 3 предполагает единственную, т.е. одну альтернативу и т.п.). Отсюда же — контраст и “бессмыслица” металогических парадоксов, когда, например, понятие выбора, ассоциирующееся в нашем сознании с идеей свободы, без всякой иронии употреблено Хлебниковым в сопровождении эпитета ‘покорный’, символизирующего явление противоположного ряда:
Художественные парадоксы Хлебникова здесь, мы видим, — не дань “экстравагантности” мыслевыражения, а попытка постигнуть и воплотить закономерности сложных философских связей мира и личности, национального и общечеловеческого.
Во всех поэмах о Лейли и Меджнуне любовь героев — в основном замкнутая сфера личных взаимоотношений, в которые лишь “втянуты” сюжетными конструкциями некоторые другие герои (родители, друзья, встречные и т.п.).
У Хлебникова, превратившись по собственной воле и выбору в звезды, герои не только остаются самими собой, продолжая гореть “звездным светом” любви друг к другу (Пусть Медлум узнает друга // В ярком вечера светиле), но и размыкают узкий круг своих переживаний, осуществляя духовную связь с человечеством:
Во всех поэмах о Лейли и Меджнуне (так же, как и в их западных аналогах) сюжет завершается гибелью героев.
У Хлебникова этот мотив, по сути, выпадает из сюжета и может только предполагаться: Медлум и Лейли трансформируются в звезды, минуя стадию физического исчезновения, смерти, на которую лишь слабо намекается (прекрасную бледность раздвояют небеса); этим снижается и мотив Воскресения. Из трех известных библейских стадий, ведущих к “вечной жизни”, остается одна — Вознесение. Почему? Потому что Хлебникову необходимо утвердить прежде всего идею бессмертия. Но бессмертия не просто любви, а более общих философских категорий; не случайно в поэме бессмертны не двое влюбленных, а их космические астральные ипостаси — звезды Запада и Востока, символизирующие все живое и сущее во вселенной, разделенное, но в то же время единое в своей духовной мощи.
С этой точки зрения бессмертие, т.е. спасение от гибели и вечное продолжение духовного бытия, может быть гарантировано лишь осознанием исторической необходимости единственного свободного выбора Запада и Востока — их сосуществования в естественном философском “круге” беспредельного и неумирающего бытия. В этом смысл поэмы Хлебникова «Медлум и Лейли», утверждаемый сложнейшей системой ее источников и всей художественной структурой произведения.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 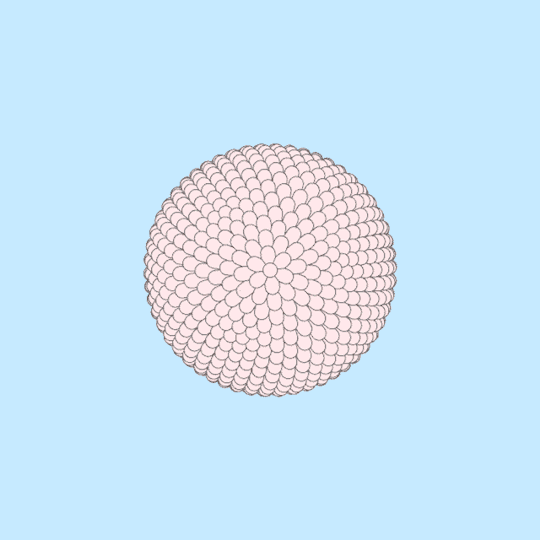 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||