





С Октябрьской революции открывается новый этап творчества, основной по своему значению. Однако именно послеоктябрьские произведения Хлебникова меньше всего изучены. Было бы ошибкой недооценивать воздействие Октября на Хлебникова, как и на многих деятелей дореволюционного левого искусства (Маяковского, Мейерхольда, Вахтангова, Петрова-Водкина и мн.др.). Как отмечает В. Щербина,
В Октябрьской революции Хлебников увидел, прежде всего, перестройку всего мирового порядка, торжество народных чаяний, возмездие старому миру и открывающиеся безбрежные возможности для будущего человечества, для осуществления нового справедливого и гармонического строя. Он не испугался ни беспощадности самой борьбы, ни выстраданных суровых будней революции, разрухи, голода, кровавых событий гражданской войны. Хлебников, вслед за Маяковским, стал поэтом и летописцем этих героических лет и дел революции.
Произведения, созданные Хлебниковым в первые годы Октября, проникнуты высоким героическим пафосом. В эти годы он скитался по дорогам страны, появляясь то в Петербурге, то в дни Октябрьских боёв в Москве, то в Харькове, переходившем из рук красных к белым, то в Ростове, то в Баку, то с Красной Армией в Персии, то в Пятигорске...
Раздетый и разутый, больной и голодный, он сочинял стихи, таская с собой старый мешок, набитый рукописями. В сущности, быта не было. И он, человек вне быта, оказался подстать времени. Он голодал, ездил в вагонах с сыпнотифозными, бродил по персидскому берегу Каспийского моря, служил сторожем в ТерРОСТА, дружил с матросами и красноармейцами.
Для Хлебникова, как и для Маяковского, Каменского, Асеева, даже не возникал вопрос о том, “принимать” или “не принимать” революцию. Уже самое отрицание господствующего общества, его культуры и искусства определило их позицию на стороне Октябрьской революции. Однако если Маяковский мог с полным правом сказать „моя революция”, солидаризируясь с её политическими лозунгами, то для большинства футуристов революция представлялась, прежде всего, возможностью для осуществления тех смутных и противоречивых бунтарских призывов, с которыми они выступали в предреволюционные годы.
Февральская революция не удовлетворила Хлебникова, мечтавшего о радикальных переменах, и, прежде всего, о достижении мира. С самого начала Февральской революции Хлебников отрицательно относился к Временному правительству и Керенскому, обвиняя их в продолжении мировой бойни. Однако его “оппозиция” мало общего имела с революционной деятельностью, превращаясь в своего рода наивную детскую игру. Хлебников вместе с Дм. Петровским звонил от имени Председателей Земного Шара по телефону в Зимний дворец и поносил Керенского, как он сам рассказал об этом в очерке «Октябрь на Неве», или посылал туда письма вроде следующего:
Первые дни Октябрьской революции застали Хлебникова в Москве, куда он приехал из Петербурга. В очерке «Октябрь на Неве» Хлебников вспоминал об этом времени:
Хлебников заключал свой очерк описанием покойницкой, в которую свозили погибших в боях за Москву. Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти, — с горечью замечает он (4, 113).
В Петербурге и в Москве Хлебников был в самой гуще событий, жадно вбирая впечатления первых дней и первых громов Великой Октябрьской революции. Он не только не сторонился событий, но, наоборот, шёл им навстречу. В преддверии решающих перемен он разъезжал по всей России:
Рассказывая о своей встрече с ним в Москве в апреле 1918 года, Д. Петровский сообщает:
В стихотворении «Воля всем» (1918) содержится столь же фантастический всеобъемлющий, вселенский призыв к свободе:
Революция для Хлебникова — это ослепительное царство свободы, свободы от царизма, от буржуазной государственности, от национального и религиозного угнетения, от порабощения личности. Именно отсюда и возникает призыв дать волю богам.
Весной 1918 года Хлебников направляется из Москвы в Нижний Новгород, где к этому времени собралась группа литераторов (Ф. Богородский и др.), издавшая в 1918 году сборник «Без муз» (вышедший в конце этого же года), в котором были напечатаны и стихи Хлебникова. Напечатал он также стихотворение «Нижний» в «Рабоче-крестьянском Нижегородском листке» от 4 августа 1918 года. С. Спасский вспоминает о пребывании Хлебникова в Нижнем:
Из Нижнего Хлебников приехал в августе 1918 года в Астрахань к родителям и пробыл там до весны 1919 года. За это время он сотрудничал в газете «Красный воин», поместив в ней, помимо нескольких стихотворений, очерк «Октябрь на Неве» и ряд статей.4![]()
Из Астрахани Хлебников снова приезжает в марте 1919 года в Москву. За недолгий период пребывания в Москве он встречается здесь с Маяковским, Пастернаком, О.М. и Л.Ю. Бриками, Р. Якобсоном. В это пребывание в Москве Хлебников хлопочет об издании книги своих произведений в связи с организацией «ИМО» («Издательство молодых»). 10 февраля Маяковский представил наркому просвещения Луначарскому список книг, предлагаемых к выпуску под маркой «ИМО», среди которых значилась книга поэм Хлебникова.5![]()
В подготовке этого сборника принял участие Р. Якобсон, составив вместе с Хлебниковым план предполагаемого издания, а Хлебников написал для него предисловие — «Свояси». 30 мая (уже в отсутствие Хлебникова) был подписан договор с Центропечатью на книгу поэм (так и не вышедшую). К этому же времени, к середине апреля, относится и отъезд Хлебникова из Москвы на юг, в Харьков, о котором рассказывает Маяковский. „Года три назад, — вспоминал Маяковский в 1922 году, — мне удалось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописей ‹...› Накануне сообщённого ему дня получения разрешения и денег, я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком. „Куда вы?” — „На юг, весна!..” — и уехал. Уехал на крыше вагона ‹...›” (XII, 27).
В Харьков Хлебников отправился в надежде на более приемлемые условия жизни, чем в голодной Москве 1919 года. Там находились близкие ему люди — семейство Синяковых, Г.Н. Петников. Весну Хлебников проводит в Харькове, а после захвата его белыми уезжает на дачу Синяковых (Красная Поляна, под Харьковом).
Хлебникову угрожал призыв в армию, и врачи направили его в психиатрическую больницу («Сабурову дачу»). Так, в октябре 1919 года Хлебников писал из больницы Г.Н. Петникову:
За это время Хлебников дважды болел тифом. Как он сообщал в письме к О.М. Брику (от 23 февраля 1920 года):
В поэме «Гаршин» («Полужелезная изба»), написанной осенью 1919 года на «Сабуровой даче», показан калейдоскоп событий гражданской войны.
Эта лихорадочность “безумной” смены событий и в то же время их бытовое, хроникальное изображение — передают напряжённую, трагическую обстановку гражданской войны. Через всю поэму проходят упоминания и образы, которые выражают непоколебимую веру Хлебникова в правоту революции:
В метельных вихрях гражданской войны, в трагической смене различных властей — большевиков, петлюровцев, махновцев, — которая происходила в это время на Украине, Хлебников с неизменным сочувствием приветствует победу нового мира:
О пребывании Хлебникова в Харькове в 1919–1920 году сохранился ряд свидетельств.
Р. Райт:
А. Гатов:
А. Гатов повествует дальше о печальном конце лекторской карьеры Хлебникова, вскоре уволенного начполитпросветом.
В апреле 1920 года в Харькове произошла встреча Хлебникова с имажинистами — С. Есениным и А. Мариенгофом, приехавшими в Харьков на гастроли. Следом этой встречи является стихотворение: «Москвы колымага, // В ней два имаго» (НХ, 174). 19 апреля имажинисты устроили в Городском театре вечер, на котором при торжественно-шутовском церемониале Хлебников был посвящён в Председатели Земного Шара. Один из организаторов этого “избрания”, воспринятого Хлебниковым всерьёз, А. Мариенгоф, следующим образом передаёт этот эпизод:
Харьковский период, несмотря на тяжелые условия жизни поэта, был особенно продуктивен. В 1919–1920 годах были написаны такие произведения, как «Ночь в окопе», «Ладомир», «Три сестры», «Лесная тоска», «Поэт» («Карнавал»), «Царапина по небу», «Азы из узы». «Ладомир» вышел летом 1920 года в литографированном издании художника В.Д. Ермилова тиражом в 50 экземпляров.
Наряду с произведениями, посвящёнными событиям революции, Хлебников создаёт в эти годы пантеистические идиллии «Три сестры», «Лесная тоска», «Поэт» («Карнавал»), проникнутые приятием мира, радостным чувством природы.
Из Харькова Хлебников в феврале и апреле 1920 года запрашивает О.М. Брика о положении с изданием своих произведений в ИМО: И вдруг вы пришлёте мне толстый пушкинский том? — писал он. — С опечатками, сырой печатью? Правда, хорошо было бы? (НХ, 384). В следующем письме, видимо получив из Москвы информацию, он сообщал: Я с грустью примирился с тем, что собрание сочинений не вышло (НХ, 384). Теперь он возлагает надежды на Есенина, сделавшего ему предложение об издании его произведений.11![]()
Годы, проведённые в Харькове, — время, исключительно важное для идейного формирования поэта. Он всем существом своим слушает “музыку революции”. Освобождение человека от оков старого мира для него не ограничивается лишь социальными изменениями. Революция — часть космических перемен, начало нового исторического этапа. В стихотворении «Моряк и поец» он обращается с вопросом:
В «Ночи в окопе» Хлебников размышляет над современностью, над судьбами страны, над той правдой революции, которая была провозглашена Лениным.
Мир расколот на две стороны: защитников старого, рабов царей, обречённого мира угнетения — и борцов за новый, справедливый порядок, за торжество людей труда, на стороне которых сам поэт.
Поэма бессюжетна; это размышления автора и возникающие вперемежку с ними картины: ночь перед боем, безмерная степь, семейство каменных пустынниц, голоса солдат в окопе — всё это сливается в одном сложном единстве. События современности выступают на фоне истории, всплывающих в памяти воспоминаний о многострадальном прошлом русской земли, о временах «Слова о полку Игореве». Глубоко проникая в события современности, Хлебников рассматривает их как звено в общем развитии человечества:
Хлебников не смягчает красок: гражданская война показана им во всей своей жестокой и беспощадной сущности. Старому миру, с его варварской жестокостью, противостоит Москва революции, Москва Ленина. Понимая значение революции для будущего всего человечества, Хлебников в то же время считает её лишь этапом того космического переустройства, подготовкой „лада мира”, который основан на познании законов времени. Но он не противопоставляет свои утопические чаяния путям революции. Война за победу революции справедлива, и поэт полностью на стороне “красных”. В Москве — красной столице, в революционном народе он видит правду мира, светоч новой эпохи:
Раздумья автора над судьбами страны прерываются голосами людей, на которых упала тяжесть гражданской войны. Это придаёт поэме народное звучание. Разрушительной силе войны противостоит народная тяга к труду, к мирной жизни:
Ведь вслед за войной идут её спутники — голод, разруха, сыпняк. Они предстают в поэме как суровая, неумолимая действительность. В финале возникает образ каменной бабы, стоящей среди степей, как предвестие новых, ещё предстоящих испытаний:
Поэма Хлебникова полифонична. В авторскую монологическую речь врываются разговоры и обрывки песен солдат, резко контрастирующие с торжественно-эпическим стилем повествования:
Этот контраст торжественно-эпического повествования “сказителя” и бытовой разговорной интонации солдата усиливает ощущение распада связи времен, трагического и обыденного, реальности происходящего.
«Ночь в окопе» — одна из первых попыток осмыслить события гражданской войны, утвердить правоту борьбы за новый, свободный мир, которая сделана была Хлебниковым в самое напряжённое и трудное время решающих боёв за революцию. Голос современника, непосредственного свидетеля событий, в этой поэме сливается с голосом автора — историка и мыслителя, воспринимающего эти события в их всемирно-историческом значении. В «Ночи в окопе» реальная, взволнованно-патетическая картина событий, она заражает своей непосредственной соотнесённостью с жизнью и в то же время глубиной обобщающего замысла, сохраняя значение свидетельства современника событий.
Вершиной творчества Хлебникова этих лет является поэма «Ладомир», датированная им 22 мая 1920 года. В. Маяковский напечатал её в сокращённой редакции впоследствии в «Лефе» (в 1923 году) и назвал «Ладомир» „изумительной книгой”. Она звучит как величественная ода революции.
В поэме с особой силой чувствуется героический пафос первых лет Октября. Это поэма о путях человечества, о преобразовании свободным человеком не только социального строя, но и самой природы. Хлебников обращается к историческим источникам революции. В начале поэмы рисуется картина царской России, с её нищенской нуждой масс и роскошной жизнью богачей, с её вопиющим классовым неравенством.
Революция воспринимается Хлебниковым как стихия, как очистительная гроза, неизбежное историческое возмездие угнетателям. Это восприятие революции характерно и для «Двенадцати» Блока, и для «России, кровью умытой» Артёма Весёлого, особенно высоко ценившего Хлебникова, для ранних произведений Вс. Иванова. Характерны и названия многих произведений начала 20-х годов — «Буря», «Шторм», «Ветер», поэтические символы революции — метели, вьюги, пожары. Образы зарева, грозы, пламени, пожара проходят через всю поэму Хлебникова:
Пафос поэмы в утверждении справедливости и разумности нового мира, пришедшего на смену старого мира угнетения и корысти, насилия и собственнической алчности, лицемерия и религиозного обмана:
При всём утопическом космизме своих мечтаний Хлебников славит реальную правду Октябрьской революции, приветствует союз рабочих и крестьян, благодаря которому смогла она осуществиться и победить:
В своей поэме Хлебников прославляет творян — людей нового, справедливого строя, людей творчества и труда:
Эта картина, подобная офортам Гойи, передаёт трагический ужас войны, сочетая точность реалистического изображения с острым гротеском и обобщающей символикой образа. Вот эта кровоточащая боль, глубоко пережитое ощущение современности и делает образы Хлебникова не эксцентрическим каталогом метафор, как это часто было у поэтов-имажинистов, и заставляет воспринимать каждый образ в его реальном значении.
Революция, по мнению Хлебникова, должна принести новый „лад” „миру” (отсюда и название поэмы «Ладомир»), по-новому организовать человечество на основе научных открытий и достижений. В этом сказался решительный отказ Хлебникова от позиции, занятой им в дореволюционное время, — осуждения техники и прогресса («Журавль»).
Поэма «Ладомир» бессюжетна и “безгеройна”. Её сюжет — революция, её герой — народ. Это, скорее всего, ода революции, её прославление и своеобразная утопическая интерпретация судеб освобождённого человечества, построившего своё будущее на основе науки, постижения математических законов мироздания:
Человек труда, освобождённый от эксплуатации и угнетения, овладевший научными знаниями, становится подлинным творцом истории, организатором и хозяином вселенной. Такова основная идея поэмы, её высокий пафос. Гиперболизм, масштабность, планетарность — принципы, характерные не только для Хлебникова, но и вообще для поэзии первых послеоктябрьских лет. Так, Маяковский в «Нашем марше» (1918) писал:
Космизм Хлебникова во многом перекликается с теми планетарными, абстрактными представлениями о революции, которые характеризовали и стихи многих поэтов Пролеткульта (Садофьева, Гастева и др.). Не случайно, что Хлебников написал сочувственную статью о Гастеве, о его книге «Поэзия рабочего удара» (1918). В эти же годы появляется даже особое поэтическое объединение “биокосмистов”, а космические мотивы становятся чрезвычайно распространёнными в стихах многих поэтов, в частности, в послереволюционных стихах В. Брюсова. Этот космический масштаб, выражение вселенского размаха революции был и у поэтов «Кузницы», в частности, такого своеобразного поэта её, как Иван Филипченко, писавшего:
«Ладомир», написанный в конце гражданской войны, обращён к будущему. В нём с особенной искренностью и поэтической силой сказалась вдохновенная мечта поэта о будущем человека, о бесклассовом обществе без порабощения человека человеком, о мире всеобщего равенства и свободы.
Будущее человечества Хлебников представляет, при всей утопичности своих взглядов, необычайно конкретно и подкупающе просто. Полная материальная обеспеченность будет достигнута развитием техники и науки. Хлебников в мечтах предвидит то ещё далёкое тогда время, когда самолёты будут служить для сева, дома станут строиться из отдельных стеклянных комнат-ячеек, уроки передаваться по радио. И это предвидение рождалось в годы разрухи, гражданской войны, разорения всей страны!
„Научно-построенное человечество” предстаёт у Хлебникова в образе мифологического Ладомира как осуществлённая утопия. Однако картины торжества научного знания, гармоничной жизни человечества, при всей их утопичности, проникнуты такой беспредельной верой в их реальную осуществимость, какая присуща мифологическому сознанию. Отсюда и самые поэтические образы основаны на своеобразной гиперболизации человеческих возможностей, силы разума, космического масштаба дерзаний человека.
Будущее рисовалось Хлебникову не только как свобода человека от эксплуатации, но и как слияние свободы и необходимости. В «Ладомире» Хлебников говорит о времени, когда между работами и ленью будут знаки уравненья:
Хлебников пытается заглянуть и в далекое будущее судеб земного шара. Его утопические прозрения, при всей своей фантастичности, основаны на данных науки, связаны с представлением о развитии разума в природе, о превращении животных в мыслящие существа, подобные человеку. Здесь вера в научный прогресс, в развитие и эволюцию мировой материи сочетается с древними легендами и учениями об одушевлённости природы:
Эта идея о разумном начале, развивающемся в животном и растительном мире, высказанная Хлебниковым, впоследствии была воспринята Н. Заболоцким. Человек, овладевший законами природы, завоюет вслед за землёй космические пространства — таков прогноз поэта, пророчески заглянувшего в будущее:
“Лад мира” не может быть, однако, достигнут путём ненависти и насилия. Для его достижения недостаточно знать математические законы времени — для этого нужна душевная сила. Призыв к гуманности, к любви во весь голос прозвучал в заключительных стихах поэмы:
Октябрьская революция неизмеримо расширила границы творчества Хлебникова, обогатила его новыми темами, раскрыла новые поэтические возможности. Но она не отменила многое из того, что привлекало его раньше. И, прежде всего, отношения человека и природы. В его произведениях этих лет часто звучит тема одиночества поэта перед лицом минувшего и будущего человечества, перед беспредельностью и неизменной загадочностью космоса:
Одним из лучших стихотворений той поры является «Саян» (1920). Это размышление о времени и природе, о прошлом человечества. К загадочным рунам, высеченным древним художником на вершине недоступных гор, приходит лось:
Но чаще в творчестве Хлебникова природа предстаёт не как загадочная и непознанная сила, а в своём светлом, животворном облике. В эти трудные и тревожные годы Хлебников создаёт такие жизнерадостные, солнечные произведения, как «Лесная тоска» и «Три сестры», перекликающиеся с его ранними идиллиями («Вила и леший»). Поэма «Лесная тоска» написана весной 1919 года. Здесь Хлебников вновь возвращается к языческой мифологии, создавая очаровывающую своей непосредственностью и проникновенностью идиллию.
В поэме слышатся полные лиризма, чарующие своей напевностью “голоса” Вилы, Ветра, Русалки. По-детски наивный, сказочный зачин — монолог Вилы, вызывающей обитателей леса на помощь:
Поэма «Три сестры» написана в Красной Поляне (дачная местность под Харьковом), где жили сёстры Синяковы — Мария, Вера и Надежда. Жизнь среди природы в обществе трёх сестер и вызвала появление этой небольшой поэмы, пронизанной солнечным светом и языческой любовью к природе.
Живые, земные героини превращаются у Хлебникова в лесных дриад, в чувственных языческих вил.
В творчестве Хлебникова этого периода важное место занимает поэма «Поэт» (в окончательной редакции озаглавлена «Карнавал», имеются и ещё варианты названия: «Весенние святки», «Русалка и поэт»). Поэма начинается с описания весеннего карнавала как утверждения неизменного возрождения жизни, её радостной, буйной плоти, торжества бессмертия рода человечества:
С буйным весельем пляшущей и поющей карнавальной толпы контрастирует печальная задумчивость богоматери. Поэма Хлебникова — это ещё одна попытка воссоздать давно ушедший языческий мир, с его стихийной радостью бытия, и одновременно прощание с жертвенностью христианства.
Поэма «Карнавал» — итог размышлений поэта над судьбами поэзии, над разными путями видения мира. В этих размышлениях и горечь от сознания утраты того поэтически-непосредственного восприятия, которое дано было как в первобытном мифологическом сознании, так и в религиозных видениях христианства. Романтика этих представлений теряла своё прежнее значение, чем и объясняется грустный, элегический тон поэмы. Поэт прощается в ней с прошлым, с романтическим восприятием мира, овеянного сказочным и поэтическим ореолом:
Победа трезвого рассудка знаменовала для Хлебникова болезненный разрыв с тем сказочным миром, с которым он издавна сроднился.
Хлебников пробыл в Харькове до конца августа 1920 года. Сохранились два удостоверения, выданные Харьковским Политпросветом: одно от 22 августа 1920 года о командировке его в Баку на службу и второе (того же числа) — о направлении в Астрахань. Видимо, он хотел пробраться к родным, передохнуть от тяжёлых условий жизни. По дороге он на несколько дней остановился в Ростове, где в связи с его приездом местной театральной мастерской была поставлена пьеса «Ошибка смерти». 25 сентября он был уже в Армавире в качестве делегата 1-й конференции Пролеткультов Кавказско-Донецких организаций, а оттуда с удостоверением сотрудника литературно-издательского отдела Оргбюро конференции (от 30 сентября 1920 года) уехал в Баку.
В октябре 1920 года Хлебников приезжает в Баку, где лишь в апреле была установлена советская власть. В Баку ко времени появления там Хлебникова собралась довольно многочисленная группа русских писателей. Там оказались С. Городецкий, Вяч. Иванов, А. Кручёных... При содействии С. Городецкого Хлебников устроился в КавРОСТА в качестве литературного сотрудника, на обязанности которого лежало писать сатирические стихи и подписи к плакатам. Вскоре он из КавРОСТА перешёл в политико-просветительный отдел Каспийского флота.
Жизнь в то время в Баку была трудная и голодная. Даже получая политпросветовский паёк, Хлебников не мог его использовать, так как готовить было негде, да он это и не умел. Один из мемуаристов рассказывает:
Работа Хлебникова в КавРОСТА, где он составлял подписи к плакатам, сказалась на его творчестве. Под влиянием окружающей его новой жизни Хлебников выходит за пределы своей искусственной словесной лаборатории. От сотрудничества в КавРОСТА сохранились такие стихи, как «От Каира до Калькутты», «От зари и до ночи». Хлебников обращался в этих стихотворениях, подобно Маяковскому, к фольклору, к частушке:
С приездом в Баку у Хлебникова оживился всегдашний интерес к Азии и её культуре, его давнишнее стремление попасть в Персию и Индию. Из Баку Хлебников в апреле 1921 года, вместе с частями Красной Армии, направленными на помощь иранским революционерам, поднявшим восстание в Гиляне, уезжает в Персию. Он сообщает 14 апреля сестре из Энзели:
Пребывание в Персии, при всех походных трудностях и скитаниях, было одним из наиболее ярких и счастливых моментов в жизни поэта. Недаром он писал сестре: Здесь очень хорошо, звал её приехать в Персию. Хлебников сотрудничал в армейской газете «Красный Иран». Там напечатано было несколько его стихотворений. Как рассказывает один из спутников его по иранскому походу, Р.П. Абих:
Из-за измены командующего иранскими революционными войсками, революционное движение было разгромлено. Части Красной Армии эвакуировались из Персии. Хлебников отстал от отряда и лишь через месяц присоединился к своей части и затем возвратился в конце июля в Баку.
Сознание мирового значения русской революции поддерживалось событиями на Западе и Востоке. Революция в Венгрии в 1919 году (Нам руку подали венгерцы, — в «Ладомире»), революционно-освободительное движение в Персии (в 1920–1921 годах), революционные события в Германии и Австрии (в 1918 году) — всё это способствовало уверенности в интернациональном значении Октябрьской революции и порождённой ею революционной ситуации в Европе и Азии. Этим объясняется и создание Хлебниковым в 1920 году поэмы «Азы из узы», в которой сказалось его обращение к проблемам Востока.
«Азы из узы» — поэма, смонтированная из отдельных стихотворений, объединённых темой положения народов Азии. Её заглавие, видимо, иносказательно означает первые проблески, первые буквы — “азы” свободы, вырывающиеся из уз оков, в которые заключены порабощённые и страдающие от многовековой тирании своих правителей народы Азии.16![]()
В этих стихах об Азии давняя идея Хлебникова о единстве человечества, об исторической общности различных культур и наций соединилась с идеей пробуждения революционного сознания у народов Азии. Её история представлялась ему особенно драматичной: это континент деспотических правлений, завоеваний и войн, жестокого порабощения народов. Хлебников говорит о трагическом прошлом Азии, о тех подспудных силах народных мятежей, которые накапливались столетиями кровавой истории её народов. Для него равны все национальности, все веры, все учения, поскольку они являются лишь отдельными страницами единой книги всего человечества. Из этого убеждения родился эпический образ Единой книги для всего мира, для всех наций, вер, народов, которые должны слиться в единое человечество:
Завершая свою поэму образом старьевщика времени, забирающего царей в поношенный мешок, Хлебников подводил итог прежней Азии деспотических владык, мечтая об Азии новой, пробуждённой Октябрьской революцией ещё в те первые послеоктябрьские годы, когда влияние русской революции только начинало сказываться на Востоке.
Поэма «Труба Гуль-муллы» написана осенью 1921 года под непосредственным впечатлением от пребывания в Персии. Это своего рода лирический путевой дневник, непосредственность и достоверность записей которого особенно подкупает. Поставленный лицом к лицу с природой, Хлебников обнаруживает такое естественное, цельное её восприятие, что заставляет вспомнить не столько Руссо или Уитмена, сколько простую мудрость народных повествований. Он говорит о стране,
В «Трубе Гуль-муллы» нет ни сложной мозаики ассоциаций, ни обычной для Хлебникова тяги к мифологизмам и символической обобщённости. Её внутренней, лирической основой является встреча человека с природой, удивление перед страной, в которой древняя культура сочетается с примитивным жизненным укладом.
«Гуль-мулла» — священник цветов, прозвище, данное Хлебникову в Иране. Да и сам он говорит о своём родстве с пророками Ирана:
Хлебников видит Персию такой, как она есть, и в то же время ищет и угадывает черты её древней культуры. Его интересует в этой стране природа, незнакомый пейзаж, народ и его повседневная жизнь. Он видит отсталость и горькую нищету тогдашней Персии, рабское положение женщины, обречённой на вечную темницу, закрытую паранджёй.
Поэма доносит и запах моря, и яркую синеву неба, и мощь леса, и величие гор. Но в центре остается сам поэт, сохранивший в трудных условиях войны свою человечность, своё мудрое восприятие жизни, готовность осознать себя частью природы:
Дело не в стоическом отказе от жизненных потребностей, как может показаться при поверхностном чтении этой поэмы. Вся она проникнута ощущением первозданности бытия, полноты и радости жизни, возникающих из чувства любви к человеку, восхищения красотой и богатством природы, её извечным покоем и миром, противостоящим суетным стремлениям людей.
С дневниковой точностью рассказывает Хлебников о своих блужданиях по Персии, радуясь простоте естественной жизни, которую вёл в этой неведомой стране:
В «Трубе Гуль-муллы» Хлебников не прибегает ни к какой поэтической позе. Это подлинный Хлебников, беспомощный и мудрый, который осуществил здесь на практике первобытный образ жизни среди девственной природы:
Эта скупая, точная хроника приобретает эпическое звучание; одна лишь метафора: скатерть широка песчаная — придаёт ширь, эпический простор всей картине.
Встреча с Персией не ограничилась этой поэмой. К ней примыкают и такие стихотворения, как «Навруз труда», «Дуб Персии», «Иранская песня», «Пасха в Энзели», «Курильщик ширы» и др.
В «Наврузе труда» вековой отсталости Востока поэт противопоставляет новую эру русской свободы, победу труда:
В Персии написано и одно из лучших лирических стихотворений Хлебникова — «Иранская песня». Начинается она как фольклорная солдатская песня:
Этот жизнерадостный мотив переходит в грустное раздумье о рождении нового, лучшего мира в будущем, дожить до которого самому поэту не придётся:
В конце июля Хлебников вместе с частями Красной Армии возвратился в Баку. На этот раз его пребывание там было недолгим. Следом его явилось помещение в Бакинском журнале «Искусство» (№ 2–3, октябрь 1921 года) двух стихотворений о Персии («Очана-мочана» и «Дуб Персии» — вариантные фрагменты из «Трубы Гуль-муллы»). Уже 6 октября 1921 года Хлебников появляется в Железноводске.
Жизнь в Железноводске была трудная, голодная, а для Хлебникова особенно тяжёлая. Несмотря на это, он очень много работает, завершая и переписывая ранее начатые вещи и создавая новые.
„Работал он в Железноводске, — вспоминает О. Самородова, — чрезвычайно много. Пересматривал какие-то старые записи, что-то рвал, что-то вписывал в большую книгу, похожую по формату на конторскую. Лес вокруг нашей дачи был усеян листочками его черновиков”. Эта „конторская книга” (гроссбух) сохранилась. Она заполнена текстами поэм и стихов 1919–1921 годов, чаще всего черновыми. Именно из неё Хлебников переписывал набело отдельные произведения, в расчёте на их напечатание.
Прожив в Железноводске немногим больше месяца, Хлебников ушёл оттуда пешком в Пятигорск, где была какая-то возможность заработка и лечения. В письме к родным из Пятигорска он так рассказывает о своей жизни:
О жизни Хлебникова осенью 1921 года в Пятигорске рассказывает Д. Козлов — бывший заведующий тамошней ТерРОСТА, куда Хлебников был зачислен на вакантную должность ночного сторожа:
В 1921 году разразилась народная трагедия — голод в Поволжье. На улицах Пятигорска появилось множество бежавших из Поволжья детей и взрослых, которых нередко подбирали мёртвыми на улицах города. „Сам голодая, больной, Хлебников, — по словам Д. Козлова, — ходил по городу и отводил беспризорных в питательные пункты”. Работая в ТерРОСТА, Хлебников написал ряд стихотворений о голоде. «Трубите, кричите, несите!», «Почему?», «Осень». Стихотворение «Трубите, кричите, несите!», напечатанное в однодневной газете «Терек — Поволжью», свидетельствует не только об обращении Хлебникова к самым жгучим вопросам жизни, но и о воздействии принципов поэтики Маяковского как в общем ораторско-патетическом характере стиха, так и по типу словообразований.
В стихотворении «Голод» («Почему?») осуществлена та простота, естественность интонации, образов, языка, которые характерны для позднего творчества Хлебникова.
Осень в Железноводске, а затем в Пятигорске (до середины декабря 1921 года) — период творческого подъёма. Именно в это время созданы или закончены такие поэмы, как «Ночь перед Советами», «Горячее поле», «Ночной обыск». Эта творческая интенсивность объяснялась как относительно благоприятными условиями жизни в Пятигорске, так и желанием Хлебникова возвратиться в Москву с возможно большим количеством законченных вещей, готовых для печати. Именно этот новый этап своего творчества Хлебников осознаёт как отход от прежних, во многом уже сложившихся принципов. В записи от 7 декабря 1921 года он отмечает:
В конце 1921 года Хлебников создаёт цикл поэм о революции — «Ночь перед Советами», «Горячее поле» (или «Прачка»), «Настоящее» и «Ночной обыск», которые взволнованно передали события первых лет Октября, подвели итог размышлениям и наблюдениям поэта о путях и судьбах революции. Не будучи сюжетно связаны между собой, эти поэмы в своей совокупности создают широкую картину первых лет революции.
Цикл поэм о революции означал попытку по-новому осмыслить её, понять события современности, свидетелем и участником которых явился поэт, передать обилие впечатлений, захвативших его в этом грозном шквале событий.
Так рисуется революция в первой из поэм этого цикла, «Ночь перед Советами», датированной 1 ноября 1921 года. В основу её положен случай, который рассказан В. Короленко в очерке «В облачный день», показывающем жестокость крепостного права. Эпизод из рассказа Короленко в поэме приобретает широко обобщённое, своего рода символическое значение.
Старуха кухарка рассказывает историю крепостного права своей барыне, как приговор прошлому, как неизбежность возмездия за преступления господ. Это тёмная, неграмотная старуха, но и она знает правду революции:
Хлебников создаёт и выразительный портрет старой барыни. Воспитанная в Смольном, она во время русско-турецкой войны пошла сестрой милосердия, помогала ссыльным, была даже раз на нелегальном собрании «Воли народной». Затем ушла корнями в семью, дети пошли странные, дикие, безвольные, как дитя, вольные на всё, ничего не хотя. Художники, писатели, изобретатели. Но в глазах старой крестьянки она, прежде всего, барыня, принадлежащая к ненавистному народу сословию угнетателей:
Так Хлебников противопоставил два мира, две культуры, две психологии. В этом резком противопоставлении сказался известный схематизм, но он мотивирован психологической правдой характеров.
Такие произведения его, как «Ночь перед Советами», «Настоящее», «Горячее поле», «Ночной обыск» и др., во многом отличаются от прежних. Книжная, архаическая стилистическая система, преобладавшая в дореволюционных вещах, сменяется разговорным “просторечием”, четырехстопный ямб — стихом, основанным на живой интонации, на песне, на частушке. В этих стихах и поэмах слышны непосредственные голоса улицы, интонации и словарь:
В поэмах «Настоящее» и «Горячее поле» нет, в сущности, ни отдельных героев, ни сюжета. Это полифонические, “многоголосые” произведения, где действует масса; слышатся голоса и песни улицы. Своеобразная жанровая форма этих поэм основана на перекличке разных голосов, выступлениях “хоровых” партий, передающих разнообразные эпизоды борьбы восставшей улицы с силами прошлого. Выделяются лишь отдельные персонажи — Великий князь, Прачка, — приобретающие обобщённо-символическое значение. В «Ночном обыске» и «Ночи перед Советами» персонажи более конкретизированы (начальник патруля в «Ночном обыске», старуха прислуга и барыня — в «Ночи перед Советами»).
Космический масштаб революции не заслонял её реального, конкретного восприятия и оценки революционных событий. Хлебников, как и Блок, оправдывает неизбежность насильственного подавления классового врага. Патруль красноармейцев у Блока в «Двенадцати» и отряд моряков в «Ночном обыске» выступают как провозвестники нового мира, сокрушающие старый мир, представители которого уже обречены историей. Великий князь (олицетворение царской династии) в «Настоящем» говорит о себе:
“Законы” истории совпадают с “законами” революции. Поэтому для Хлебникова революция не только исторически оправдана, но и неизбежна. Он видит в поднявшихся на борьбу народных массах священников выстрелов, запевал смерти, тех, кому нет житья от господ, он показывает, как созрели гроздья гнева в этих обездоленных массах:
«Горячее поле» («Прачка») и «Настоящее»18![]()
На одной стороне гордый и изнеженный облик императорского Петербурга:
Величественной красоте дворцов противопоставлены нищета, нечеловеческие условия жизни голи Горячего поля:
Поэт воодушевлён грандиозностью событий, их историческим значением и драматизмом, рассказывает с суровой правдивостью, с обжигающим пафосом о героических днях революции, Хлебников принял её правду, её высшую справедливость и нравственную правоту восставшего народа.
В поэме «Настоящее» звучат голоса и песни улицы. Это грозные голоса о мщении поднявшейся на борьбу народной массы, ещё стихийно, но самоотверженно выступившей против угнетателей. Подобно А. Блоку, Хлебников услышал “музыку революции” в этих хриплых, отчаявшихся голосах улицы. Герой его послеоктябрьских поэм — нищая, голодная масса, объединённая ненавистью к прошлому. Он не побоялся показать революцию жестокой и кровавой: слишком тяжелы и мучительны были страдания народа, испытания, им перенесённые, накопившийся гнев:
Революционный призыв к восстанию против бар и господ сливается с призывом к бунту против бога, религии. Ведь религия оправдывала и освящала этот бесчеловечный порядок, поддерживала власть господ.
У Хлебникова разум истории проявляется в самой стихии народного бунта, являющегося возмездием за века рабства и угнетения. Он не смягчал красок, показывая суровую жестокость наказания, обрушившегося на виновников этого гнёта. Речь идёт здесь не о личной ответственности, а об исторической закономерности явлений, неподсудных прежней моральной мерке. Революция подняла с самого дна народную ненависть. Хлебников показывает, как обездоленные, ограбленные и измордованные низы с яростной ненавистью выступают против своих угнетателей, самоутверждаясь в революционном порыве. Символом гнилости, вымирания господствующих верхов, физического и нравственного падения их является проституция. Хлебников создаёт в «Горячем поле» образ большой выразительности, подчёркивая его натуралистическими подробностями:
Солдатчина, странствование в битком набитых теплушках, участие в походе вместе с частями Красной Армии, работа в РОСТА — всё это сталкивало Хлебникова с народом, с солдатами, красноармейцами, моряками. Если в дореволюционные годы поэзия Хлебникова была книжной, ориентировавшейся на язык заговоров и заклинаний, то теперь она обращается к языку современной переворошенной и вздыбленной России, с её пестрым многоголосьем, жаргонными и диалектными словами, городским фольклором. Беспощадные, полные гнева и презрения слова находит Хлебников для показа богов этого мира, хлёсткий мотив частушки высмеивает их убожество. Задиристые выкрики озорного «Яблочка», особенно популярного в годы гражданской войны, частушечный ритм уличной песни в поэме Хлебникова «Настоящее» почти цитатно перекликается с «Двенадцатью» Блока:
Ср. у Блока в «Двенадцати»:
Драматической патетикой выделяется поэма «Ночной обыск», в которой трагический эпизод гражданской войны вырастает в широкое обобщение. Отряд моряков, пришедший с обыском в дом, в котором укрывается белогвардейский офицер, воплощает суровую правду революции. На предательский выстрел юноши-белогвардейца, сына хозяйки дома, матросы отвечают его расстрелом. Эта сцена написана с драматической силой и взволнованностью. На вызывающее признание стрелявшего:
В «Ночном обыске» с особой остротой поставлена проблема морального оправдания революции, столкновения христианской морали всепрощения и неумолимого в своей карающей силе возмездия во имя высшей справедливости.
Следует присоединиться к словам В. Перцова, считающего, что
Отряд моряков должен осуществлять защиту революции, он воплощает суровую волю победившего народа, неумолимого и правого в своём утверждении нового мира. В то же время Хлебников видит в революции стихийное начало, черты новой пугачёвщины:
В решающей схватке нового и старого мира нет места жалости. Хлебников показывает смертельную ожесточённость борьбы, крушение христианского гуманизма и рождение нового — пролетарского, народного, выражающего неизбежность беспощадной борьбы за новый, справедливый мир.
Икона с изображением Христа воплощает в поэме символ жалости и всепрощения. Захмелевший начальник отряда моряков увидел в иконе Христа укор, осуждение своим действиям. Он обращается к ней с кощунственным вызовом:
Хлебников по-человечески мучительно переживает трагедию матери расстрелянного и его сестры, он не сглаживает грубость, очерствелость матросов, которые уютную барскую квартиру разоряют, выбрасывая из неё рояль, мебель. Но он понимает, что это неизбежно в революции, что накипевшая в массах ненависть к угнетателям, угроза контрреволюции и сопротивление врагов оправдывают ответное насилие и жестокость.
По опубликовании этой поэмы критика указывала на сродство её с блоковскими «Двенадцатью»:
Революция укрепила в Хлебникове его давнюю ненависть к войне. От пацифистского отрицания войны Хлебников приходит к пониманию её классовой, империалистической сущности. В поэме «Берег невольников», или «Невольничий берег», написанной в 1921 году, Хлебников создаёт правдивую картину жестокой механики разбойничьих войн, развязываемых капиталистами во имя наживы. Он рисует потрясающие сцены безжалостной продажи и увоза за моря русских солдат, отправляемых царским режимом на чужбину, в помощь “союзникам”. Деревенские парни грузятся в трюмы пароходов, словно закупленный скот:
Хлебников показывает истинных виновников войны — капиталистов, заправил империалистической политики, которые во имя наживы и прибылей миллионеров уничтожают в мировой бойне людей, скупают “пушечное мясо”.
В своём резко отрицательном отношении к войне Хлебников сближается с Маяковским, выражая тот же протест против чудовищной империалистической бойни, что и Маяковский в «Войне и мире» (выходившей отдельными изданиями в 1917 и 1919 годах). «Берег невольников» Хлебникова и «Война и мир» Маяковского близки и в самой манере стиха, в своей гиперболической патетике и контрастирующими с нею разговорно-сниженном словаре и интонации. Скорее всего, здесь можно говорить не столько о взаимном влиянии Маяковского и Хлебникова, сколько о встрече их, возникшей в результате сближения идейных позиций. Теперь Хлебников понимает причины той чудовищной бойни, которая приводит к неисчислимым бедствиям и страданиям. Отсюда рождаются образы, полные гнева и трагического восприятия войны:
На смену бессмысленной гибели в соломорезке войны и торговле мировым мясом приходит революция, приходят моряки с «Авроры»:
Пониманием Октябрьской революции во многом как стихийной силы крестьянского восстания объясняется и возвращение Хлебникова к образу Разина, который неоднократно возникает в его послеоктябрьском творчестве (в «Ладомире», в «Трубе Гуль-муллы») и который с особенной полнотой запечатлен в поэме «Уструг Разина».
В поэме «Уструг Разина» (январь 1922 года) возникает эпическая картина волжской раздольной шири, безбрежной свободы, дикой необузданной вольности:
Это — Разин, народный герой, Разин фольклорных песен, в котором олицетворена мощь и удаль стихийного мятежа. В основу этой поэмы легла популярная песня о Разине Д. Садовникова («Из-за острова на стрежень»). Но сюжет песни приобрёл в поэме Хлебникова монументальность, могучую силу образов:
Гиперболически “богатырские”, былинные образы поэмы возвращают нас к русскому эпосу. Образ Разина воплощает ширь и удаль русского национального характера. Самый облик его неизменно предстаёт у Хлебникова в ореоле могучей физической мощи, сливается с простором великой русской реки Волги:
В этом образе и романтика прошлого, и восторженное восхищение богатырской удалью, бесшабашностью галаха — кума бедноты, вождя волжской повольницы! Это образ в духе прежних хлебниковских романтических героев. Но в то же время в нём заключена и современность, восприятие революции, которая соединила давние чаяния масс, зарницы мужицких восстаний — с Октябрьским пожаром народной революции:
Разин здесь — символ революции, её стихийного, мужицкого начала, как, прежде всего, воспринимал её Хлебников.
Последний год жизни для Хлебникова особенно трудный. После окончания гражданской войны страна была разорена, хозяйство в полном упадке, голод в Поволжье, разруха, парализованный транспорт, обесценение денег. В этих условиях вводится новая экономическая политика на смену прежней — военного коммунизма. Именно в это время Хлебников приезжает с Северного Кавказа в Москву. 28 декабря 1921 года Хлебников, больной и измученный, приехал из Пятигорска в Москву. О своём приезде он сообщал родным (в письме от 14 января 1922 года):
Сразу же после приезда, 29 декабря, он вместе с Маяковским, Каменским и Кручёных выступал с чтением стихов на вечере студентов ВХУТЕМАСа (НХ, 435).
На первых порах дружескую поддержку Хлебникову оказал Маяковский. Шуба, о которой Хлебников писал родным, — это, вероятно, тулупчик с плеча Маяковского. Маяковский сообщал Л.Ю. Брик:
Однако Хлебников был уже болен. В неизданных воспоминаниях П.В. Митурича рассказывается о трудных месяцах, проведённых Хлебниковым в Москве (с января по середину мая 1922 года), когда, превозмогая болезнь, он ходил с Мясницкой, где жил у художника Е.Д. Спасского, на Арбат к Исаковым, у которых обедал. Жизнь в полуголодной Москве была нелёгкой. Помимо полного безденежья и бытовых трудностей, Хлебникова одолевали приступы малярии. Несмотря на болезнь и неблагоприятные условия жизни, он, прежде всего, озабочен изданием своих произведений, и в первую очередь вычислений законов времени — «Досок судьбы». В записке к Л.Ю. Брик, относящейся к январю 1922 года, он в шутливом тоне сообщал:
П.В. Митурич, который был горячим приверженцем учения о законах времени, не только принял участие в заботах о бытовых удобствах Хлебникова, но и взял на себя (с помощью С. Исакова) печатание его вычислений литографическим способом. Так был напечатан первый «Вестник Председателя Земного Шара» в количестве 100 экземпляров. Вслед за изданием «Вестника» решено было приступить к печатанию в типографии «Зангези» и «Досок судьбы».
В эти месяцы московской жизни Хлебников усиленно занимался перепиской и подготовкой к печати своих произведений («Зангези», «Ночной обыск», «Настоящее», «Уструг Разина»).
При посредстве Маяковского в номере «Известий» от 5 марта 1922 года вместе со стихотворением Маяковского «Прозаседавшиеся» было напечатано стихотворение «Не шалить!» («Эй, молодчики-купчики»), навеянное настроениями начала нэпа. Стихотворение выражало неприятие нэпа, горечь разочарования в “буднях” быта, романтический протест:
В переходе к мирному строительству пугачёвский тулупчик, романтика гражданской войны, которыми вдохновлялся Хлебников, сменяется трезвым, самоотверженным трудом во имя победы революции, стихийность — дисциплинарной организованностью, исключавших проявления разиновщины и пугачёвщины. Этот поворот остался непонятен Хлебникову, увидевшему в нэпе только возврат к прежнему:
Стихотворение «Не шалить!» было одним из первых произведений, выражавших тревогу перед возвращением вместе с нэпом частнособственнических настроений, воскрешением мещанства. На это стихотворение откликнулся А. Воронский в первом номере «Красной нови»:
Об обстоятельствах жизни поэта в эти краткие месяцы его пребывания в Москве рассказывает письмо его к матери от апреля 1922 года. В нём он сообщает о своей работе над книгой, которая в ближайшее время должна выйти из печати (вероятно, «Доски судьбы»), после чего собирается поехать через Астрахань на Каспий.
В мае Хлебников, по свидетельству П.В. Митурича, собирался уехать в Астрахань к родным, с тем, чтобы отдохнуть от тяжёлых бытовых условий и полечиться. Но для поездки не было средств. П.В. Митурич через своих родственников выхлопотал бесплатный проезд по командировке по Волге в Астрахань, однако, не ранее, чем через две недели. А до этого он уговорил Хлебникова поехать с ним в деревню Санталово Новгородской губернии, где учительствовала тогда его жена. Несмотря на трудности пути, Хлебников и здесь не решился оставить свои рукописи и поехал с набитыми ими мешками.
С трудом добрались просёлком по весенней беспутице до деревни Санталово (в 8–10 километрах от Крестцов), там разместились в учительской половине школы, большой крестьянской избе. Жить стало легче. Наступила тёплая солнечная погода. По словам П. Митурича, Хлебников уходил в лес, лежал на солнце, в речушке ловил удочкой рыбу.
Вскоре обнаружилось, что Хлебников тяжко болен: у него отнялись ноги, и он не мог передвигаться. Домашние лечебные меры не помогали. С большим трудом удалось найти подводу и отвезти больного в больницу в г. Крестцы. Это было 1 июня. В больнице Хлебников уже вовсе лишился возможности двигаться. Врачи определили парез, началась водянка. Из Крестцовской больницы Хлебников пишет в Москву своё последнее письмо знакомому врачу А.П. Давыдову:
В условиях провинциальной больницы спасти больного оказалось невозможным. После трёх недель мучительных страданий П. Митурич увозит умирающего снова в Санталово. Здесь, в деревенской баньке, он и умер — 28 июня 1922 года.
Хлебников был похоронен на погосте в деревне Ручьи Новгородской области. Об этом погосте, затерянном среди полей Новгородского края, писал Н. Заболоцкий:
В 1960 году прах Хлебникова был перевезён в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище.
Хлебников прошёл большой путь. В произведениях советской эпохи он осуществил во многом иные, реалистически мотивированные приёмы как сюжетного развития темы, так и смыслового строения образов. Однако и в этом, завершающем этапе своего творческого пути Хлебников сохраняет оригинальность и самобытность художественной манеры, необычность образов, синтаксического и ритмического строя стиха, ту свободу и “раскованность” поэтического выражения, которые остаются главными отличительными свойствами его творчества.
Поэзия Хлебникова в основном тяготеет к эпосу, хотя личность поэта нередко проглядывает и в его поэмах (в «Трубе Гуль-муллы», например). Хлебников обычно не раскрывает своего внутреннего мира, своих переживаний в лирических жанрах. Даже его небольшие стихотворения кажутся фрагментами какого-то незавершённого эпоса. Поэтому и в лирике Хлебникова нередко отсутствует лирический герой. Поэт стремится к охвату событий, эпох, народов, включаемых как бы во вневременное сознание. Лирика Хлебникова чаще всего — это фрагменты, размышления, зарисовки природы, говорящие не столько о личности поэта, сколько о тех картинах и явлениях мира, которые отражаются в его сознании.
“Логика” стихов Хлебникова далека от общепринятой логики. Она основана на сближениях явлений, обычно не связанных друг с другом причинной связью. Этим и объясняется трудность понимания его стихов, разорванность их смысловых звеньев. Именно поэтому логические связи, смысловая и даже синтаксическая мотивированность в построении фраз, переходы и сцепления образов заменяются у Хлебникова звуковыми, фонетическими повторами и перекличками.
Чувство связи с миром, с общим течением жизни, всеобщность сознания, единство человека и природы — сближают Хлебникова с таким поэтом, как Уитмен. Хлебников — автор Единой книги, книги всего мира, страницы которой состоят из стран и народов.
При всём внешнем алогизме и метафоричности поэтического мышления Хлебникова, в его художественной системе есть определённая закономерность. В самом отборе образов, в стремлении общее, отвлечённое передать через конкретный образ, сразу же придвигающий понятие, словно под увеличительной линзой перед глазами читателя. Конкретизируя общий образ, символ Единой книги, Хлебников говорит:
Хлебникова роднило с Уитменом это космическое восприятие мира, сознание нераздельного единства с природой и людьми, универсальность. Ряд стихотворений особенно близок к Уитмену не только по мыслям и настроениям, но и по тому свободному, эпическому стиху, которым они написаны.
Говоря о древнегреческой лирике, О. Фрейденберг указывает, что
Даже когда в стихах речь идёт о его собственной судьбе, Хлебников говорит о себе как о постороннем. Очень личное, трагическое стихотворение «Я видел юношу пророка...» написано именно так, в третьем лице (Он Разиным поклялся быть напротив | Наш юноша поёт и т.д.). Картина лесного водопада, к которому припал юноша пророк, перерастает в мифологический образ приобщения к мировому разуму:
В поэзии Хлебникова все вещи и слова уравнены “в правах”: в ней нет “поэтических” и “непоэтических” тем и понятий. Он не стремится к украшению, к искусственной стилизации, пренебрегает отделкой, завершённостью. Стихи его как бы сами рождаются из жизненного хаоса, вне традиции, вне каких-либо “правил”.
Предельная искренность и “нелитературность”, отсутствие какой бы то ни было поэтической позы подчёркнуты реальными фамилиями, разговором о себе не как о “литературном герое”, а как о фактически существующем человеке. Сила этого приёма — в нарушении традиционной условности, в обнажении личности автора. Эта достоверность подчёркивается и вводом в текст фраз — отрывков из личных разговоров (см. поэму «Синие оковы»), фактических обстоятельств, подлинных фамилий.
К последнему периоду творчества Хлебникова относится цикл стихотворных портретов-характеристик деятелей футуризма, друзей поэта («Бурлюк», «Кручёных», «Признание» — о Маяковском). Это стихотворения, в которых выступает объективная, точная лепка характеров. Хлебников говорит о даровании могучего здоровьем художника — Давида Бурлюка (3, 389). Хлебников даёт откровенно ироническую оценку А. Кручёных, одному из застрельщиков футуризма. Давая точное описание Кручёных (лицо энглиза крепостного счетоводных книг), он говорит о нём как о Бурлюка отрицательном двойнике:
Тем существеннее оценка Маяковского как поэта, сыгравшего выдающуюся роль в создании нового искусства. Хлебников оценивает его исключительно высоко. В стихотворении о Маяковском «Признание», относящемся к началу 1922 года, высказано утверждение общности своего пути с путём Маяковского:
Стихотворение основано на полемической перелицовке заглавия известной статьи Д. Мережковского «Грядущий хам» (1906), направленной против революции и революционеров. Этот яростный выпад Мережковского против революции Хлебников переносит и на футуристов, так как в его понимании футуристы были тоже революционными деятелями. Для Хлебникова бунтарские выступления Маяковского, в которых и сам он принимал участие, — подготовка нового, революционного искусства. Это осознание Хлебниковым своего места в послеоктябрьскую эпоху вместе, рядом с Маяковским — чрезвычайно существенно, лишний раз подтверждая его переход в лагерь Октября.
Небольшие отрывки, фрагменты, “эскизы”, в которых лишь проступает лирическая тема, — такова лирика Хлебникова. Иногда всего одна строка несёт огромную силу лирической нагрузки, образного восприятия мира:
Иногда это подбор неологизмов, удивительно верно передающих настроение, картину природы, напоминающий детскую считалку:
Часто это краткие размышления, фрагменты незавершённых стихотворений. И всюду щедро разбросаны редкостные. находки, сверкающие образы, неожиданно точные определения. То это сочетание конкретных представлений и космических масштабов:
Его мечта была благородна — дать свободу людям, животным, даже неживой природе. Его мысль была устремлена в космические дали и в то же время глубоко гуманна и человечна. Человек был для него не только венцом вселенной, но и, прежде всего, носителем разума, который, по его мысли, через тысячелетия озарит природу, преобразует растительный и животный мир, состоящий из тех же атомов и элементов, что и человек. Следует удивиться мужеству и героизму его подвижнической жизни, самоотверженной преданности поэзии и науке. Он жил весь обращённый к будущему, этот одинокий лицедей, как он себя называл, не замечая бытовых неурядиц, одетый в рубище из старых мешков, голодный и вдохновенный.
В стихотворении «Я и Россия» Хлебников говорит о себе:
Здесь речь идёт не об индивидуалистическом утверждении себя, своей личности, а о сознании единства микрокосмоса с макрокосмосом, тождества законов, как управляющих миром, так и организмом человека. Не личное, а общее, включённость человека во всю систему мироздания привлекает Хлебникова, рассматривающего личность как частицу общего потока человеческих судеб. Но в то же время он в ряде случаев говорит и о себе, говорит с такой простотой и искренностью, что, забывая о форме выражения, воспринимаешь лишь горький, трагический смысл признания человека, предельно одинокого в своей личной неустроенной судьбе. Хлебников болезненно переживал разрыв между стройностью изобретённой им Гаммы Будетлянина, гармонической картиной утопии будущего и суровой реальностью “настоящего”, сложностью и противоречивостью эпохи.
В лирических стихотворениях раскрывается духовный облик поэта с его по-детски чистым, трогательным и беспомощным отношением к жизни. Поражает полная свобода от всякой литературности, влияний образов. Это откровенный, несколько приглушённый разговор, дружеское признание:
Здесь звучит и кроткая нежность, робкая влюблённость, горечь и боль обиды и одиночества, признание, чуть насмешливое, в своей практической неприкаянности (сорвался я с облака), но всё это сказано так скромно, по-дружески, словно никто, кроме адресата, и не прочтёт эти стихи.
Незадолго до смерти Хлебников создаёт ряд стихотворений, свидетельствующих о трагическом предчувствии скорого конца и болезненном переживании своего одиночества. Такие стихотворения, как «Я видел юношу пророка...», «Я вышел юношей один...», «Одинокий лицедей», «Не чёртиком масляничным...», «Всем», во многом отличны от всего творчества Хлебникова. В них он пишет о себе. Это человеческий документ, обнажённый в своей искренности и порыве отчаяния.
В стихотворении «Одинокий лицедей» Хлебников говорит о своей поэтической и личной судьбе, о трагическом одиночестве:
Эти стихи исполнены суровым библейским пафосом самоотречения. Даже фразеология библейская: Как сонный труп влачился по пустыне.
Это трудный и мучительный путь, путь, полный опасностей, срывов, разочарований, о котором он иносказательно говорит:
Проповедь поэта оказалась непонятой. Стихотворение завершается страдальческим признанием неудачи, крушения всего дела жизни:
Судьба Хлебникова была трагической. Дело не только в личной его беспомощности и неприспособленности к суровым условиям жизни. Трагичным было столкновение его утопических мечтаний с действительностью, его самоощущение себя как непризнанного пророка. Это не было разочарованием в революции, веру в которую Хлебников сохранил до конца. Но это была трагедия невозможности осуществления мечты о часах человечества, закон движения, стрелки судеб которого, как казалось Хлебникову, он открыл.
Основным произведением, своего рода завещанием, оставленным Хлебниковым, является его сверхповесть «Зангези». В одной из записей помечено, что «Зангези» собран-решён 16 января 1922 года. Хлебникову удалось увидеть корректуру книги, но вышла из печати «Зангези» лишь после смерти поэта. Во «Введении» к «Зангези» он обосновывает самый принцип построения, говоря о том, что
Этот принцип “монтажа” плоскостей, различных по теме, по принципу изображения, по словесному материалу, но в своём сочетании рождающих новый смысл, новое качество, в «Зангези» осуществлён с особенной последовательностью. Различные словесные плоскости в своих пересечениях способствуют разносторонности аспектов, объединённых общей идеей — той же, что и Доски судьбы. В целом «Зангези» — поэма о путях человечества, проповедь учения о законах времени — Гаммы Будетлянина. Сверхповесть — это поэтический “мир”, понимание реального мира самим автором. Отдельные плоскости — самостоятельные произведения со своим “сюжетом”, со своими “частными” сферами авторского сознания. Объединённые вместе, они порождают новый смысл, своего рода глобальное восприятие мира, его космическое осознание, которое столь характерно для Хлебникова.
В «Зангези» объединено всё сделанное Хлебниковым на разных этапах его творчества: здесь и заумь, и звёздный язык, и язык птиц, и передача голосов улицы. В движении человечества сквозь века, в сцеплении механизма часов человечества беспомощно-бесприютным остаётся, однако, сам Зангези, который сравнивается с бабочкой, залетевшей в комнату человеческой жизни. Его мечта благородна — дать свободу людям, богам, животным, даже неживой природе. Его мысль устремлена в космические дали и в то же время глубоко гуманна и человечна. Человек для него венец вселенной, носитель разума.
Хлебников стремится обосновать и закономерность Октябрьской революции. «Плоскость XVIII» — речь Зангези — посвящена перечислению цепи революционных и исторических событий, предшествовавших Октябрьской революции. Хлебников перечисляет декабристов (пылкий, горячий Рылеев), польское восстание (польского праздник восстания), избрание Гарфильда президентом Америки, битву при Куликовом поле, Ермака и покорение Сибири, Тимура и Баязета, падение Царьграда, падение самодержавия в 1917 году. События, связанные степенью трёх, выстраиваются в определённые ряды соответствий, образуя своего рода мифологическое чучело мира. Этот “числовой” подход к историческим фактам совмещается с образными, сжатыми характеристиками эпох и событий.
Зангези — Хлебников неизменно верен революции, на стороне победившего народа, он говорит о событиях Февральской революции:
«Зангези» — одновременно и поэма о революции, и “прорыв” в будущее, и философские размышления, и историческая проверка законов времени, и миф о “числовом” чучеле мира. В этой слитности, универсальности её поэтическое своеобразие. Она родилась на переломе мировой истории, судеб человечества. Сознание необходимости коренной перестройки мира особенно ощутимо в замысле всей поэмы. Об этом и прямые высказывания Хлебникова, исполненные сочувственного восприятия грозовых голосов революции:
В «Зангези» Хлебников включил поэму «Горе и Смех», написанную ещё в июне 1920 года. В ней он создал своего рода карнавальные маски, напоминающие аллегорические персонажи средневековых мистерий. Горе и Смех олицетворяют два начала человеческого бытия, внешне противоположные, но внутренне взаимосвязанные. В монологе Смеха говорится:
На всём протяжении поэмы возникает образ пророка Зангези — житейски беспомощного, не понятого своими сверстниками, тщетно взывающего к будущему. Его проповедь всё время прерывается назойливо-ироническими выкриками обывательской толпы “учеников”: Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь камаринскую! Мыслитель, скажи что-нибудь весёленькое! Толпа хочет весёлого. Что поделаешь — время послеобеденное (3, 342). Романтический поэт и пророк не понят и не признан своими слушателями, но он уверен в своём призвании. В своём обращении к будущему он говорит:
Сложность и трагическая противоречивость образа Зангези в его внутренней двойственности. То это пророк-провидец, принесший человечеству новое зрение, путь к овладению законами космоса и истории, то это непонятный, беспомощный, по-детски наивный и глубоко ранимый человек:
В конце поэмы поэт-пророк разуверивается в возможности осуществить своё признание. Размолвка поэта с “толпой”, его не понимающей и не приемлющей, приобретает всё более трагический характер и завершается горьким финалом — самоубийством, поводом для которого было уничтожение рукописей его произведений.
Однако заключительная реплика «Зангези» проникнута оптимизмом:
«Синие оковы» — последняя из поэм Хлебникова — была написана, вероятно, в марте–апреле 1922 года в Москве, вскоре после возвращения Н.Н. Асеева с женою О.М. Синяковой с Дальнего Востока. Хлебников превратил встречу с ними в повод для размышлений и, словно нечаянно, набегавших ассоциаций о прошлом. Основная тема проявляется сквозь причудливую связь перифраз и метафор, преломлена через призму авторского сознания, биографический образ самого поэта.
Вся поэма пронизана солнечным светом, является симфонией красок. В основе её мысль о всемирном единстве, о слиянии человека с природой, осознание его как частицы космического пространства. В конце поэмы Хлебников, подводя итог рассеянным в ней намёкам и упоминаниям, писал:
В поэме сталкиваются два начала: смерти, разрушения — и жизни, утверждающее, радостное, светлое. Первое — это, согласно символике звуков, — маятники смерти | гости сумрачных могил — говор струн на Ка (То смерть кукушкой куковала). В число таких женихов смерти Хлебников относит, прежде всего, вождей контрреволюции — Колчака, Корнилова и Каледина. Тема смерти связана не только с контрреволюцией, но и с прошлым, с господством царизма, с судьбами русской революции и Сибири.
Название «Синие оковы» символически “зашифровывает” фамилию Синяковы. В поэме многократно говорится о них, включён ряд упоминаний интимно-лирического порядка (окрик знакомый: „Я не одета, Витюша, не смотрите на меня!” — словно перенесён из повседневного быта, домашнего разговора, далёкого, казалось бы, от всякой поэзии, не стиховой по своей интонации).
Поэма «Синие оковы» композиционно сложно построена. Её философская тематика, её исторические экскурсы и, вместе с тем, ввод революционной современности составляют “сюжетный”, идейно-философский костяк поэмы. Конкретные бытовые подробности, относящиеся к жизни в Красной Поляне и к сестрам Синяковым, идут параллельно, как бы независимо от “сюжета”. Но этот личный, лирический план тесно связан с первым, общим. Ведь Синяковы тоже содержат частицу того мирового, “космического” начала, которое утверждается в поэме.
Мудрость мира, как показывает Хлебников, — в его непосредственном восприятии, в слиянии с природой. Об этом говорят и заключительные стихи:
«Синие оковы» и «Зангези» — последние из крупных произведений Хлебникова. В них как бы подведены итоги его творческому пути, повторены основные особенности его поэтического метода, дана широкая и разнообразная панорама, обозрение множества событий и фактов прошлого, явственно стремление обнаружить в них закономерность, меру мира.
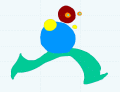
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 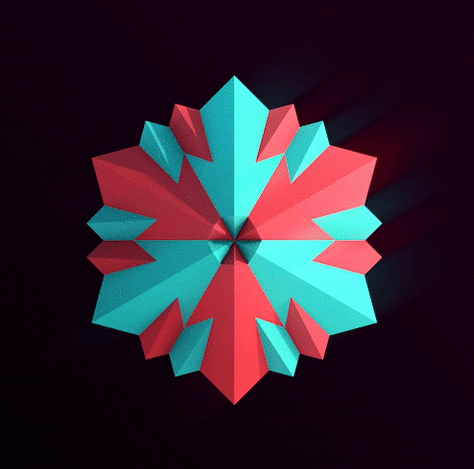 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||