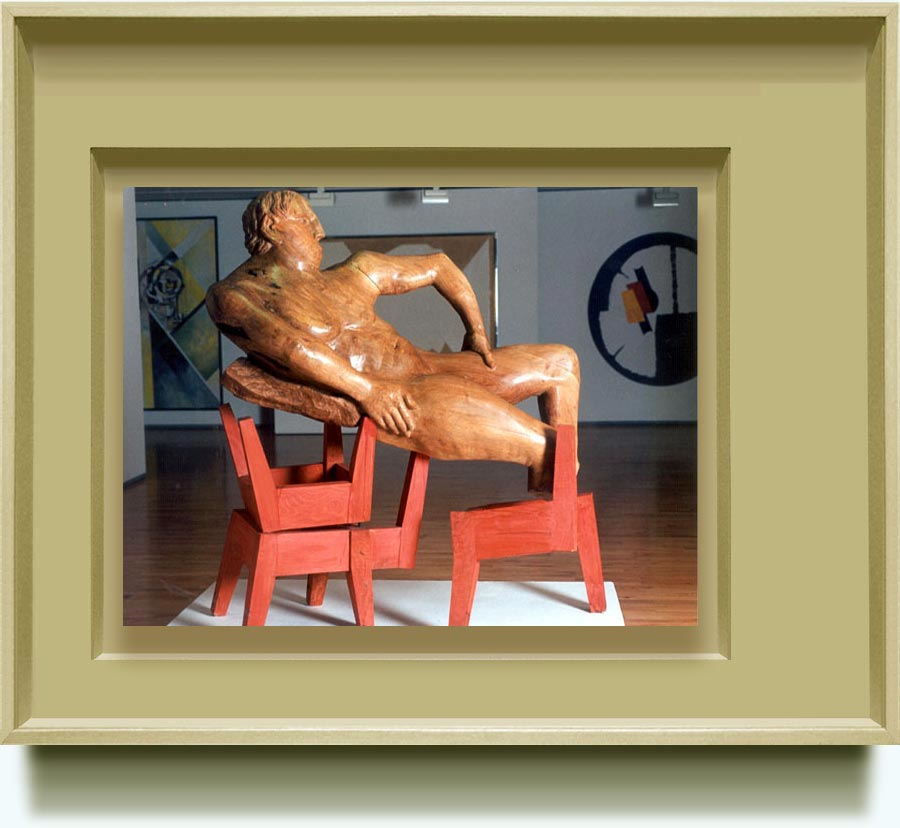
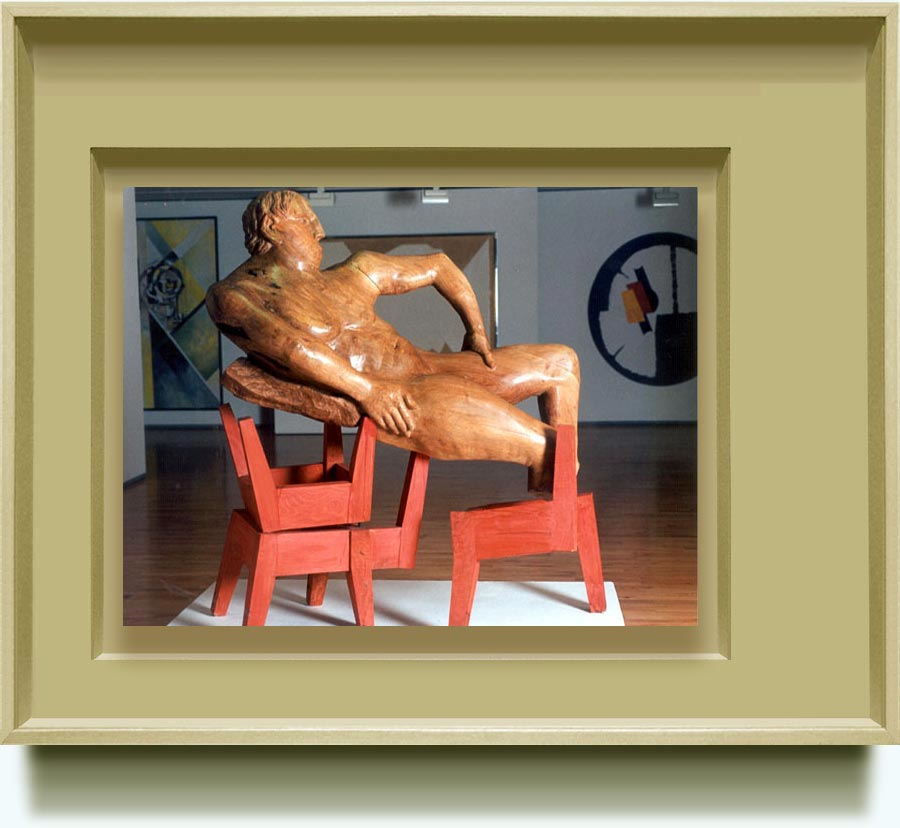
Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него ботинок.
Он встал нам навстречу и протянул руку с ботинком.
Я, улыбаясь, пожал башмак. Хлебников даже не заметил.
Есенин спросил:
— Это что у вас, Велимир Викторович, сапог вместо перчатки?
Хлебников сконфузился и покраснел ушами — узкими, длинными, похожими на спущенные рога:
— Вот... сам сапоги тачаю... Садитесь...
Сели на кровать.
— Вот...
И обвёл большими серыми глазами, чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, пустынный квадрат, оклеенный выцветшими обоями.
— Комната вот... прекрасная... только не люблю вот... мебели много... лишняя она... мешает.
Я подумал, что Хлебников шутит.
А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку остриженные после тифа.
Голова у Хлебникова узкая и длинная, как стакан простого стекла, просвечивающий зелёным.
— И спать бы вот можно на полу, а табурет нужен заместо стола... я на подоконнике... пишу... керосина у меня нет... вот и учусь в темноте... писать... всю ночь сегодня... поэму...
И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися. Невозможно было прочесть ни одного слова.
— Вы что ж, разбираете это?
— Нет... думал вот, строк сто написал... а когда рассвело.. вот и... — Глаза стали горькими: — Поэму жаль... вот... Ну, ничего... я научусь в темноте...
На Хлебникове длинный сюртук с шёлковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками. Подкладка пальто служит простыней.
Хлебников смотрит на мою голову — разделенную блестящим, как перламутр, пробором, и выутюженную жёсткой щеткой:
— Мариенгоф, мне нравится ваша прическа... я вот тоже такую себе сделаю...
Есенин говорит:
— Велимир Викторович, вы ведь Председатель Земного Шара. Мы хотим в городском Харьковском театре всенародно и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание.
Хлебников благодарно жмёт нам руки.
Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал.
Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты посвящения его в Председатели.
После каждого четверостишия, как условлено, он произносит:
— Верую.
Говорит “верую” так тихо, что мы только угадываем слово. Есенин толкает его в бок:
— Велимир, говорите громче. Публика ни черта не слышит.
Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: „Но при чем же здесь публика?”
И ещё тише, одним движением рта, повторяет:
— Верую.
В заключение, как символ Земного Шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвёртого участника вечера — Бориса Глубоковского.
Опускается занавес.
Глубоковский подходит к Хлебникову:
— Велимир, снимай кольцо.
Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину.
Глубоковский сердится:
— Брось дурака ломать, отдавай кольцо!
Есенин надрывается от смеха.
У Хлебникова белеют губы:
— Это... это... Шар... символ Земного Шара... А я — вот... меня... Есенин и Мариенгоф в Председатели...
Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель Земного Шара Хлебников, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет большими, как у лошади, слезами.
Перед отъездом в Москву отпечатали мы в Харькове сборничек «Харчевня зорь».
Есенин поместил в нём «Кобыльи корабли», я — «Встречу», Хлебников — поэму и небольшое стихотворение:
Не та же ли участь ждёт и Велемира Хлебникова? Российская критика (спрашивается: чем отличается оная от “русского языка” наших недавних классических гимназий?) и так — российская критика (опять спрашивается: что же такое российская критика? — “что?” — это сказать почти невозможно, а вот “кто?” — пожалуйста: Коган, Фриче и Львов-Рогачевский!) и так, — ах, да будь она не здорова, эта российская критика...
У нас превосходная память: всё, что пишется о многих Хлебниковых и писалось о Велемире Хлебникове, нами не позабудется, а ведь как-никак он создатель русского футуризма, который в опошленном и, стараниями Маяковского и Каменского, упрощённом до газетчины виде, принимается и уже почти прославляется этими самыми Рогачевскими и Коганами.
Но — начальные идеи футуризма и поэт В. Хлебников — дело серьёзное: не в журнальной статейке с куриный нос им место. Я предпочту несколько штрихов порядка воспоминального.
Весной 1920 года я и Сергей Есенин приехали в Харьков для устройства имажинистского вечера. Времена были боевые. Нам тогда казалось, что писать хорошие стихи это мало, — надо, чтобы эти стихи ещё кем-то читались и, по возможности, понимались. Для этого мы и шли с широкой теоретической пропагандой. Всякая теория в искусстве (имажинизм мировоззрения!) имеет смысл, как некое облегчение, с одной стороны, для широкого понимания потребителя прекрасного, с другой стороны — для молодёжи, начинающей работать в прекрасном. Самостоятельной же ценности в школах и теориях школ, как таковых, конечно, никакой не имеется.
В Харькове неожиданно для нас оказался Хлебников. Жил он там более года. Как и полагается для него — в сплошном мытарстве. При белых, чтобы избавиться от военной службы, пошёл в сумасшедший дом. Там, дабы как-то отграничиться от влияния чересчур повышенной нервной атмосферы, писал совсем спокойные и ритмически равнодушные, почти Пушкинские стихи. При красных работал на хуторе у какого-то крестьянина — траву полол на огороде. Потом снова перебрался в город.
Жизнь была удивительная: учился писать ночью при совершенной темноте (за отсутствием свечи), матрацом и простыней ему служила подкладка пальто, одеялом — верхняя часть; когда выходил на улицу, обе части соединялись воедино и так далее, всё в том же духе.
Встретились мы с Хлебниковым более чем тепло. Решили устраивать вечер вместе. Имажинизм был ему близок. Вырабатывая программу, на первом месте поставили: посвящение Велемира Хлебникова в председатели земного шара. Когда-то богема петербургской «Бродячей собаки» даровала ему этот титул, на что была выдана грамота за многими подписями, которую он бережно хранил. От нас требовалась санкция этого выбора. Проделали это мы отчасти ради издёвки над публикой, которая к нам относилась тогда чрезвычайно враждебно, отчасти для Хлебникова — ему хотелось.
В переполненном городском театре принял он это посвящение поразительно серьёзно. На слова церемонии отвечал еле слышным даже для нас шёпотом: „верую”. В знак обручения с земным шаром мы надели ему на палец кольцо, взятое на минутку у одного знакомого. После вечера Велемир ни за что не хотел отдать кольцо обратно по принадлежности, считая это кощунством.
Хлебников умер. Публика и критики ничего не потеряли. Потому что он не знали, не могли и не хотели его знать. Мы потеряли, помимо большого поэта и блестящего теоретика, единственное в современности воплощение абсолютного идеализма.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 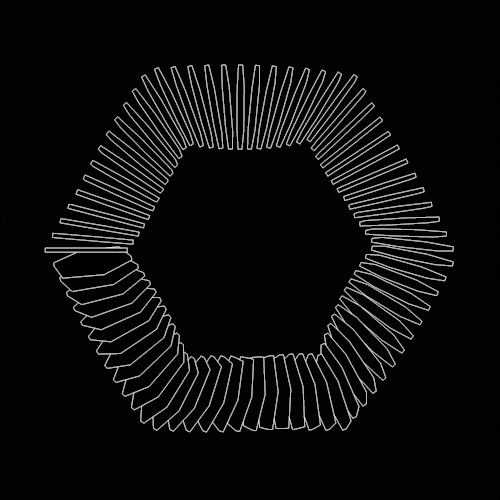 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||