



В поэзию Хлебников вошёл как признанный мастер слова. Н.Н. Асеев писал в своих воспоминаниях о Маяковском, что
Быть “Лобачевским слова” не только почётно, но и означает, что Хлебников открыл в поэтическом слове те возможности, которые в дальнейшем вошли неотъемлемыми завоеваниями в русскую поэзию. Об этом сказал и такой во многом далёкий от Хлебникова поэт, как О. Мандельштам:
В 1913 году Хлебников совместно с А. Кручёных выступил с декларацией «Слово, как таковое», которая может считаться предтечей позднейших теорий Опояза и формализма. В ней утверждалось в первую очередь, что
Именно в таком понимании искусства видел Хлебников и основное отличие от итальянского футуризма:
Внимание футуристов не столько привлекало идейное наполнение творчества Хлебникова — главное для них было его экспериментирование над словом. Футуристов не смущало даже тяготение Хлебникова к словесной архаике. Для них было важно самое утверждение принципа „слова, как такового”. Именно так расценивал значение Хлебникова В. Каменский во вступительной статье к его книге «Творений»:
Хлебников утверждал всем своим творчеством право поэта на эксперимент. Опыты “разложения” слова подготовлены были филологическими штудиями, изучением славянских языков, начатым ещё в университете.
Напомним, что уже А. Потебня видел „элементарную поэтичность языка” в „образности отдельных слов”. Вот эту заложенную в самом слове поэтичность, изобразительную выразительность слова (и даже звука) Хлебников и принял за основу поэтического творчества.
Хлебников решительно пересматривает традиции символизма, его поэтическую систему, сохраняя в то же время связи с ним. Для него неприемлемы в символизме его эстетизм, его философская отвлечённость — и, прежде всего, самое отношение к слову как к символу. Самостоятельность слова, „слово, как таковое”, выдвижение на первый план его звуковой стороны, его этимологии и морфологического строения, по мысли Хлебникова, должно было вернуть поэтическому языку его первозданную конкретность, образность первобытного мышления.
Хлебников решительно разграничивал язык поэзии и язык быта:
Отказ от традиционных форм приводил Хлебникова на крайние рубежи, однако он не ставил перед собой задачи создания новой формы во имя самой формы. Ему был враждебен, прежде всего, ремесленный профессионализм, который отличает “гладкие”, эпигонски подражательные стихи. А таких стихов писалось множество в годы его вступления в литературу. Именно в это время появляются в изобилии „ловкие и ни к чему не обязывающие декадентские стихи”, которые, как писал А. Блок, „можно мерить фунтами и пудами”.4![]()
Хлебников не ставил перед собой чисто формальных задач. Его работа над словом, его поиски новых выразительных средств языка диктовались всей его концепцией искусства как средства познания мира. “Заумь” — лишь одно из проявлений его творческих поисков и была, в конце концов, оставлена самим поэтом, когда он убедился в её бесплодности. Хотя отдельные попытки создания произведений на заумном языке он делает и в послеоктябрьский период (например, драма «Боги», 1921 г.).
Хлебников не искал сенсаций. Поиски новых форм словесного выражения — часть его общей концепции, стремление найти новые закономерности в процессе речи, обнаружить сокровенный смысл слова.
Как отмечал Маяковский, „штукарство мало интересовало Хлебникова, никогда не делавшего вещей ни для хвастовства, ни для сбыта” (XII, 25). Даже “заумные” стихи Хлебникова принципиально отличны от бессмысленного набора звуков у абстракционистов и авангардистов на Западе: он всегда стремился выразить в своих стихах определённый смысл, тогда как слово в абстракционизме принципиально бессмысленно.
Истоки поэзии Хлебников видел в самом языке, в его истории, в этимологии слова.
Образность первобытного мышления основана была на чувственных и наглядных представлениях. В дальнейшем это образное начало речи с развитием языка постепенно исчезает.
В современном языке слово не выступает в качестве самостоятельного носителя образного начала, на место образности отдельного слова становится теперь контекст. Хлебников стремился воскресить это образное значение слова, передать непосредственность мышления первобытного человека.
Понимание слова было у Хлебникова двойственно. Он видел в слове то чистое звучание, то отвлечённое понятие. В статье «О современной поэзии» (1920) он писал:
Следует иметь в виду, что у Хлебникова в его подходе к слову был ряд различных аспектов: 1) обращение к корню слова и при помощи различных префиксов и суффиксов образование новых слов, напоминающих древнеславянскую речь, 2) звукопись, в которой слова подбирались по своей эмоционально-звуковой выразительности. Это приводило к “зауми”, т.е. к отказу от предметного смысла речи, превращение её в чисто звуковой ряд. И наконец, 3) звёздный или мировой язык (азбука ума) — попытка создания иероглифического языка понятий.
Хлебников сам определил первый этап своей работы над словом как попытку найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно в другое — свободно плавить славянские слова, вот моё первое отношение к слову (2, 9). Это „плавление” слов из одного славянского корня, словообразование путём морфологического видоизменения слов у Хлебникова превращалось из языкового эксперимента в факт эстетический: стихотворение возникало из словесного эксперимента. Так было с известнейшим, программным для Хлебникова стихотворением «Заклятие смехом»:
Из одного корня ‘смех’ Хлебников создал целое стихотворение, использовав щедрое богатство суффиксов, получивших новое, не только словообразующее, но и самостоятельное смысловое значение. «Заклятие смехом» звучало как языческий заговор, и в то же время в нём слышалась лирическая тема, утверждение чистого, радостного смеха усмейных смехачей. Это стихотворение не “заумно”: многочисленные словообразования от корня ‘смех’ образуются посредством суффиксов, свойственных русскому языку.
Создавая свои неологизмы, Хлебников идёт принципиально иным путем, чем Северянин. Его неологизмы восходят к русским и славянским корням, образуются при помощи русских же суффиксов. Словарь Хлебникова, как и весь строй его стихов, принципиально отличен от салонной “красивости”, эффектности ресторанного жаргона Северянина. Его неологизмы суровы, как какие-то древние образования:
В статье о Хлебникове Маяковский подчёркивал значение его работы над словом:
Это было, в первую очередь, создание неологизмов по аналогии с существующими словообразованиями (летьбище — аэродром, летуйка — учение о полётах и т.д.). Во-вторых, попытка создать всеславянский язык путём сопоставления сходно звучащих славянских слов, пользуясь при этом архаическими, не применяемыми в современном языке суффиксами:
По поводу произведений, основанных на словообразованиях, составных эпитетах, своего рода архаическом “корнесловии”, Хлебников писал:
За фонетической оболочкой слова он стремился открыть то общее значение, ту лексико-семасиологическую основу, которая давала бы “родовое”, целостное обозначение предмета. Его он видел в корне слова. Экспериментируя с корнем слова, Хлебников исходил из посылки, что каждое новое словообразование создаёт “внутреннюю форму”.
В статье «Курган Святогора» (1908) он настаивал на праве словотворчества:
Хлебникова привлекает поэтическая этимология сходно звучащих слов и корней:
Фонетическое сходство толкало Хлебникова на установление смысловой и этимологической близости совершенно разных слов, сталкивая и обогащая их привычные значения.
Обращение к прошлому, к пережиточным формам языка нередко приводило Хлебникова к созданию искусственных архаических слов, как бы заимствованных у “архаиста” А. Шишкова. Так, он посылает А. Кручёных список театральных терминов (для пьесы последнего «Победа над солнцем»), который как две капли воды напоминает „славенские” слова Шишкова, заменяющие галлицизмы: ‘представление’ → созерцины, ‘фарс’ → скукобой, ‘опера’ → воспева, ‘драма’ → дееса или говоряна, ‘актёр’ → игрец и т.д., ‘зритель’ → созерцаль или зенконял (5, 299–300).
В творчестве Хлебникова постоянно сочетаются неологизмы и архаизмы, да и самые неологизмы нередко образуются по типу древних, церковнославянских “моделей”: так, в «Образчике словоновшеств в языке», помещённом в «Пощёчине общественному вкусу», подавляющее большинство примеров словоновшеств создано по образцу старославянских слов: летавица ← ‘плясавица’, летчий ← ‘кравчий’, летава ← ‘держава’, летины ← ‘именины’ и т.д. (5, 253–254).
Неологизмы занимают в стихах Хлебникова особенно большое место. Такие слова, как любири | дивеса | крылышкуя | сонноги-мечтоги | грустилья | неголи и т.п., расширяли поэтические возможности. Из совмещения значения и суффиксов двух разных слов возникал новый поэтический смысл, неведомый практическому языку: дивеса ← ‘диво’ + ‘небеса’. В этом дивеса заложено значение дива, необыкновенного чуда и в то же время небесной отрешённости. Все эти оттенки значений двух слов проступают в этом одном словообразовании. Конечно, неологизм лишь простейшая и притом довольно искусственная форма обретения новых поэтических значений. В поэзии это обычно осуществляется менее схематично и демонстративно — в контексте, путём сложных смысловых (и фонетических) перекличек.
Как указывал Г. О. Винокур: „‹...› “новые слова” создаются обычным, лишь весьма широко и неоправданно часто применяемым неологическим путём, т.е. с помощью перенесения готовых грамматических категорий (суффикса и проч.) на непривычные для этих категорий готовые же основы”.8![]()
Тот же принцип работы над словом и в чудесном стихотворении «Кузнечик»:
Крылышкуя (глагол от существительного ‘крылышко’ по образцу ‘воркуя’), лебедиво (‘лебедь’ + ‘диво’) создают новую внутреннюю форму слова, новое его значение, необычайно яркое по своей образности. Крылышкуя вызывает представление о взмахах прозрачных золотистых крылышек кузнечика. Хлебников указывал, что в этом стихотворении в четырёх строчках звуки у, к, л, р повторяются пять раз каждый помимо его желания (5, 185). В этом он видит закон свободно текущей самовитой речи (5, 191). Всё стихотворение — это своего рода звуковая миниатюра, с удивительной чистотой и непосредственностью передающая ощущение природы.
С языковой точки зрения неологизм создает особенно углублённое внимание к этимологии слова, как бы собирает в пучок множество значений как его корневой основы, так и присоединенного суффикса (или префикса).
В «Свояси» (1919) Хлебников так определил значение своих экспериментальных вещей:
Хлебников не ограничился словообразованием путём “корнесловия”, оживлением “внутренней формы” слова в результате разложения его на составные части. Обращение к звучанию слова, к его фонетической выразительности повлекло за собою отрыв от смысла, создание заумного языка. Ведь слово есть единство звучания и значения. Отказ от значения слова, обращение к одному лишь звуку, который сам приобретает смысловую нагрузку, имеющую, однако, субъективный и эмоциональный характер, приводил к отказу от общезначимого языка.
Одним из проявлений увлечения звуковой стороной языка является у Хлебникова опыт передачи “языка” птиц. Птичий язык вовсе не рассматривался Хлебниковым как проявление “зауми”. Это — звукоподражание, имитация щебета птиц, которых он смолоду наблюдал и изучал. Это были как бы голоса самой природы. Недаром Хлебников многозначительно назвал свой фрагмент: «Мудрость в силке» (добавив в скобках — «Утро в лесу»); записав (как теперь записывают на пластинку) голоса лесных птичек (славка, вьюрок, овсянка и т.д.):
Появление “зауми” было подготовлено пониманием творчества как интуитивно-подсознательного процесса, как попытки предельно утвердить свободу поэзии от “содержания”, рассматривать её как “чистое” выражение формы. В листовке «Пощёчина общественному вкусу» (1913) объявлялось:
Истоки и примеры этой “зауми” футуристы (в частности, Кручёных и Хлебников) видели в фольклоре, в “заумном” языке сектантов, в детском фольклоре. В сборнике «Трое» (1913) в статье «Новые пути слова» А. Кручёных писал:
Хлебников также пытался оправдать заумный язык, видя пример ему в заговорах и заклинаниях:
Л.С. Выготский, обследовавший вопрос о звуковой символике, убедительно показал, что
“Заумь” у Хлебникова чаще всего осмысляется или общим замыслом и настроением контекста, в который она включена, либо формально-грамматическими аналогиями, помогающими отнести то или иное звукосочетание к сходным грамматическим категориям.
Взять хотя бы такие стихи:
Здесь одни слова легко угадываются, так как фонетические изменения здесь минимальны (хоролева ← ‘королева’), в других случаях помогают определить смысл формально-грамматические аналоги (нагеей ← ‘нагой’ + суффикс е и флексия ей; хотинец ← ‘хотеть’ + суффикс нец (пехотинец) и т.д.). В результате восстанавливается смысловая основа стихотворения, хотя в ряде случаев ещё требуется многое домысливать.
Опыты экспериментирования над словом свидетельствуют о стремлении поэта выйти за пределы бытового языка, найти в самом слове, в его структуре — основу эстетического воздействия.
Хлебников волхвовал со словом. Его “магия слов” исходила из представления об образной, смысловой выразительности звука. Хлебников приписывает звуку постоянное, устойчивое значение, раскрывающее древний смысл, якобы в нём заложенный, видит в нём позвоночный столб слова:
В драме «Боги» (1921), вошедшей в «Зангези», Хлебников создаёт образец заумного языка — язык богов, представляющий опыт “чистого” звучания, не связанного с какой-либо попыткой предметного осмысления. Лишь иногда окрашенность звука в отдалённой степени подражает национальному звучанию того или иного языка. Так голос Велеса основан на использовании у и р:
Создавая свои опыты заумного языка, лишённого предметной основы, Хлебников нередко прибегает к своего рода пояснениям, комментариям, расшифровывающим непонятное значение его звукописи. Так, в сверхповести «Зангези» под заголовком «Звукопись» он помещает следующие стихи:
Заумный язык как язык, лишённый всякого смысла, превращается в простое звучание, перестаёт быть языком, поскольку теряется ключ к его пониманию.
Языковые теории Хлебникова, учение о „слове, как таковом” хотя и имели большое значение для формирования его творческого метода, однако далеко не сводили его творчество к механическому следованию этим теориям. Ведь именно в тех случаях, когда он им следовал, его стихи приобретали чаще всего сугубо экспериментальный характер, теряли то поэтическое очарование и лёгкость, которые отличают лучшие стихи Хлебникова.
В творчестве Хлебникова особенно большую роль играет “поэтическая этимология”, обнажение “внутренней формы” слова:
Хлебников сталкивает слова с разными этимологическими родословными по близости фонетического звучания, которые как бы “возрождаются” из этого столкновения:
Сталкивая омонимические слова, Хлебников искал в них смысловое единство. Звуковая тождественность или близость слов (омоним — наиболее простой и показательный случай), сопоставленных в стихе при „тесноте стихового ряда” (Ю. Тынянов), звуковая общность вызывает и смысловое сближение, пробуждает новые значения. Этот принцип омонимичности, звукового подбора слов, “волнование” над словом — вытекают из веры в “надумное” значение звука, из той особенности языка, которая благодаря неожиданному скрещению слов по звуковому, фонетическому принципу рождает новые значения, новые оттенки.
Этот омонимический принцип построения стихов противостоит синонимическому, когда тема и образ варьируются, уточняются рядом деталей и таким образом выявляются различные оттенки смыслового спектра. Омонимический же принцип порождает неожиданные смысловые ассоциации, подсказанные звуковой перекличкой.
Но нередко у Хлебникова двойное развёртывание лирической темы — по синонимическому и омонимическому принципу.
Стихотворение основано на противопоставлении неми, молчания ночи, темноты — комплексу зари, горения. Здесь два движения: от звёздного неба, ночной тишины — к звучанью зари, к пробужденью души. Эта смысловая линия стихотворения лишена сюжетного раскрытия: образы наплывают в последовательности звуковых, фонетических перекличек, синонимически близких рядов.
Хлебников не знал компромиссов. Если ему представлялось, что в избранном им направлении поисков он нашёл новый путь, то он шёл по нему до конца, не останавливаясь даже перед крайностями. Так было и в его работе над словом. „В его произведениях, — по словам К. Федина, — раскрыта вся лаборатория футуризма, в частности — главная работа этого движения над языком”. Но нельзя согласиться с утверждением К. Федина, что для Хлебникова игра „со словом становится культом, слово — фетишем, а вовсе не выразителем мысли или образа.”13![]()
Самая звуковая форма слова, его смысл, синонимически варьируемый, вырастает из “внутренней формы” слова, как из зерна росток. Таково, например, стихотворение «Зазовь»:
Хлебниковские неологизмы — чаще всего фонетико-семантическая контаминация, представляющая не обычное морфологическое словообразование, а словообразование на основе особого вида семантической связи, которую можно назвать “звукосемантической”. Фонетическое сходство, “звуковой повтор” порождает у него и новые, неожиданные смысловые связи. Так слово ‘манить’ перекликается с такими неологизмами, как манности | обманная | уманной, в данном случае образованных от общего корня ман (манить). Такие строки, как Зазовь сипких тростников // Зазовь зыбких облаков, возникают из фонетической близости сипких и ‘зыбких’. Так получается своего рода “замыкание” общей фонетической цепи, которая рождает смысловой контакт между сходными звукообразованиями.
„Семантическое поле образуется вокруг сильнейших звуковых образов-слов, — отмечается в недавней работе о звукосмысловых связях в поэзии. — И все остальные слова текста вольно или невольно должны входить в сферу их влияния”. Пример этому — стихи Хлебникова, в которых его самовитое слово, лишённое значения, содержит смысл более глубокий и сложный, чем любое одиночное словарное значение. Приобретённый от разных слов и соединённый в одном звучании, он сохраняет семантику этих слов — “смыслодателей”.14![]()
Ритмическая и метрическая повторность делает особенно тесной и “закономерной” эту семантико-фонетическую связь, определяет всю смысловую и фоническую структуру стихотворения. Вместе с тем эта “закономерность” далека от обычного ассоциативного шаблона, предоставляя возможность “примышления”, обогащения образов читателем.
Звуковой повтор, слова, сходные по своему звучанию, приобретают смысловую близость, становятся “звукообразами”, тяготеющими к определённому семантическому центру. Таково стихотворение «Панна пены, панна пены» (вошедшее в поэму «Война в мышеловке»), в котором “звукообразы” играют особенно наглядную роль:
В отличие от музыкально-эвфонического принципа инструментовки стиха, столь характерного для поэтов-символистов, принцип “звукообраза” у Хлебникова основан на семасиологизации, осмыслении определённого звукоряда.
Осмысление звуковой стороны слова метафорично, рождает необычные образы и ассоциации, создаёт “надпонятийный” смысл, подобный музыкальным ассоциациям (в данном случае впечатление от моря, от волн).
Хлебников достигает необычайной виртуозности в этом изображении звуком:
Это выдвижение на первое место звука не только подчёркивает звуковую “инструментовку” стиха, но и выдвигает новые смыслы, “внутреннюю форму” слова. Благодаря этому создается обязательность образа, в котором смысловые ассоциации определяются звуковым сродством.
Даже в таких произведениях, в которых Хлебников не стремился к нарочитому отбору омонимических слов, сохраняется его тяга к омонимии. Так, в «Лесной тоске»:
Хлебников видел в омонимическом сталкивании слов ключ к пониманию внутреннего смысла произведения. Поэтому он нередко прибегает к стихам-перевертням, палиндромам, которые читаются одинаково слева направо и справа налево:
Стих Хлебникова нередко затруднён многочисленными ритмическими и метрическими перебоями и сдвигами. Он противостоит как гладкости стиха эпигонов классической поэзии XIX века, так и культу безупречной формы поэтов акмеизма и символизма.
Его прежде всего отличает свобода композиционных и метрических форм. Хлебников лишь в очень редких случаях прибегает к строфической композиции, как правило, создавая сплошной поток повествования, пользуясь синтаксическим соединением отдельных стихов в сложные композиционно-ритмические сочетания.
Хлебникову чужда строфическая замкнутость, нарушающая свободный поток ассоциаций, столь характерный для его поэтики. Также изменчиво и разнообразно ритмическое течение стиха, меняющего свое строение: то классический четырёхстопный ямб, то переходящий в дольник, в свободный стих, не подчинённый правильной классической метрике.
Стих Хлебникова всё время разнообразится рядом “сдвигов”. Вот хотя бы примеры таких синтаксических сдвигов из поэмы «Вила и леший»:
Попробуйте “правильно” построить фразу (мотылёк, искавший отдых) и все очарование этого стиха исчезнет. Или:
Восприятие образа у Хлебникова нередко затруднено синтаксическими инверсиями, сложностью построения фразы:
Поэтика “сдвига” предопределена стремлением к максимальной свободе стихового слова, поисками новых ритмических возможностей стиха. Эти поиски идут в двух направлениях: во-первых, это деформация классического метрического стиха, нарушение (“сдвиги”) размера (пропуск ударного слога, пропуск стопы, включение отдельных строк, переходящих в другой размер). Другой путь — создание свободного акцентного стиха, то есть такого стиха, который не подчинён метрической упорядоченности и нередко подчёркнут каламбурной рифмой.
Во втором «Садке судей» Хлебников хотел поместить статью «Песни 13 вёсен», в которой говорил о значении детских стихов и защищал “погрешности” в метрической системе, видя в них проявление подлинной свободы стиха:
Детскость, наивность в восприятии мира сказалась как в структуре образов, так и в самом синтаксисе. Хлебников не стремился к редкостным тропам, а передавал неправильными грамматическими формами детскость сознания. Устами белый балагур | Косою чёрная с боков | Я глазами в бровях ясен | Хребтом прекрасная сидит | Ах, становище земное // Дней и бедное длиною и т.д. Здесь всюду нарушена нормальная синтактико-грамматическая структура фразы, неправильно падежное согласование, нарушено синтаксическое равновесие.
Ритмическая свобода, отказ от метрической правильности — вот сущность вольного размера, которую Хлебников видел в стихах 13-летней девочки и сделал основой и своего стиха:
Хлебников создавал новую интонационно-акцентную систему стиха, подготовляя ту реформу стиха, которая была осуществлена Маяковским; в произведениях, написанных “свободным стихом”, приобретает особое стихообразующее значение составная, каламбурная рифма. Хлебников ввёл рифмовку, не подчинённую строфической и метрической закономерности, не опасаясь сочетать в одном и том же произведении разные принципы рифмовки. Так, он обычно не следит за строгим чередованием мужских и женских рифм, рифм точных и ассонансов. У него рядом может стоять и такая необычная составная рифма, как вдов вод — овод, и ассонансы: воздух — худ зов (перевертень), нечет — течений («Пен пан»). Чаще всего в рифму попадают наиболее значительные в смысловом отношении слова, определяя композицию стиха.
Рифма у Хлебникова нередко является ведущим началом стиха, притягивая основной смысловой и ритмический акцент:
У Хлебникова рифма связана с общей тенденцией к омонимическому принципу построения стиха; слово поворачивается новой смысловой гранью, его звучание приобретает ещё не освоенный смысл. Ляг бы и лягвы | ласточки и вас тоски — своей звуковой схожестью устанавливали связи “поверх” обычных ассоциаций.
Употребление таких составных, “каламбурных” рифм весьма характерно и важно для Хлебникова: отход от упорядоченно-правильного метрического стиха, разностопность и метрическая “разномерность” стиховых строк приводили к повышению роли рифмы как стихообразующего начала.
В послеоктябрьском творчестве Хлебникова “свободный стих” занял ещё большее место («Труба Гуль-муллы», «Настоящее», «Прачка»). По сравнению с ранними опытами “свободного стиха”, стихи революционных лет ритмически и интонационно богаче, разнообразнее:
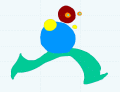
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 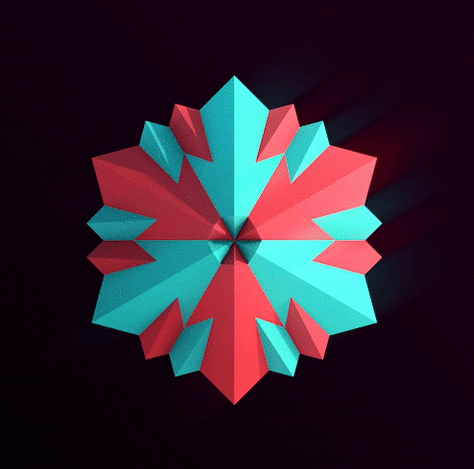 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||