Саломон Мирский
Восток Велимира Хлебникова
Окончание. Предыдущие главы: 
4. Хлебниковская концепция времени и Востока
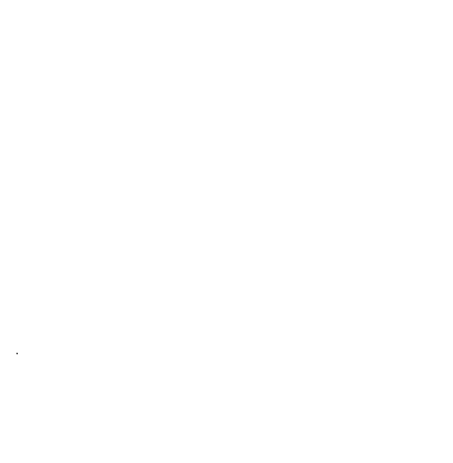 нение Лощица и Турбина о неразрывной связи представлений Хлебникова о времени и Востоке мы уже приводили.1
нение Лощица и Турбина о неразрывной связи представлений Хлебникова о времени и Востоке мы уже приводили.1 Основной упор авторы делают на метафорической связке время — камень – дерево. По их мнению, в камне — разбросанным по степи языческим идолам (каменным бабам) — „запечатлено прошлое Востока”, в то время как дерево следует понимать как о „свидетеля длительности, очевидца событий”.2
Основной упор авторы делают на метафорической связке время — камень – дерево. По их мнению, в камне — разбросанным по степи языческим идолам (каменным бабам) — „запечатлено прошлое Востока”, в то время как дерево следует понимать как о „свидетеля длительности, очевидца событий”.2
Это определение несовершенно и с точки зрения метафоры как таковой (далеко не каждый камень и отнюдь не любое дерево связаны у Хлебникова с восточной тематикой), и в отношении его концепции времени, важнейшая особенность которой — неразличимость прошлого, настоящего и будущего как независимых аналитических категорий.
Явным контрастом утверждению Лощица и Турбина оказывается и стремление Хлебникова к новому, определённо связанному с восточным мировоззрением, пониманию времени, не знающего абстрактного разделения на прошлое, настоящее и будущее.
Западную концепцию времени можно в общих чертах описать как одномерную, линейную и эволюционную — именно это и называется историческим временем.3 Понимание же времени на Востоке, полагает Уильям С. Хаас,
Понимание же времени на Востоке, полагает Уильям С. Хаас,
не имеет внутренней связи с эволюцией и эволюционным временем. ‹...› Миры возникают из Брахмы в не вообразимых, но конечных эонах, а затем в него же и возвращаются — и так повторяется бессчётно. Если восточная временнáя структура кому-то нравится, он должен знать, что игнорирует эволюцию, понимаемую как прогресс в подлинном смысле этого слова.
4
Хлебников выстраивает продуманную до мелочей систему, посредством которой западная концепция линейного времени отменяется. Свободное перемещение по оси времени и представление о циклическом ходе истории, вместе взятые, дают возможность прошлому проникать в будущее и наоборот. В письме А. Кручёных от 31 августа 1913 г. Хлебников писал:
‹...› то, что позже, было бы раньше. Вначале старики, потом младенцы. ‹...› Кто молод, тот отче людей.
6-2: 157–158
Только последовательно осуществляемая “инверсия” временнóй перспективы позволяет поэту переживать то, что уже произошло (прошлое), как то, что наступит (будущее):
Мы пришли к вам из будущего, из дали столетий.
6-1: 269
Мы — это, разумеется, “мы, поэты” (в данном случае, Велимир Хлебников и его друг Григорий Петников), ибо в построенной Хлебниковым системе исполнительная власть принадлежит не только учёным и правителям, но и пророкам.5 Поэт Зангези говорит о себе: Я ведь умею шагать / Взад и вперёд / По столетьям (5: 346). Так миф овладевает будущим. В теоретическом цикле «Кол из будущего» (между 1914 и 1922) эта идея выражена предельно ясно:
Поэт Зангези говорит о себе: Я ведь умею шагать / Взад и вперёд / По столетьям (5: 346). Так миф овладевает будущим. В теоретическом цикле «Кол из будущего» (между 1914 и 1922) эта идея выражена предельно ясно:
‹...› сказки — память старца или нет? Иль детское ясновидение? Другими словами, я думал: потоп и гибель Атлантиды была или будет? Скорее, я склонен думать — будет.
6-1: 238
Следующим шагом является полная отмена устоявшихся представлений о времени. Об этом говорит Хлебников в письме от 14 марта 1921 г. художнику П. Митуричу (6-2: 213). Особенно интересен в этом отношении «Взлом Вселенной» (1921):
И понял вдруг: нет времени.
На крыльях поднят как орёл,
я видел сразу, что было и что будет,
‹...›
И стало ясно мне
Что будет позже.
И улыбался улыбкой Будды
4: 77
Отказ от концепции линейного времени, включая эволюционную локомоцию, отнюдь не означает разрушения у Хлебникова исторического чувства. Следуя предложенной Ю. Лотманом типологии текстов по признакам “начала” (сотворения мира, рождения культуры) или “конца” (эсхатологические тексты)6 можно утверждать, что хлебниковское понимание того, что Лотман называет „правильным историческим развитием”,7
можно утверждать, что хлебниковское понимание того, что Лотман называет „правильным историческим развитием”,7 не предусматривает: ход истории для него не “прогрессивный”, но и не “регрессивный”. Скорее, Хлебникову близка сформулированная Лотманом альтернативная — заимствованная у Руссо — точка зрения:
не предусматривает: ход истории для него не “прогрессивный”, но и не “регрессивный”. Скорее, Хлебникову близка сформулированная Лотманом альтернативная — заимствованная у Руссо — точка зрения:
‹...› идеальный порядок настоящего времени не заскакивает вперёд и не отстаёт. Такой порядок — идеальная норма, скрытая в природе вещей — служит отправной точкой не хронологически, но типологически.
8
Интерес Хлебникова к феномену времени нельзя отделить от его воззрений на историю человечества: её события для поэта суть законы времени в действии. Исторические изыскания неизбежно привели его к вниканию в азиатские аспекты прошлого России. Итогом рассчитанной на будущее исследовательской работы оказывается выдуманное Хлебниковым идеальное государство — восточное, по сути.
Итак, законами времени Хлебников надеялся оправдать свои претензии на научную объективность. Но поскольку в мире, живущем по этим законам, величайшее зло — война — не может быть устранено (вооружённая борьба раз и навсегда заложена в цикле война – победа – поражение – возмездие), Хлебников искал способ их отмены. Таковым оказалось пророчество. Вооружённый математическими формулами учёный, в конце концов, уступает место пророку. Наиболее пригодной для произрастания пророческого дара средой Хлебников считал Восток.9
5. Хлебниковская утопия и Восток
5.1 Персия: пророчество и поэтическая утопия
Хлебников, безусловно, был историком — т.е., по выражению Фридриха Шлегеля, „пророком вспять”.
10
Но так как историю он неизменно мифологизировал, а миф образует „постоянную структуру, охватывающую прошлое, настоящее и будущее”,
11
таковая — переворачивая формулировку Шлегеля — может оказаться “историей задом наперёд”.
Тема пророчества занимала Хлебникова смолоду. Когда ему было девятнадцать (1904), поэт написал в автобиографической заметке «Пусть на могильной плите прочтут...»:
Он вдохновенно грезил быть пророком
6-1: 7
Хлебников видел себя пророком в двух отношениях, а именно: глашатаем поэтического языка будущего и первооткрывателем законов времени, которые позволяют предсказывать будущие события. Приблизительно в 1912 году он писал в статье «Учитель и ученик»:
не следует ли ждать в 1917 году падения государства?
6-1: 43
Весной 1922 г., незадолго до своей смерти, он делает запись:
Чистые законы времени одинаковы и для звёзд, и для сдвигов земной коры, и для граждан общежития людей.
На основании таких уравнений довольно легко предсказывать.
Вот удостоверение, выданное ‹мне› в качестве стряпчего Морполитбюро в Баку.
Удостоверение
Настоящее выдано тов. Хлебникову Виктору в том, что он 17 декабря 1920 года читал в коллегии лекторов университета «Красная Звезда» доклад «Опыт построения чистых законов времени в природе и обществе», причём в этом докладе указывал, что 21 января 1921 года должно возникнуть где-либо новое Советское Правительство.
Заведующий морским университетом «Красная Звезда»
Бородин.
Баку, 2 марта 1921 г.
Подпись руки тов. Бородина удостоверяет
Начальник общего отдела В. Гуцало
13 марта 1921 г.
С подлинным верно:
Старший делопроизводитель финотдела В. Колесников
13 марта 1921 г.
И на самом деле 21 января была признана новая Советская Республика Азербайджанская, столицей которой был Баку; этот день был днём рождения союзного государства.
6-1: 286
В своих «Предложениях» (1915–1916) Хлебников пишет: Закончить великую войну первым полётом на луну (6-1: 245), а в письме Николаю Бурлюку (2 февраля 1914 г.) пророчит поединок между итало-германским союзом и славянами (НП: 368).
Учитывая пристальный интерес Хлебникова ко всему восточному, неудивительно, что он считал родиной истинного пророчества Восток. Будда, Мухаммед, Маздак, Заратустра, Ашока, Мирза-Баб, а также другие восточные пророки и духовные учителя возникают в его стихах вновь и вновь.
Именно такой настрой сопутствовал его непродолжительному пребыванию (апрель 1921) в Персии с частями Красной Армии, высадившимися в Энзели (ныне Пахлеви, провинция Гилян) на юго-западном побережье Каспийского моря.12
Из письма сестре Вере, которое Хлебников отправил в день прибытия в Энзели (14.04.1921), узнаём, что, готовясь к поездке, он занялся изучением Мирза-Баба, персидского пророка, и о нём буду читать здесь для персов и русских: «Мирза-Баб и Иисус» (6-2: 207). В письме говорится: Покрытые снежным серебром вершины гор походили на глаза пророка, спрятанные в бровях облаков (6-2: 206). “Профетическая” часть письма заканчивается словами: Персам я сказал, что я русский пророк (6-2: 207). Это эксцентричное высказывание Хлебникова свидетельствует о его убеждённости в том, что Персия — земля, где пророчество ещё “у себя дома” и, следовательно, называющий себя пророком имеет авторитет. Такая концепция Персии проливает свет на тему пророчествования, лейтмотив которой проходит едва ли не через все произведения персидского цикла. Отметим, прежде всего, поэму «Труба Гуль-муллы» (3: 292–317), начатую в персидском походе и завершённую по возвращении, в Пятигорске. Уже начальные строки представляют появление поэта в Персии как прибытие пророка:
Ок!
Ок!
Это горный пророк
Любопытную интерпретацию этого возгласа предложил иранист Василий Никитин,
13
который в письме В. Маркову от 19.1. 1956 высказал мнение, что
Ок! Ок! может оказаться вариантом произношения „Хак! Хак!” — „обычного восклицания персидских дервишей”,
14
означающего ‘Истина’ или ‘Бог’. Предположение проф. В. Никитина приобретает ещё большее правдоподобие по прочтении начала 2-й главы (3: 300):
Ок!
Ок!
Это пророки
Сбежалися с снежных гор,
Сбежалися с гор
Встречать чадо
Хлебникова,
Ему радуясь!
„Саул, адам
Веры севера.
Саул тебе
За твою звезду ‹...›”
Восклицание Ок! Ок! — индикатор самоидентификации поэта в «Трубе Гуль-муллы». Им же, оказывается, пользуются и персы. Очевидно, вкладывая в этот возглас тот же смысл, что и русский пророк (см. выше письмо к сестре Вере). Ок! Ок! — своего рода пароль. Церемонию взаимного признания продолжает ликование, в котором участвует вся природа Персии:
„Наш!” — сказали священники гор,
„Наш!” — запели цветы.
‹...›
„Наш!” — запели дубровы и рощи.
3: 301
Прибытие Гуль-муллы (см. 3: 479: перс. Гол-е-Моула — Цветок Владыки, народное название странствующих “поющих дервишей”, непременных участников уличной, площадной, базарной жизни), таким образом, оказывается возвращением пророка на свою родину. Это сквозная для большинства персидских произведений Хлебникова тема:
Видите персы — вот я иду
По Синвату к вам.
Мост ветров подо мной.
Я Гушедар-мах,
Я Гушедар-мах, пророк
Века сего
2: 132
Я видел юношу пророка,
Припавшего к стеклянным волосам лесного водопада.
2: 190
Именно об этом чувстве родства, более того — единения с людьми (и пророками) Персии Ю. Тынянов сказал:
«Труба Гуль-муллы» не даёт Востока под взглядом любителя-европейца: ни снисходительности, ни излишнего уважения. Вплотную и вровень.
15 Ю.Н. Тынянов. О Хлебникове
Ю.Н. Тынянов. О Хлебникове
Функция восточного пророка, каким он оказывается в поэзии Хлебникова, с самого начала предельно ясна: он грядет с востока, чтобы положить конец величайшему бедствию человечества — войне. Пацифистская поэма «Война в мышеловке» (между 1915 и 1917, т.е. задолго до хлебниковского “путешествие в Персию”), содержит весьма красочные описания зверств войны и видение будущего мира, в котором подобное не повторится. И это видение предваряется отсылкой к Будде и Аллаху:
Я верю, я верю, что некогда „Майна!”
Воскликнет Будда иль Аллах.
3: 182
С его склонностью к языковой эклектике, Хлебников-пророк (т.е. говорящий его устами бог Востока) использует матросский язык: „Майна!” — речевой сигнал на опускание груза во время портовых работ.16 Для путейца языка „Майна!” обретает смысл отмены, чем-то вроде „Долой войну!” (церковнослав. горé означает движение вверх, дóлу — вниз). Оказывается, в грезящемся поэту будущем война будет поставлена вне закона с помощью мудрости Востока (учений Будды иль Аллаха).
Для путейца языка „Майна!” обретает смысл отмены, чем-то вроде „Долой войну!” (церковнослав. горé означает движение вверх, дóлу — вниз). Оказывается, в грезящемся поэту будущем война будет поставлена вне закона с помощью мудрости Востока (учений Будды иль Аллаха).
Но для этого Хлебников должен решить главную свою задачу — создать всемирный общий язык, что логически означает упразднение всех ныне существующих языков. И хлебниковский ориентализм играет в этом важную роль.
5.2. Мировой язык и поэтическая утопия
Снова и снова Хлебников возвращается к мысли о том, что единственный способ избежать мировой войны — создание мирового языка. В его записной книжке находим риторический вопрос: что лучше — всемирный язык или всемирная бойня? (6-2: 95)
Идее создания мирового языка предшествовала мысль о всеславянском языке. В письме к Вячеславу Иванову (31 марта 1908 г.) молодой Хлебников признаётся:
я помнил о “всеславянском языке”, побеги которого должны прорасти толщи современного, русского.
6-2: 112
Тогда же Хлебников знакомится с с идеями хорватского мыслителя Юрия Крижанича (1617–1683), ратовавшего за создание единого для всех славян языка.17
В 1915–1916 годах идеал поэта уже не панславянский язык, а общий письменный язык арийцев, научно построенный (6-1: 245)
С годами границы хлебниковской языковой утопии ещё более расширяются. Панславизм и язык арийцев уступают место идее мирового языка. В упомянутой выше поэме «Война в мышеловке» мир без международных конфликтов (лаев) сочетается с введением единого языка, общего для всех человеческих рас:
И чёрные, белые, жёлтые
Забыли про лаи и про наречья.
1: 355
Мотив единого языка сопровождает почти каждое произведение, где предъявлена — как правило, космическая — программа будущего человечества. В поэме «Ладомир» читаем:
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор.
3: 236
Наличные языки объявляются вредными (Умные языки уже разъединяют. 6-1: 175), и подлежат упразднению как рудимент, коготь на крыле птиц (ненужный остаток древности, коготь старины) (6-2: 85).
Хлебниковское учение о мировом языке зиждется — по крайней мере, в главнейших аспектах — на идеалах Востока. В автобиографической повести «Ка2» он пишет о волнующем общеазиатском разуме, который должен выйти из тупиков наречий (5: 154). По этому поводу В. Марков заметил:
Однако это утверждение требует оговорок. Хлебников так и не разработал стройной, жизнеспособной теории мирового языка; скорее, его интересовали некоторые возможности реализации этого идеала, отнюдь не все из которых питаются восточной мудростью. Ниже приведены основные направления поисков Хлебникова.
5.2.1. Поиск общего письменного языка
В статье «Художники мира!» (1919) Хлебников ратует за общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника солнца (имеется в виду планета Земля) (6-1: 153).
Показательно, что за образец берётся опыт народов Китая и Японии, которые говорят на сотне разных языков, но пишут и читают на одном (там же). Общий письменный язык
будет спутником дальнейших судеб человека и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые начертательные знаки помирят многоголосицу языков.
6-1: 154
5.2.2. Буква и звук как медиаторы содержания
Решению этой задачи посвящена бóльшая часть произведений Хлебникова.
19
В «Свояси» он формулирует свой проект как попытку
найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки ‹...›
Путь к мировому заумному языку (1: 8). Эту задачу Виктор Гофман излагает следующим образом:
Хлебников не стремился к отрыву и обособлению звуковой (и графической) материи языка как формы от смысла как содержания, но, напротив, всё его внимание было направлено на борьбу с исторически сложившимся разрывом между языковой техникой выражения и выражаемым смыслом, между звуковой формой и смысловым содержанием речи. Другими словами, Хлебников прежде всего был озабочен вопросом преодоления “произвольности” языкового знака, который для современного языкового сознания выступает как мотивированная только традицией, “условная” форма, тогда как на самом деле
генетически он неразрывно и непосредственно связан с мышлением, не “произволен” и не “условен”. Хлебников мечтал об абсолютном преодолении противоречия между языком как техникой и языком как идеологией и, следовательно, о возможности непосредственного подлинно адэкватного выражения мыслей, а тем самым об организации международного языка. И в этом уже сказался его лингвистический утопизм.
20 В. Гофман. Языковое новаторство Хлебникова
В. Гофман. Языковое новаторство Хлебникова
То, что К. Леви-Стросс говорит об античных философах, в полной мере относится и к Велимиру Хлебникову:
Древние философы говорили о языке точно так же, как мы сейчас относимся к мифологии. Они утверждали, что в каждом языке определённые группы звуков соответствуют определённым значениям, и отчаянно пытались понять внутреннюю необходимость, связывающую эти
значения и эти
звуки.
21
2.3. Число как основная единица мирового языка
Эта утопическая теория заимствована из немецкого романтизма — из сочинений Новалиса, если быть точным.
22 Новалис, Пифагор, Аменофис IV предвидели победу числа над словом
Новалис, Пифагор, Аменофис IV предвидели победу числа над словом (6-1: 108), — писал Хлебников в
учёном труде «Время — мера мира» (1914–1916). Для Хлебникова эта идея была тесно связана с Востоком.
В «Письме двум японцам» (1916) перечисление тем, которые должны стать предметами обсуждения Азийского съезда, завершается постановкой вопроса о Языке Чисел Венка Азийских Юношей (6-1: 256). Для поэта числа — это имена вещей (числоимена), язык чисел — числоречь, благодаря которой Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах (6-1: 256).23 При этом число, т.е. основная единица этого языка, освящено мудростью Востока. В «Царапине по небу», например, грозный монгол хан Батый ходит числу Архимедову / Молиться как богу (3: 268). В 1920 г. Хлебников прочитал в Харькове доклад, озаглавленный «Коран чисел» (6-2: 200).
При этом число, т.е. основная единица этого языка, освящено мудростью Востока. В «Царапине по небу», например, грозный монгол хан Батый ходит числу Архимедову / Молиться как богу (3: 268). В 1920 г. Хлебников прочитал в Харькове доклад, озаглавленный «Коран чисел» (6-2: 200).
Для Хлебникова, как и для Новалиса, „настоящая математика дома только на Востоке”; в Европе она „выродилась в простую технологию”.24
Экхард Хефрих в книге о Новалисе (гл. «Числа и слова») пишет:
Любую числовую мистику следует понимать как восточную математику, будь она пифагорейской, неоплатонической или каббалистической направленности. Но где бы вы ни искали этот Восток, действительно его можно найти только в утопии грядущей империи.
25
Следующая формулировка Хефриха может, наконец, дать представление о внутреннем механизме, который побудил Хлебникова вывести мировой язык будущего из математики:
“Чудо” математики — инструмента, всё еще способного к бесконечному совершенству — заключается в отношении между знаком и означаемым.
26
Именно в математике упраздняется различие между означающим и означаемым (в смысле категорий де Соссюра). Таким образом, язык, полученный непосредственно из математики, должен через соединение знака (означающее) и значения (означаемое) точно соответствовать высказыванию (выбору, по де Соссюру)27 и, следовательно, должен быть понятен всем народам, независимо от их языков.
и, следовательно, должен быть понятен всем народам, независимо от их языков.
Хлебников стремится использовать этот универсализм математики для создания своего мирового языка: ведь осязание числа есть великий переводчик не имеющих никакого родства языков (5: 90). Или в другом месте: слова суть лишь слышимые числа нашего бытия (6-1: 24).
5.2.4. Отмена языка
Следующим шагом на пути к объединению человечества оказывается полная отмена языка. Состояние совершенной гармонии связано с априорным и ничем не опосредованным взаимопониманием между всеми живыми существами — как людьми, так и животными. Мечта о возвращении (в романтическом смысле, заметьте, т.е. “возвращении вперёд”
28
) к исходному состоянию, к доязыковой стадии человечества определённо высказана уже в ранней
сверхповести «Дети Выдры»:
И к быту первых дикарей
Мечта потомков полетит,
И быт без слов — скорей, скорей! —
Она задумчиво почтит.
5: 260
Парадоксальность этого желания очевидна: поэт воображает “времена без слов”. Объяснение этому, вероятно, следует искать во влиянии на Хлебникова идей немецкого романтизма.
Для Хлебникова отрыв человека от природы, который немецкие романтики мечтали преодолеть, представляет собой “зазор” между вещью и её именем; отменив язык, можно было бы устранить эту неслиянность и, таким образом, восстановить гармонию человека и природы.
Восток с его понятием единой и неделимой природы представлялся поэту гораздо более близким к осуществлению этого идеала, нежели “рационалистический” Запад, всё дальше и дальше отчуждающий себя от природы.
С этой точки зрения понятно, почему нередко встречающейся у Хлебникова ситуации непосредственного общения человека и животных он придаёт восточный колорит. В рассказе «Есир» таков разговор без слов между индийцем Кришнамурти и лебедем (5: 190). Главный герой рассказа, волжский рыбак Истома, взятый в плен азиатскими разбойниками и проданный в Индию, со временем научился понимать сложенный из сосновых игл муравейник (5: 198).
Как и следовало ожидать, Персия тоже оказывается страной, где бытует язык общения людей с другими живыми существами. Центральное место стихотворения «Ночь в Персии» — мистическое взаимопонимание поэта и жука:
Жук, летевший прямо с чёрного
Шумного моря,
Держа путь на меня,
Сделал два круга над головой,
И, крылья сложив, опустился на волосы.
Тихо молчал и после
Вдруг заскрипел,
Внятно сказал знакомое слово
На языке, понятном обоим.
Он твёрдо и ласково сказал своё слово.
Довольно! Мы поняли друг друга!
2: 214–215
То же самое относится к индийцу и лебедю в «Есире»: оба понял друг друга (5: 190).
Представленные здесь пути хлебниковских поисков мирового языка — создание общечеловеческой письменности, единство которой должно достигаться либо раскрытием универсального значения единиц алфавита, либо числами (математика), и, наконец, растворение языка как высшей ступени гармонии и единения с природой — создают условия для раскрытия смысла важного в хлебниковской поэзии символа Единой книги.
5.3. Единая книга
Хотя значение этого символа выходит за рамки восточной тематики в поэзии Хлебникова, попытка осмыслить его представляется — пусть и в очень ограниченном контексте — оправданной, поскольку символ этот довольно часто встречается в стихотворениях “восточной” направленности.
В письме к Вячеславу Иванову (10 июня 1909 г.), содержащем текст «Зверинца» (5: 41–46), Хлебников писал: верблюд знает сущность буддизма (6-2: 121).29 Это самое раннее из дошедших поэтическое высказывание Хлебникова о продукте человеческого разума как знаке скрытой мудрости природы. С годами метафора книги в поэзии Хлебникова приобретает самостоятельный и сложный характер, но главное остаётся неизменным: великую книгу природы (5: 199) прочтёт лишь тот, кто потрудится выучить язык знаков, которыми эта книга написана.
Это самое раннее из дошедших поэтическое высказывание Хлебникова о продукте человеческого разума как знаке скрытой мудрости природы. С годами метафора книги в поэзии Хлебникова приобретает самостоятельный и сложный характер, но главное остаётся неизменным: великую книгу природы (5: 199) прочтёт лишь тот, кто потрудится выучить язык знаков, которыми эта книга написана.
Весь видимый мир — книга для поэта: ночное небо (5: 345), человеческое лицо (5: 72), болото (5: 231) или город (5: 111). В стихотворении «Азия» эта метафора обретает космический размах: земной шар извне — та же книга.
Ты поворачиваешь страницы книги той,
Где почерк был нажим руки морей
2: 112
Метафорическая книга противопоставляется типографской, при этом последняя безнадёжно проигрывает: лучшая книга — белые страницы — книга природы (5: 199).
В стихотворении «Песнь мне» (1911), написанном спустя два года после «Зверинца», неприятие бумажной книги открыто признаётся:
В век книг
Воскликнул я: „Мы только зверям
Верим!”30 3: 36
3: 36
Отказ от книги как таковой понятен лишь в свете хлебниковской теории языка. Поскольку изобретение Гуттенберга представляет собой, скажем так, объективированный — победивший, поглотивший соперников — язык, надо объявить книгам войну (и быт без слов — скорей, скорей! — 5: 260). Книги, как и земли наречья, разделяющие людей, объявляются подстрекателями войны. В поэме «Только мы, свернув ваши три года войны...» (1917) воюющие государства сравниваются с книгоиздательствами:
‹...› мы отрицаем господ,
Именующие себя правителями,
Государствами и другими книгоиздательствами
И торговыми домами «Война и К°»
3: 172
Речь идёт уже о непосредственной борьбе с книгами — мотив их сожжения возникает в творчестве Хлебникова вновь и вновь.
В «Разговоре двух особ» (1912) читаем: Я тоскую по большому костру из книг (6-1: 62). Шесть лет спустя, в точно зафиксированный Хлебниковым день (26 января 1918 г.), он делится личным опытом интеллектуальной и эмоциональной реакции на реальное сожжение книги. Тогда, как поясняет Хлебников в автобиографической заметке «Никто не будет отрицать...» (5: 176–178), он читал роман Флобера «Искушение святого Антония», и внезапно погас свет. Поэт вырвал из книги страницу, зажёг и прочитал следующую, которая, в свою очередь, стала жертвой огня. В итоге вся книга обратилась в пепел. Процесс описывается следующим образом:
Имя Иисуса Христа, имя Мухаммеда и Будды трепетало в огне, как руно овцы, принесённой мною в жертву 1918 году.
5: 178
Спустя ещё два года было написано стихотворение «Единая книга», где ритуал сожжения описан так:
Я видел, что чёрные Веды,
Коран и Евангелие
И в шёлковых досках
Книги монголов
Из праха степей,
Из кизяка благовонного,
Как это делают
Калмычки зарёй,
Сложили костёр
И сами легли на него
3: 277
Целью этого церемониального подношения, устроенного по образцу восточного ритуала, является ускорение прихода Единой книги — уже известной нам книги природы, и она призвана заменить всё, написанное человеком:
Белые вдовы в облако дыма скрывались,
Чтобы ускорить приход
Книги единой.
3: 277
В главах 5.2.3 и 5.2.4 мы предположили, что на Хлебникова могли оказать влияние сочинения Новалиса; мотив сожжения книг с некоторой вероятностью восходит к нему же. Во второй главе («Природа») «Учеников в Саисе», переведённых на русский язык другом Хлебникова Петниковым, Гиацинта исцеляет сожжение книги,31 уже проверенный им на личном опыте способ.32
уже проверенный им на личном опыте способ.32 Хлебников так описывает последствия сожжения книги Флобера:
Хлебников так описывает последствия сожжения книги Флобера:
Только обратив её в пепел и вдруг получив внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то враг.
5: 178
Представляет интерес связь мотива сожжения книги с содержанием романа «Искушение святого Антония» самим по себе. Оглядываясь назад, Хлебников считал, что сожжение книги было символическим ритуалом, путём к внутренней свободе через победу над врагом. В романе Флобера одно из величайших искушений святого Антония — холодный рационализм, которым его пытается прельстить дьявол (Илларион). В сожжении книги Хлебниковым можно усмотреть символическое повторение отрицания святым нечистой силы: книга — дар “дьявольского разума”. Святой спасён лишь после того, как устоял, между прочим, от искушения признать за истину чужие религии, т.е. вражеские книги.
У Хлебникова в «Единой книге» налицо “новая Библия”, заменяющая принесённые в жертву огню священные писания мировых религий, и эту великую книгу природы будут читать и понимать все без исключения:
Род человечества — книги читатель
А на обложке — надпись творца
3: 278
Здесь не место, но было бы любопытно исследовать вопрос о связи антиинтеллектуализма Хлебникова (быт без слов) и его стремления к первобытному растворению в природе. Но что касается этой работы, для мотива сожжения книг представляется весьма показательным изображение этого акта как восточного ритуала. В «Единой книге» аутодафе книг поверяется огненным ритуалом калмычек: как это делают калмычки зарёй (3: 277)
У Хлебникова царство будущей (и прежней, разумеется) гармонии всегда связано с Востоком, а огонь — та стихия, очищение посредством которой ведёт к полному слиянию противоположностей33 и объединяет все „книжные религии”34
и объединяет все „книжные религии”34 — является в то же время пламенем именно восточного костра.35
— является в то же время пламенем именно восточного костра.35
Разумеется, “убийца типографий” написана совершенно другим языком, нежели прочие книги. Её персонажами оказываются и птицы в небе (Застыли сказочными птицами / Отцов письмена в поднебесье — 2: 324), и дома персидской деревни (казались сакли / Буквами нам непонятной речи — 2: 139), и расцветка лапок жабы (Внимательно читаю весенние мысли бога на узоре пёстрых ног жабы — 2: 183), и отдыхающие волы (Волы лежали в степи подобно громадным могильным камням, темнея концом рог. Искалась на них надпись благочестивого араба — 5: 256).36
Таких примеров можно привести множество, но и этих достаточно, чтобы показать стремление к отказу от конвенциональных письменных средств ради первобытного языка природы.
Исходя из представленной Лотманом классификации культур по принципу различения “текста” и “не текста”,37 в творчестве Хлебникова можно проследить двоякую тенденцию: с одной стороны, игнорирование общепринятых в сфере его деятельности критериев, что проявляется, прежде всего, в том, что он постоянно находился в поиске новых выражений — вплоть до нового языка (в буквальном смысле слова), — чтобы иметь возможность создавать на этом языке тексты; с другой — стремление отменить все существующие тексты, чтобы таким образом вернуться к “пра-тексту”, Единой книге, книге природы. Эта двоякость может быть определена в терминах Лотмана и Пятигорского как „сознательный разрыв с определённым типом культуры”.38
в творчестве Хлебникова можно проследить двоякую тенденцию: с одной стороны, игнорирование общепринятых в сфере его деятельности критериев, что проявляется, прежде всего, в том, что он постоянно находился в поиске новых выражений — вплоть до нового языка (в буквальном смысле слова), — чтобы иметь возможность создавать на этом языке тексты; с другой — стремление отменить все существующие тексты, чтобы таким образом вернуться к “пра-тексту”, Единой книге, книге природы. Эта двоякость может быть определена в терминах Лотмана и Пятигорского как „сознательный разрыв с определённым типом культуры”.38 В «Письме двум японцам» Хлебников заявляет: я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском (6-1: 252), что, конечно, не следует понимать буквально (Хлебников не владел ни японским, ни, разумеется, старояпонским). Однако это заявление допустимо рассматривать как выражение недовольства современным языковым аппаратом, который следует радикально преобразовать. Заметим, что и здесь наблюдаем склонность поэта искать основу для нового мирового языка не где-нибудь, а на Востоке (см. главу 5.2. этой работы).
В «Письме двум японцам» Хлебников заявляет: я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском (6-1: 252), что, конечно, не следует понимать буквально (Хлебников не владел ни японским, ни, разумеется, старояпонским). Однако это заявление допустимо рассматривать как выражение недовольства современным языковым аппаратом, который следует радикально преобразовать. Заметим, что и здесь наблюдаем склонность поэта искать основу для нового мирового языка не где-нибудь, а на Востоке (см. главу 5.2. этой работы).
Следует подчеркнуть, что попытка наклеить на Хлебникова ярлык “разрушителя языка” ни в малейшей мере не соответствует направленности его изысканий в области лингвистики. Одновременно с утопическими предложениями об упразднении всех языков налицо предельно смелый поиск новых вербальных возможностей (звёздный язык, язык чисел, “металогический язык” и т.д.). Как это ни парадоксально, Хлебников в своём требовании упразднить языки часто прибегает к вполне традиционной поэтике, иной раз даже подражает классической русской поэзии — особенно Пушкину, вплоть до метрики последнего. Цель Хлебникова состояла не в том, каким образом или чем разрушить язык, а в преобразовании, расширении общепринятых его пределов.
Действительно, иногда он выходил за рамки (хотя обозначить их трудно) того, что называется коммуникабельностью. Роман Якобсон писал при жизни Хлебникова (май 1919 г.):
На ряде примеров мы видели, как слово в поэзии Хлебникова сначала теряет изобразительную предметность, затем внутреннюю и, наконец, даже внешнюю форму.
39
5.4. Восток и государство будущего
5.4.1. Людостан и Ладомир — гармоничный мир
Политическая утопия Хлебникова неотделима от его лингвистической утопии. На эту связь указывал ещё Мандельштам:
Как можно заключить из представленной выше концепции времени Хлебникова, нет особого смысла пытаться определить, был он футуристом или, как утверждают некоторые исследователи его лингвистических теорий, „пассеистом”.41 Направленность хлебниковской политической утопии не может считаться ни обращением вспять, ни прыжком в будущее, ибо утопия в общем случае подразумевает равно принадлежащий как прошлому, так и будущему “золотой век”.42
Направленность хлебниковской политической утопии не может считаться ни обращением вспять, ни прыжком в будущее, ибо утопия в общем случае подразумевает равно принадлежащий как прошлому, так и будущему “золотой век”.42
Что Хлебников хотя бы поверхностно был знаком с устройством воображаемой республики Платона, архетипа всех утопий, видно из приложения к «Письму двум японцам», где поэт излагает свои предложения по повестке дня Азийского съезда. Подобно положениям «Политии» Платона, поэт видит своё государство разделённым на классы; таковы изобретатели и приобретатели. Удел старших возрастов — торг, сéмьи, приобретения (6-1: 256) — более-менее соответствует общественному положению „торговцев” у Платона.43 Изобретатели Хлебникова господствуют в области песен и изобретений (там же).44
Изобретатели Хлебникова господствуют в области песен и изобретений (там же).44 Таким образом, в отличие от политических воззрений Платона, идеальное государство Хлебникова не отторгает поэтов. Напротив, связывая воедино искусство и знания, они-то и оказываются исполнительной властью — теми самыми философами, которые у Платона выступают в роли „неусыпных стражей” и „руководителей государства”.45
Таким образом, в отличие от политических воззрений Платона, идеальное государство Хлебникова не отторгает поэтов. Напротив, связывая воедино искусство и знания, они-то и оказываются исполнительной властью — теми самыми философами, которые у Платона выступают в роли „неусыпных стражей” и „руководителей государства”.45 Становится понятна внутренняя логика игры, которую Хлебников и его друзья вели с большой настойчивостью: назначая себя председателями земного шара, они подразумевает под таковыми лидеров будущего мироустройства, которое сами же и создают.46
Становится понятна внутренняя логика игры, которую Хлебников и его друзья вели с большой настойчивостью: назначая себя председателями земного шара, они подразумевает под таковыми лидеров будущего мироустройства, которое сами же и создают.46
Участие поэтов в управлении страной — следствие известной ещё немецкому романтизму концепции идеального государства как государства преимущественно поэтического.47
Государство Хлебникова не знает войн, но, как неоднократно говорилось выше, войны могут быть прекращены только с преодолением разброда языков и обретения человечеством мирового языка. По логике вещей, только после этого утопическое государство станет общемировым.
В эссе «Лебедия будущего» (1915–16) грядущее мировое государство названо Соединенными Станами Азии. Здесь Хлебников как бы вторит утопии Владимира Соловьёва «Три разговора», с его предсказанием „Европейских соединённых Штатов”.48
Налицо то же сознательное изменение перспективы, что и рассмотренное в главе 3.1 этой работы: Азия заступает место Европы.
В грандиозной поэме «Ладомир» (1920, 1922) — одной из главных и наиболее известных произведений Хлебникова — упоминается Людостан, будущее мировое государство (3: 238). Это неологизм, составленный из слов ‘люд’ и ‘стан’, эффективно имитирующий обозначение азиатских государств или территорий: Афганистан, Пакистан, Туркестан, Казахстан и т.д.
Между словами Людостан (будущее государство) и Ладомир (мир будущего) налицо ряд сложных семантических и морфологических параллелей, необходимых для понимания поэтики «Ладомира».
Во-первых, составные слова Людостан (Люд-о-стан) и Ладомир (Лад-о-мир) морфологически параллельны, ибо имеют одинаковую структуру зависимости частей (Людостан в смысле состояния народа, Ладомир — в смысле общемирового единства).
Поскольку ‘стан’ в русском обиходе ещё и термин для обозначения группового единства49 („двух станов не боец”), внутри слова Людостан усматривается внутренний смысловой параллелизм: люд = стан. Точно такой же параллелизм налицо и в слове Ладомир, ибо ‘лад’ имеет значение мира, примирения („уставим общий лад”): лад = мир. Таким образом, налицо “горизонтальный” параллелизм Людостан — Ладомир, ибо два компонента этих сложносоставных слов синонимически подобны.
(„двух станов не боец”), внутри слова Людостан усматривается внутренний смысловой параллелизм: люд = стан. Точно такой же параллелизм налицо и в слове Ладомир, ибо ‘лад’ имеет значение мира, примирения („уставим общий лад”): лад = мир. Таким образом, налицо “горизонтальный” параллелизм Людостан — Ладомир, ибо два компонента этих сложносоставных слов синонимически подобны.
Кроме “горизонтальной”, между Людостаном и Ладомиром просматривается и “вертикальная” связь. ‘Лад’ и ‘люд’ — парономастическая пара, образованная Хлебниковым по закону внутреннего склонения, заявленного в дискурсивном эссе «Учитель и ученик» (6-1: 34–36):
Если родительный падеж отвечает на вопрос “откуда”, а винительный и дательный на вопрос “куда” и “где”, то склонение по этим падежам основы должно придавать возникшим словам обратные по смыслу значения. Таким образом слова-родичи должны иметь далёкие значения. ‹...› словесное нутро также имеет склонение по падежам. Склоняясь, иногда немая основа придаёт своему смыслу разные направления и даёт слова, отдалённые по значению и похожие по звуку.
Согласно приведённым в этой статье примерам, допустимо рассуждать следующим образом: а — родительный падеж ю с окончанием дательного падежа мужского рода о-основы. Именно так, по Хлебникову, образуются пары слов, которые имеют, с одной стороны, сходное звучание и прочную связь друг с другом, с другой — находятся в напряжённом противостоянии друг другу (бег — Бог, бык — бок, лес — лыс и др.). В нашем случае, напряжение между словами, создаваемое внутренним склонением, связано с главной идеей хлебниковской утопии, которая может быть реализована только после устранения величайшего из всех зол — войны: в современном мире люди (люд) не живут в согласии (лад). Именно это напряжение в точности соответствует тому, что Хлебников называет внутренним склонением; утопия же состоит в “разрядке напряжённости” между ‘людом’ и ‘ладом’.
“Вертикальные” отношения между Людостаном и Ладомиром распространяется и на соответствующую вторую часть этих словоновшеств: ‘мир’ и ‘стан’ тесно связаны, если понимать ‘мир’ как традиционный русский термин для обозначения совокупности членов сельской общины,50 а ‘стан’ — как стоянку (стойбище) воинского (кочевого) сообщества.51
а ‘стан’ — как стоянку (стойбище) воинского (кочевого) сообщества.51
В этом многократном взаимном отражении названий Ладомир — с его сильным славянским звучанием52 и ассоциативным эффектом — и Людостан, как уже было показано, морфологически моделирующим названия ряда азиатских государств, выражает основную мысль хлебниковской политической утопии: Россия суть отправная точка для создания идеального государства будущего, и это государство будет иметь ярко выраженные азиатские (шире: восточные) черты.
и ассоциативным эффектом — и Людостан, как уже было показано, морфологически моделирующим названия ряда азиатских государств, выражает основную мысль хлебниковской политической утопии: Россия суть отправная точка для создания идеального государства будущего, и это государство будет иметь ярко выраженные азиатские (шире: восточные) черты.
Соответственно Людостану, Хлебников назвал свой город будущего («Город будущего», 2: 89–92) Солнцестаном:
Здесь площади из горниц, в один слой,
Стеклянною страницею повисли,
Здесь камню сказано “долой”,
Когда пришли за властью мысли.
Прямоугольники, чурбаны из стекла,
Шары, углов, полей полёт,
Прозрачные курганы, где легла
Толпа прозрачно-чистых сот,
Раскаты улиц странного чурбана
И лбы стены из белого бревна —
Мы входим в город Солнцестана
2: 89
Возможно, это название восходит к древнеегипетскому Гелиополису (городу Гелиоса, древнегреческого бога солнца): в главе о мифе (см. гл. 2.2.1) показано, что Хлебникова весьма занимал бог солнца Ра (Rê); Гелиополис же известен как центр так называемого солнечного монотеизма.
53
5.4.2. Победа над смертью и реинкарнация
В идеальном мире будущего,
Ладомире, смерть будет побеждена (
смерть смерти будет ведать сроки, 3: 235) — мысль, практически всегда сопровождающая хлебниковские воззрения на идеальное государство. Этот мотив, по мнению В. Маркова, связывает политический проект Хлебникова с идеями русского философа Николая Фёдорова.
54
В утопии Хлебникова, как отмечено выше, господствующим классом общества окажутся поэты, ведущие научные разработки. Вторя Фёдорову, Хлебников утверждает, что в будущем государстве задачей
умнечества будет преодоление смерти, подобно тому, как авиация преодолела земное тяготение. Эту мысль Хлебников излагает в соболезновании овдовевшему М. Матюшину (18 июня 1913 г.). Сомневаясь в необратимости смерти, он замечает:
Если тяготение многим управляет, то воздухоплавание и относительное бессмертие связаны друг с другом (6-2: 153).
Путь к бессмертию представлялся Хлебникову синтезом научного мышления и буддийского или индуистского учения о реинкарнации. В начале 1917 г. он писал Петникову: Мы намерены умирать, зная секунду второго рождения (V: 314). Следовательно, поэт был уверен, что способ рассчитать время своего рождения, смерти и нового появления на свет будет найден. Один из участников диалога в наброске пьесы 1916 г. говорит, что продолжит свою научную работу после второй смерти в третью жизнь (V: 142). Обращает на себя внимание ссылка на день Ганги синеглазого, который оказывается днём рождения одного из двух собеседников (там же), что ставит вопрос о реинкарнации в буддийском или индуистском смысле.55 Улица, на которой происходит этот разговор, имеет самое прямое отношение к бессмертию как повседневному делу, и называется улицей будущего (там же).
Улица, на которой происходит этот разговор, имеет самое прямое отношение к бессмертию как повседневному делу, и называется улицей будущего (там же).
Представление Хлебникова о преодолении смерти почерпнуто из двух принципиально разных источников: научной мысли Запада и восточной веры в посмертное воплощение. Утопии Хлебникова о мировом государстве будущего, в котором не будет ни войн, ни смерти, свойственны черты, сформированные миром буддийских идей. Всё живое — люди это или звери — подчиняется закону реинкарнации, вот почему в «Лебедии будущего» (1918) общность людей и животных — подлинное братство:
Было поставлено правилом, что ни одно животное не должно исчезнуть. ‹...› Крылатый творец твёрдо шел к общине не только людей, но и вообще живых существ земного шара.
6-1: 143
Для Хлебникова Будда — идеальная личность ещё и потому, что ценит жизнь бессловесной твари не меньше человеческой. В поэме «Азы из узы» читаем:
Здесь сын царя прославил нищету
И робок опустить на муравья пяту
И ходит нищий в лопани.
3: 279
Сын царя, избравший своим уделом бедность и защиту малых сих, конечно же, Будда.
Хлебников, должно быть, очень рано задумался о гармоничном сообществе людей и животных, соответствующем учению этого мыслителя. В 1904 году, будучи девятнадцати лет от роду, он пишет в автоэпитафии «Пусть на могильной плите прочтут...»:
Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за распространение на благородных животных заповеди и её действия „люби ближнего своего, как самого себя”.
НП: 318
Мотив отношения к животным существенен для понимания утопии Хлебникова. В главе «Азия» поэмы «Азы из узы» читаем: Ты разрешила обезьянам / Иметь правительства и королей (3: 280). В письме к В. Ермилову (3 января 1921 г.) Хлебников сетует на небрежение современников плодами его 15-летних изысканий:
Открыл основной закон времени и думаю, что теперь так же легко предвидеть события, как считать до 3.
Если люди не захотят научиться моему искусству предвидеть будущее (а это уже случилось в Баку, среди местных людей мысли), я буду обучать ему лошадей. Может быть, государство лошадей окажется более способными учениками, чем государство людей.
Лошади будут мне благодарны, у них, кроме езды, будет ещё один подсобный заработок: предсказывать людям их судьбу и помогать правительствам, у которых ещё есть уши.
6-2: 203
В «Ладомире» равенство животных — неотъемлемая часть идиллического мира будущего: Я вижу конские свободы / И равноправие коров (3: 242).
Хлебников не только перенимает у Будды мечту о гармонии между человеком и бессловесной тварью — отныне для него даже такие идеи, как равенство и братство, связаны не с девизом Великой Французской революции, а с миропониманием индийского царя Ашоки. Прозаический отрывок, датируемый 1915 годом, открывается фразой: Я пошёл к Асоке и попросил у него мыслей взаймы о равенстве и братстве (НП: 317). Ашока был царём, во время правления которого буддизм стал государственной религией в Индии (III в. до н.э.).56
На учение Хлебникова об идеальном государстве сильное влияние оказало и романтическое представление о так называемой “политической биологии”:57 он видит государство функционирующим организмом (макроантропос). Наиболее ярко эта мысль выражена в поэтической исповеди «Юноша Я–Мир» (1907): Я клетка волоса или ума большого человека, которому имя — Россия (5: 10). Стародавний аллегорический образ государства как тела, в котором все части согласованы и служат целому, реализован в поэзии Хлебникова столь ярко, что оба компонента аллегории взаимозаменяемы: живым телом оказывается государство, а тело поэта — государством. На этот факт в стихах Хлебникова обратил внимание поэт Николай Заболоцкий, и написал об этом Константину Циолковскому, основоположнику теории космического полёта:
он видит государство функционирующим организмом (макроантропос). Наиболее ярко эта мысль выражена в поэтической исповеди «Юноша Я–Мир» (1907): Я клетка волоса или ума большого человека, которому имя — Россия (5: 10). Стародавний аллегорический образ государства как тела, в котором все части согласованы и служат целому, реализован в поэзии Хлебникова столь ярко, что оба компонента аллегории взаимозаменяемы: живым телом оказывается государство, а тело поэта — государством. На этот факт в стихах Хлебникова обратил внимание поэт Николай Заболоцкий, и написал об этом Константину Циолковскому, основоположнику теории космического полёта:
Вы, очевидно, очень ясно и твёрдо чувствуете себя государством атомов. Мы же, ваши корреспонденты, не можем отрешиться от взгляда на себя как на нечто единое и неделимое. Ведь одно дело — знать, другое — чувствовать. Консервативное чувство, воспитанное в нас веками, цепляется за наше знание и мешает ему двигаться вперёд. А чувствовать себя государством, очевидно, есть новое завоевание человеческого гения. Это чувство, нашедшее такое яркое выражение в ваших произведениях, было известно гениальному поэту Хлебникову, умершему в 1922 году.
58
В доказательство Заболоцкий приводит текст стихотворения «Я и Россия» (2: 216), где Хлебников воспевает собственное тело как государство. Вот почему правомерен вопрос о природе “Я” в утопии Хлебникова. Если государство есть “макроантропос”, а человек — “микрополис”, то они сливаются, а возможность будущей социальной гармонии проистекает непосредственно из опыта собственного тела: эго может и должно “водержавиться”. К подобному выводу приходят Лощиц и Турбин (не вдаваясь при этом в “политическую биологию”):
Мир в творчестве Хлебникова — арена, на которой подвизаются толпы единородных людей; индивидуальности разгораются, вспыхивают, но рано или поздно личностное, индивидуальное должно раствориться в каких-то соборных деяниях; исчезновение в историческом потоке — форма сохранения каждого “я”, уникального и неповторимого. И Азия была необходима поэту не только потому, что она где-то рядом, что она — таинственна и экзотична. Азия влекла его как желанное дополнение к тому, что знаем о судьбе человека мы, европейцы, как школа, которую нам необходимо пройти.
59 Ю.М. Лощиц, В.Н. Турбин. Тема Востока в творчестве В. Хлебникова
Ю.М. Лощиц, В.Н. Турбин. Тема Востока в творчестве В. Хлебникова
Между строк этого заявления читаем: на необозримом пространстве азиатской философии и духовных учений поэт нашёл ту самую идею, с помощью которой эго, вновь и вновь интегрируясь в круговорот природы путём реинкарнации, достигает бессмертия.
Одна из поздних (1921) поэм «Взлом Вселенной» начинается с видения смертельной опасности из-за падения в воду одной-единственной божьей коровки (4: 75). Спасение утопающего насекомого — условие выживания целого народа (4: 80–81). При этом отдельные человеческие существа, воплотившиеся в красном жучке с слабыми рябыми крыльями, подчиняются законам реинкарнации:
Мы взлетим на небо
И через многие тысячи лет
Вернёмся на землю
Непонятным прахом.
4: 80
Возвращение на землю непонятного праха, таким образом, предполагает включение в очередной жизненный цикл: возможно, из этого праха возникнут новые поколения людей. Очевидно, поэт сочетает здесь библейскую концепцию бессмертия души и возвращения телесной оболочки в землю („Вся идут во едино место: вся быша от персти и вся в персть возвращаются” — Екклесиаст 3:20) с буддийской верой в реинкарнацию. Но религиозная составляющая — лишь часть синкретической системы, разработанной Хлебниковым, где новейшие научные открытия (Хлебникову, например, были известны работы Альберта Эйнштейна, см.: 6-1: 191, 403; 6-2: 89) занимают подобающее место.
Политическая утопия Хлебникова строится на своеобразном, не всегда явном синтезе Востока и Запада. Наиболее отчетлив он в произведениях персидского цикла. В «Дубе Персии» (1921), например, Маздак созвучен Марксу: Шумит созвучие / С Маздаком Маркса (2: 206). Персидский реформатор Маздак (ок. 500 г. н.э.), возвестил идеалы „коммунистического общества, основанного на религии”.60 Отсюда ясно, с какой целью Хлебников сопоставляет религиозного деятеля с основоположником научного коммунизма: идёт поиск общего знаменателя восточного и западного представления об идеальном мироустройстве.
Отсюда ясно, с какой целью Хлебников сопоставляет религиозного деятеля с основоположником научного коммунизма: идёт поиск общего знаменателя восточного и западного представления об идеальном мироустройстве.
Как показано в главе о хлебниковской концепции истории, таковая перенастраивает культурно-историческую перспективу. Хлебниковская версия „ex Oriente lux”, естественно, применима и к утопии будущего. Однако этот мир будущего оказывается ни Востоком, ни Западом, а сложным конгломератом обоих культурных миров. Поскольку Россия в силу своего географического положения, истории и культурного наследия объединяет Восток и Запад, она, по мнению Хлебникова, явится отправной точкой будущего идеального мироустройства.
5.5. Восток и совершенный человек
Создание идеального государства предполагает создание совершенного человека. В утопии Хлебникова этот человек, разумеется, русский, но русский на восточный лад.
Вникая в утопический мир будущего (Ладомир) мы выяснили, что в идеальном государстве правительственные должности будут отдана поэтам, а это в корне противоречит воображаемой республике Платона: греческий философ счёл бы поэтов Председателями земного шара, т.е. лидерами человечества, разве что сойдя с ума. По Хлебникову же, поэты — изобретатели в подлинном смысле этого слова — достойны первенствовать именно потому, что ничем не владеют и не собираются владеть; стало быть, в поисках путей усовершенствования Ладомира нимало не обременены соображениями личной выгоды.
Итак, Хлебников видит в изобретателях воистину свободных и совершенных людей. Как мы выяснили, “паролем свободы” у Хлебникова оказывается Азия (см. гл. 2.1.1). Таким образом, ключом к пониманию будущего свободного мира оказывается всё то же хлебниковское азийство.
Однако свобода сама по себе не делает человека совершенным: для Хлебникова идеален синтез неограниченной стихийности (“азиатчины”) и анализирующего, упорядочивающего интеллекта (“европейского рационализма”). Отсюда вывод: поскольку Россия — Восток и Запад одновременно, она и есть родина идеального человека. И Хлебников провозглашает себя его прообразом, причём налицо опять-таки синтез: Я Разин со знаменем Лобачевского логов (3: 251).
Как всегда в поэзии Хлебникова, совершенный человек обладает не сочетаемыми, на первый взгляд, личностными свойствами: Разин — вождь крестьянского восстания XVII века, Лобачевский — основоположник неевклидовой геометрии. Лобачевский разработал продуманную во всех деталях математическую систему (лóги), Разин вошёл в историю как революционер; но ведь и Лобачевский (1792–1856) совершил революцию в геометрии — это во-первых. Во-вторых, оба связаны с Волгой: Разин двинул повстанческую армию вверх по Волге, Лобачевский был с 1827 по 1846 год ректором Казанского университета. Казань стоит на Волге, и Хлебников изучал математику в 1903 году именно здесь.
Таким образом, в его системе Волга объединяет судьбы трёх личностей: Разина (воплощение свободы), Лобачевского (воплощение строгого ума) и поэта Хлебникова. Последний — просто по факту своего рождения — обязан быть мысляром и яростой одновременно. И действительно, поэт Зангези у Хлебникова — одинокий мыслитель, вразумляющий мир благовестом ума.
Самооценка Я Разин со знаменем Лобачевского логов — зачин поэмы «Разин» (3: 251–262) — в поэме «Ладомир» обретает революционный контекст:
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского
3: 235
Именно поэт-учёный (не путать с учёным поэтом) соответствует хлебниковскому идеалу совершенного человека. Налицо смычка строжайшей формы — геометрического оформления пространства Лобачевским — с идеей безжалостной и разрушительной свободы, воплощаемой Разиным. То и другое сливается у Хлебникова в фигуре не умозрительного поэта, а поэта Велимира Хлебникова: он и математически формулирует, и карает приобретателей. Повторяю, слитые воедино Разин и Лобачевский — символ нерасторжимого единства рационально ориентированного мышления (Европа) и бунтарской вольницы (Россия).
Мотив Лобачевского появляется и в других стихотворениях Хлебникова («Взлом Вселенной», 4: 75–81; «Песнь мне», 3: 36–41 ), но фигура великого математика остаётся до известной степени “плоской”, поверхностной. Совершенно иначе обстоит дело с образом Степана Разина, одним из самых ярких — и самых сложных — в поэзии Хлебникова.
6. Разинский мотив в поэзии Хлебникова
В главе о мифологии (2.2.1) таковой уже был рассмотрен с соответствующих позиций; попытаемся осмыслить его в личностном плане.
Что особенно важно для нашей темы, так это усиление разинского мотива в связи с пребыванием Хлебникова в Персии. «Труба Гуль-муллы» (3: 299–317), «Уструг Разина» (3: 356–361), «Разин» (3: 251–262), прозаический отрывок «Разин напротив. Две Троицы» (5: 227–231), стихотворение «Это парус рекача» (2: 353–355) и другие более мелкие произведения, в которых образ атамана свободы дикой централен (по крайней мере, немаловажен), созданы во время кратковременного посещения Хлебниковым Персии или сразу по возвращении на родину.
Хлебников наверняка мыслил своё прибытие в Персию как символическое повторение знаменитого пиратского рейда 1668–1669 гг., когда ватага Разина разграбила несколько прикаспийских провинций,61 после чего атаман вёл переговоры с персидскими властями в Реште62
после чего атаман вёл переговоры с персидскими властями в Реште62 — именно там, куда Велимир Хлебников 250 лет спустя, в апреле 1921 года, десантировался с частями Красной Армии.
— именно там, куда Велимир Хлебников 250 лет спустя, в апреле 1921 года, десантировался с частями Красной Армии.
Прозаический отрывок о Разине (январь 1922) с подзаголовком «Две Троицы» представляет собой отмеченное многими отступлениями и характерными для Хлебникова замысловатыми перескакиваниями с одного на другое описание двух праздников Троицы (Пятидесятницы): в уральском городе Перми (1905) и в Халхале (1921). Северная Персия представлена как родина раннего удалого дела Разина (5: 230). Далее поэт, сопоставляя свои воспоминания о праздновании Троицы в России и в Персии, отождествляет себя с Разиным.
Рассказчик от первого лица называет Разина своим двойником: Эй! Двойник Разин садись в лодку Меня (5: 229). Уже в ранней поэме «Песнь мне» (1911) поэт объявляет о своей миссии как незримом возвращении атамана:
О, вы, что русские именем,
Но видом заморские щёголи,
Заветом „своё на не русское выменим”
Вы виды отечества трогали.
Как пиршеств забытая свеча,
Я лезвие пою меча.
И вот, ужасная обрáзина
Пустынь могучего nосла,
Я прихожу к вам тенью Разина
На зов ‹?› весла.
3: 41
В «Двух Троицах» самооценка поэта как тени Разина истолкована так: Разин становится двойником поэта, причём двойником отрицательным: Отрицательный голубой Двойник Разин, пепел заклятий сыплется на тебя из моих рук. (5: 229).
На отрицательного Двойника следует обратить самое пристальное внимание: помимо уяснения хлебниковского Разина, налицо возможность сделать методологические выводы о типе развития мотива у Хлебникова.
Разин предстаёт отрицательным Двойником и в поэме «Труба Гуль-муллы»:
И в звёздной охоте
Я звёздный скаун.
Я — Разин напротив,
Я — Разин навыворот.
3: 302
Здесь же Хлебников поясняет такую самооценку, противопоставляя насилие — поэзии, разрушение — созиданию. Смысл этой строфы он раскрывает известным эпизодом гибели персидской принцессы:
Разин деву
В воде утопил.
‹...›
Что сделаю я? Наоборот? Спасу!
3: 303
Стихотворение «Я видел юношу-пророка...», написанное в Персии, варьирует ту же тему:
Он Разиным поклялся быть напротив.
Ужели снова бросит в море княжну? Противо-Разин грезит.
2: 190
Можно думать, что именно воображаемая поэтом инверсия поступка Разина делает атамана “двойником наизнанку” поэта. Это первая — содержательная — сторона “противоотражения” поэта в фигуре Разина.
Вторую — фонетическую — инверсию выявляет обратное чтение слова Разин: получается низар[ь]. Это слово имеет значение “житель низовья реки”,63 в нашем случае — “волгарь из Прикаспия”. Хлебников, родившийся близ Астрахани, был именно низарь, фонетический противо-Разин. Строка-перевертень из поэмы «Разин» Мы, низари, летели Разиным (3: 251) — отнюдь не штукарство, а полное смысла сообщение.
в нашем случае — “волгарь из Прикаспия”. Хлебников, родившийся близ Астрахани, был именно низарь, фонетический противо-Разин. Строка-перевертень из поэмы «Разин» Мы, низари, летели Разиным (3: 251) — отнюдь не штукарство, а полное смысла сообщение.
Отправляясь в Персию, Хлебников движется на юг, в противоположном своему “отрицательному двойнику” направлении: Разин шёл из Персии вверх по Волге,64 намереваясь взять Москву — и сложил там голову на плахе. В «Двух Троицах» поэт движется “навстречу” атаману не только географически: От кончины плыть к молодости (5: 229).
намереваясь взять Москву — и сложил там голову на плахе. В «Двух Троицах» поэт движется “навстречу” атаману не только географически: От кончины плыть к молодости (5: 229).
Как часто бывает у Хлебникова, эта метафора движения в противоположном направлении реализуется на уровне стихосложения: историческое, географическое и нравственное противопоставление поэта его “отрицательному двойнику” подчёркнуто использованием формального приёма “нанизывания” равно читаемых слева направо и справа налево строк — палиндромов. Я — Разин навыворот из «Трубы Гуль-муллы» отсылает не столько к поэту, родившемуся близ устья Волги, сколько к составленному из перевертней «Разину» (3: 251–262). Вариант этой поэмы (из собрания А. Кручёных) имеет подзаголовок Заклятье двойным течением речи, двояковыпуклая речь (3: 471). «Разин», написанный палиндромами, вытекает непосредственно из содержательного противопоставления поэта и его героя.
Образность Разина у Хлебникова этим отнюдь не исчерпывается. Конкретный исторический деятель (Разин и восстание под его предводительством) оказывается и отправной точкой нового мифа (Волга → Ра → Ра-зин), и подспорьем морфологической и нравственной рефлексии поэта (“отрицательный двойник”, низарь), и, как ни странно, математическим понятием.
Прозаический отрывок «Разин напротив. Две Троицы» имеет загадочный посыл: На гордом уструге нет-единицы плыть по душе Разина, по широким волнам, будто по широкой реке. Из названия поэмы «Уструг Разина» (3: 356–361) и контекста самого отрывка видно, что уструг нет-единицы тождествен устругу Разина. Но что значит нет-единица?
Как уже показано, Разин есть “отрицательный двойник”, то есть зеркальное отражение поэта, инверсия его Я как личности, как индивида. Имя собственное Разин можно понять и как своеобразный притяжательный падеж, обозначение принадлежности, производное от ‘раз’ в смысле количества при счёте (раз, два, три...). Поскольку ‘раз’ равнозначно числу один, а Разин есть “отрицательное”, “вывернутое наизнанку” Я поэта, безоговорочно понимаемое как положительная величина, то справедливость отождествления уструга нет-единицы с устругом Разина можно считать доказанной.
Итак, символическое событие, изображённое в «Двух Троицах», суть путешествие поэта во времени с целью пробиться к Разину, своему предтече и двойнику. Приступим к расшифровке одного из самых “тёмных” мест этого текста:
Недаром хохочут холмы: „Сарынь на кичку!” — и оси, корни из мнимой нет-единицы русалок, протягиваются к да-единицам люда.
5: 227
Холмы обочь Волги “делятся воспоминаниями” о сомнительных подвигах Разина, о разбойном кличе волжских пиратов „Сарынь на кичку!”.65 Отголоски этого клича создают пространственные связи — оси (указатели направления) — между поэтом (да-единицей) и его “отрицательным предтечей” Разиным (нет-единицей). Слово корни без околичностей отражает суть дела: поиск предшественника — одновременно и поиск собственных корней. Кроме того, слово корень имеет математическое значение.
Отголоски этого клича создают пространственные связи — оси (указатели направления) — между поэтом (да-единицей) и его “отрицательным предтечей” Разиным (нет-единицей). Слово корни без околичностей отражает суть дела: поиск предшественника — одновременно и поиск собственных корней. Кроме того, слово корень имеет математическое значение.
Хлебников, в молодости студент-математик, неоднократно занимался проблемой √–1 в своих квазиматематических и квазипоэтических изысканиях. Так, в мистерии «Скуфья скифа» (1916) читаем:
Я знал, что √–1 нисколько не менее вещественно, чем 1; ‹...› Пора научить людей извлекать вторичные корни из себя и из отрицательных людей.
5: 173
Квадратный корень из минус единицы — математический парадокс: это воображаемая (мнимая) величина. Из учебника математики:
Слово мнимый впервые употребил Декарт: „Корни уравнения не всегда действительны, а иногда воистину мнимы (seulement imaginaires) ‹...› Величина называется мнимой, если она не больше нуля, не меньше нуля и не равна нулю. Это нечто невообразимое можно обозначить, например, √–1”.
66
По первой букве декартова imaginaires квадратный корень из минус единицы обозначается латинской
i.
67
Хлебников, первым после Льюиса Кэрролла (1832–1898),68 английского профессора математики и автора «Алисы в стране чудес», сделавший математику неотъемлемой частью изящной словесности, неоднократно пересматривал идею мнимой величины. В повести «Ка2» (Ка-квадрат) читаем:
английского профессора математики и автора «Алисы в стране чудес», сделавший математику неотъемлемой частью изящной словесности, неоднократно пересматривал идею мнимой величины. В повести «Ка2» (Ка-квадрат) читаем:
А вы знаете, что природа чисел та, что там, где есть да-числа и нет-числа (положительные и отрицательные существа), там есть и мнимые (√–1)?
Вот почему я настойчиво хотел увидеть √–1 из человека и единицу, делимую на человека. И его лицо преследовало меня всюду в шуме улиц.69 5: 155
5: 155
Дальнейшее в «Ка2» проливает свет и на амбивалентность отрицательного существа (в нашем случае Разина), и на значение квадратного корня из минус единицы. Отрицательным оказывается ожидаемый, но отсутствующий человек (там же). Иными словами, умерший человек — тем паче отрицательный: он уже не существует как единица, как индивидуум, т.е. он равен минус единице (нет-единице).
С другой стороны, квадратный корень минус единицы назван враждебным:
Впрочем, скоро я понял, что если любимый, ожидаемый, но отсутствующий человек ‹есть› отрицательное существо, то каждое враждебное, постороннее собранию (не присутствующее в нём) будет √–1, существом мнимым.
5: 156
Если применить этот ключ к “тёмному” месту из отрывка «Две Троицы» Недаром хохочут холмы: „Сарынь на кичку!” — и оси, корни из мнимой нет-единицы русалок, протягиваются к да-единицам люда (5: 227), окажется, что русалки (водяные нимфы) — существа воображаемые (нет-единицы) — тянутся к плюс-единицам, т.е. к живым, переплывающим Волгу на лодке людям с недобрыми намерениями: это враждебные существа.
Влекомых враждой к людям водяных нимф дóлжно, по всей видимости, соотнести с пребыванием Одиссея и его спутников близ смертоносных сирен (Хлебников, как было показано, превосходно знал Гомера). В контексте «Двух Троиц» “ось одиссеи” направлена не вперёд, в неведомое, а назад, в общеизвестное — к Степану Разину, причём опять-таки от кончины к молодости последнего:
‹...› до истоков жизни молодого донца в Соловках, перерезавшего поперёк всю русскую равнину, всю Россию, чтобы подслушать северные речи, увидеть очи северного бога, бога севера.
5: 227
Таким образом, нимф, “математически” устремлённых к лодке с людьми, можно понять как загробных мстительниц за персидскую принцессу, погубленную Разиным; а мотив этот чрезвычайно занимал Хлебникова. В «Трубе Гуль-муллы» читаем: Разин деву / В воде утопил (3: 303); об этом же сказано и в ранней поэме «Хаджи-Тархан»: Чу! Слышен плач, и стан княжны / На руках гнётся лиходея (3: 125). В поэме «Ночной обыск» звучит знаменитая песня о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень...», в которой поется, как тот утопил невесту: Свадьбу новую справляет / Он, весёлый и хмельной... (4: 95); этот же мотив гибель персиянки налицо в стихотворении «Я видел юношу пророка...» (2: 190). Более того, убийство „красавицы княжны” — кульминация поэмы «Уструг Разина» (3: 356–361).
Конечно, можно задаться вопросом: а стоят ли того усилия, затраченные на расшифровку одного-единственного предложения? На такой вопрос следует ответить сугубо положительно: с одной стороны, такая работа расширила поэтическую трактовку Разина, одного из важнейших образов в поэзии Хлебникова; с другой — такие или подобные им (а иной раз и более громоздкие) процедуры неизбежны при анализе “невнятных” мест в произведениях, никоим образом не отмеченными ни хлебниковским “металогическим языком” (заумью), ни его числовой каббалистикой.
Хорошим примером чрезвычайно сложной кодировки образа Разина служит поздняя поэма «Ладомир», о которой В. Марков говорит:
Комментатор не пожалел бы времени жизни найти источники многих образов, использованных Хлебниковым в этой поэме.
70
Представляется, что приведённый ниже отрывок из «Ладомира» образует относительно самодостаточную единицу, из которой не так-то просто вычленить строки с 9 по 16, важные для нашего проекта. Вот цитата целиком:
| 1 | Те юноши, что клятву дали |
| 2 | Разрушить языки — |
| 3 | Их имена вы угадали — |
| 4 | Идут увенчаны в венки. |
| | |
| 5 | И в дерзко брошенной овчине |
| 6 | Проходишь ты, буен и смел, |
| 7 | Чтобы зажечь костёр почина |
| 8 | Земного быта перемен. |
| 9 | Дорогу путника любя, |
| 10 | Он взял ряд чисел, точно палку, |
| 11 | И, корень взяв из нет себя, |
| 12 | Заметил зорко в нём русалку. |
| 13 | Того, что ничего нема, |
| 14 | Он находил двуличный корень, |
| 15 | Чтоб увидать в стране ума |
| 16 | Русалку у кокорин. |
Предварительная работа, проделанная над «Двумя Троицами» и другими цитированными выше произведениями, позволяет сделать вывод, что этот отрывок из «Ладомира» есть закодированный разинский мотив, и опять-таки с Разиным в качестве “отрицательного предтечи” поэта.
Юноши, поклявшиеся разрушить языки (строки 1–4) — это, разумеется, не лингвисты-самоубийцы, а самопровозглашённые Председатели земного шара.
Казачий зипун (овчина), небрежно накинутый на плечи (строка 5), — атрибут того Разина,71 каким он трижды упоминается (дважды прямо и один раз метафорически) в «Уструге Разина»:
каким он трижды упоминается (дважды прямо и один раз метафорически) в «Уструге Разина»:
На голове его овца
. . . . . . . . . . . . . .
За шляпой белого овечьего руна
Скрывался взгляд головореза
. . . . . . . . . . . . . .
Волги синяя овчина
На плечах богатыря
3: 357
Строки 10–16, как это часто бывает у Хлебникова, содержат иронические намёки на свою сильнейшую увлечённость числами (ср.: Хлебников утонул в болотах вычислений, и его насильственно спасали. — 6-1: 259). В строках 10–11, как показано на примере поэмы «Разин», говорится об отражении поэта в собственном “негативе” (нет себя), т.е. в уже не существующем “предтече” Степане Разине. Ряд чисел — чудо-посох для странствий во времени, в то время как нет себя идентично нет-единице из «Двух Троиц».
Двуличный корень из минус единицы означает нечто воображаемое с оттенком предугаданного обмана (двоичный → двуличный); известное нам по повести «Ка2» враждебное, постороннее собранию (5: 156) существо появляется, как и ожидалось, в «Ладомире». Сравним строки 11–12 с соответствующим отрывком из «Двух Троиц»: здесь И, корень взяв из нет себя, / Заметил зорко в нём русалку, там — ‹...› корни из мнимой нет-единицы русалок, протягиваются к да-единицам люда (5: 227). Водяная нимфа (русалка), будучи “корнем из минус единицы”, оказывается корнем, извлечённым из Разина, “минус-поэта”. Таким образом, в образе водяной нимфы угадываем потусторонний облик принцессы, утопленной Разиным в Волге. Персиянка — “чужая”, которую Разин вырвал, так сказать, из сердца (как вырывают корень), потому что она посторонняя собранию разинских соратников: те в «Уструге Разина» педалируют чуждость принцессы: Закопчённою (очевидный намёк на смуглую кожу) девчонкой / Накорми страну плотвы (3: 360).
Строки 11–12 цитируемого отрывка из «Ладомира» можно понять как просьбу поэта пристально (зорко) вглядеться, чтобы понять смысл загадочного образа (на самом деле это уже второе приглашение к игре-головоломке; первое очевидно в строке 3). Русалка (водяная нимфа) представлена поэтом — и должна быть понята внимательным наблюдателем — корнем из минус единицы, т.е. “корнем из Разина”.
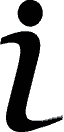 Попытаемся выяснить, как поэт пришёл к открытию русалки в √–1. Слово зорко предлагает искать ответ в визуальной области; при этом √–1 есть i, как показано выше. Рискуя навлечь обвинение в перетолковании (хотя по отношению к поэзии Хлебникова налицо прямо противоположная опасность, а именно недостаточно дифференцированная интерпретация), осмелимся предположить здесь, что намёк в строках 11–12 отсылает исключительно к зрительному восприятию — графическом знаку мнимой величины i. Не лишённому воображения наблюдателю этот математический значок (особенно в рукописном виде) может показаться воспроизведением головы, рук и хвоста нимфы, особенно если он знает о повышенном внимании Хлебникова ко всему рукописному (почерк самой начертательной дрожью руководит читателем — 6-1: 243). Другими словами, обозначение воображаемой (imaginär → i ) величины можно принять за своего рода схематический рисунок русалки, imaginären Frau.72
Попытаемся выяснить, как поэт пришёл к открытию русалки в √–1. Слово зорко предлагает искать ответ в визуальной области; при этом √–1 есть i, как показано выше. Рискуя навлечь обвинение в перетолковании (хотя по отношению к поэзии Хлебникова налицо прямо противоположная опасность, а именно недостаточно дифференцированная интерпретация), осмелимся предположить здесь, что намёк в строках 11–12 отсылает исключительно к зрительному восприятию — графическом знаку мнимой величины i. Не лишённому воображения наблюдателю этот математический значок (особенно в рукописном виде) может показаться воспроизведением головы, рук и хвоста нимфы, особенно если он знает о повышенном внимании Хлебникова ко всему рукописному (почерк самой начертательной дрожью руководит читателем — 6-1: 243). Другими словами, обозначение воображаемой (imaginär → i ) величины можно принять за своего рода схематический рисунок русалки, imaginären Frau.72 Понятийные знаки (идеограммы), отсылающие к определённым словам независимо от их фонетики, известны по древнеегипетским иероглифам: прямоугольник с отверстием обозначает дом, две ноги — ходьбу и т.д.73
Понятийные знаки (идеограммы), отсылающие к определённым словам независимо от их фонетики, известны по древнеегипетским иероглифам: прямоугольник с отверстием обозначает дом, две ноги — ходьбу и т.д.73 Что Хлебников с его склонностью к разложению слова видел идеограмматические знаки в отдельных буквах, прямо следует из нескольких его теоретических работ.74
Что Хлебников с его склонностью к разложению слова видел идеограмматические знаки в отдельных буквах, прямо следует из нескольких его теоретических работ.74
На основании такого прочтения отметим, что строки 13–16 представляют собой вариацию строк 10–12. Строка 13 с нарочитым украинизмом ‘нема’ вместо ‘нет’ (возможно, аллюзия на язык донского казака Разина) подразумевает отсутствующее лицо (минус единицу, т.е. Разина); двуличный корень в строке 14 — прозрачный намёк на квадратный корень из минус единицы; в стране ума персидская принцесса, брошенная Разиным в Волгу, — водяная нимфа, сидящая на затонувшей коряге (кокорине), что увязывается с мотивом реинкарнации и воскрешения мёртвых.
Безусловно, наши комбинаторные приёмы отдают кабалистикой (у Хлебникова, кстати, анаграмма нередко становится каламбуром), но, тем не менее, смеем утверждать, что только так открывается доступ к некоторым (к счастью, не самым важным) закуткам поэтической кухни Хлебникова, которые в противном случае остались бы потаенными. Насколько можно судить, работа в этом направлении пока не проводилась.
То же относится и к комплексному исследованию вопроса, в какой мере известное требование Хлебниковым соответствия начального согласного содержанию слова75 реализовано им на практике.
реализовано им на практике.
В рамках этой, по крайней мере, главы можно засвидетельствовать, что кое в чём он этому требованию следует: начальный согласный Р теоретических построений действительно соответствует концепции его Разина. Так, в статье «О простых именах языка» (1916 ) читаем: Р присуще значение разрушения преград (6-1: 119); в «Царапине по небу» — Ра свинца (3: 275). В сверхповести «Зангези» для сигнификативной функции звука Р частично используются те же предикаты, что и в «Двух Троицах»: Эр — точка, прорезавшая, просекшая поперечную площадь. Эр — реет, рвет, рассекает преграды, делает русла и рвы (5: 313); Эр, Ра, Ро! Тра-ра-ра! / Грохот охоты, хохот войны (5: 316). Ср. с «Двумя Троицами»: ‹...› до истоков жизни молодого донца в Соловках, перерезавшего поперёк всю русскую равнину, всю Россию ‹...› (5: 227)
Попытаемся все аспекты трактовки Хлебниковым образа Степана Разина — а это, как показано, есть восточная компонента идеального человека будущего — резюмировать следующим образом:
I. Историческая справка. А именно: Степан Разин как предводитель великого крестьянского восстания 1670–1671 гг.
II. Этимологический аспект. Разин как человек и, одновременно, река Ра (обозначение Волги у Птолемея). Разин как некое притяжение Ра.
III. Мифологический аспект. Проистекает непосредственно из этимологического аспекта: Ра-зин, “человек с Волги” — старинное обозначение которой Ра сопряжено с Древним Египтом, с богом солнца Ра (Rê), — тем самым оказывается “человеком с африканской реки” (т.е. Нила, реки скорее Древнего Востока, нежели Запада).
IV. Морфологический аспект. Поэт — “Разин наизнанку”, он же низар[ь] (ибо родился в низовьях Волги). Отсюда внутренняя мотивация написания поэмы «Разина» в виде перевертней, т.е. палиндромов.
V. Математический аспект. Связан с морфологическиим аспектом: Разин как “отрицательный”, т.е. уже не существующий предшественник и двойник Я-поэта, т.е. “минус-Я” или “минус единица”. ‘Раз’ оказывается синонимом числительного ‘один’.
VI. Идеограмматический или графический аспект. Продолжение математического аспекта: квадратный корень из минус единицы (Разин) в декартовой записи i — схематический рисунок (идеограмма) водяной нимфы, в которую превращается персидская царевна, брошенная Разиным в Волгу.
VII. Особая роль звука Р. Соответствие между определением Степана Разина как стремительного разрушителя препятствий, с одной стороны, и тем смыслом, который поэт вкладывает в начальный согласный слова ‘Разин’ в своих теоретических выкладках.
Приведённая выше компиляция показывает в сжатом виде комплексное использование и видоизменение единого мотива Разина в поэзии Хлебникова, включая попытку с исчерпывающей полнотой охватить разнообразие и многослойность отсылок и уровней значения, показав на конкретных примерах поэтические приёмы и ход мысли Хлебникова (например, мышление „закодированными аксиомами”, “расчленение слова”, усложнение метафор и аллюзий).
Полагаем, выработанные здесь методологические подходы выходят за рамки обсуждаемой темы и вполне применимы к другим областям хлебниковедения, как то: “идеограммам”, “осмысленному звуку”, “поэтизации знака” и “мифологизация слова”.
7. Заключение
В настоящей работе рассмотрен ряд направлений восточной тематики в творчестве Хлебникова. Как уже было сказано, тема Востока играет довольно важную роль в русской литературе. Данная работа позволяет лишь в очень ограниченной мере определить, какое место занимает творчество Хлебникова в этой области, какие импульсы поэт из неё воспринял. Тем не менее, достаточно ясно показано, что теме этой он был привержен в гораздо большей степени, чем его современники. Можно утверждать, что в трактовке традиционной экзотики Востока и его орнаменталистики у Хлебникова был единственный предшественник — А. Пушкин. Проф. И. Брагинский пишет:
Как известно, у Пушкина нет своего «Западно-Восточного Дивана», однако при детальном анализе его поэзии обнаруживается, что в ней можно выявить целые поэтические циклы с признаками литературного синтеза Запада и Востока.
76
Почти то же самое можно сказать и о тематике Хлебникова, не сравнивая его с Пушкиным (или Гёте): налицо тот же подход.
В то время как захваченность Гёте или Пушина темой Востока объяснима, скорее, их непредубежденностью и открытостью влияниям даже самых отдалённых культур, Хлебникова интересует нечто гораздо большее, чем “западно-восточный литературный синтез”.
Хлебников берётся за переопределение дальнейшего развития всей современной ему культуры именно в то время, когда промежуточное положение России между Европой и Азией требовало поиска новых ответов на вопрос о самоопределении его родины.
Как поясняется в главе о мотиве возмездия в творчестве Хлебникова, его отношение к Востоку выработалось в условиях напряженности русско-азиатских отношений. Видна двоякая тенденция, а именно: с одной стороны, признание родства, с другой — исконная вражда между русскими и их азиатскими соседями.
По этой причине восточная тема и приняла в его политико-визионерских отсылках такое большое значение: это и память о былых войнах, и предчувствие будущих потрясений одновременно. Цитируя самого Хлебникова:
В багровых струях лицо монгольского Востока,
Славянскою волнуяся чертой,
Стоит могуче и жестоко,
Как образ новый, время, твой!
3: 224
———————
Примечания 1 Ю. Лощиц, В. Турбин
1 Ю. Лощиц, В. Турбин. Тема Востока в творчестве В. Хлебникова // Народы Азии и Африки. IV. 1966. С. 152.
воспроизведено на www.ka2.ru 2
2 Там же. С. 155.
 3 W. Haas
3 W. Haas. Östliches unti westliches Denken.
Reinbek bei Hamburg. 1967. P. 54.
 4
4 Там же. С. 120.
 5
5 См. гл. 5.1.
 6 Ju. Lotman
6 Ju. Lotman. O modelirujuščem značenii ponjatij “konca” i “načala” v chudožestvennych tekstach // Teksty sovetskogo literaturovedčeskogo strukturalizma.
Hrsg. K. Eimermacher . München. 1971. P. 307–312.
 7
7 Там же. С. 310.
 8
8 Там же.
 9
9 Для темы этой главы важна статья Вяч. Вс. Иванова, подаренная мне, к сожалению, уже после написания этой работы. См.:
Vjač.Vs. Ivanov. Kategorija vremeni v iskusstve i kul’ture XX veka // Structure of texts and semiotics of culture. Hrsg. J. van der Eng und M.Grygar.
Den Haag/Paris. 1973. P. 103–150.
 10
10 Athenaeum. Nachdruck der Berliner Ausgabe von 1798–1800.
Darmstadt. 1970. Bd. 1. P.196.
 11 C. Lévi-Strauss
11 C. Lévi-Strauss. Die Struktur der Mythen // Strukturalisinus in der Literaturwissenschaft. Hrsg.H. Blumensath.
Köln. 1972. P. 23–46; 27.
 12 Н. Степанов
12 Н. Степанов. Заметка о О. Самородовой: «Поэт на Кавказе» // Звезда. VI. 1972. С. 193;
А. Парнис. Там же. С. 157.
 13
13 В.П. Никитин, автор ряда востоковедческих работ, долгое время жил в Персии. Он опубликовал статью о «Трубе Гуль-муллы» в журнале «Йегма», который издается в Тегеране на персидском языке, см. обзор Францишека Махалски на польском языке в журнале Przegląd Orientalistyczny, IV (1956), с. 15. Парнис (см. указ. соч., с. 157) также ссылается на персидскую статью В. Никитина. В моём распоряжении была неопубликованная работа Никитина об историко-политической подоплёке поездки Хлебникова в Персию:
В.П. Никитин. Русский дервиш (персидский период в жизни В. Хлебникова).
 14
14 Неопубликованные письма покойного В.П. Никитина были любезно предоставлены мне проф. Владимиром Марковым из Университета Лос-Анджелес в Калифорнии, я рад возможности поблагодарить его и за письма, и за стимулирующие пояснения к ним, и за труднодоступную статью Никитина о Хлебникове.
 15
15 Тынянов, указ. соч. С. 593.
 16
16 См.: Майна // Словарь морских и речных терминов. М. 1955. С. 197.
 17
17 Об интересе Хлебникова к Крижаничу см.:
V. Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.
Berkeley–Los Angeles. 1962. P. 88. Крижанич упомянут Хлебниковым в «Учителе и ученике» (6-1: 46).
 18 В. Марков
18 В. Марков. О Хлебникове (попытка апологии и сопротивления) // Грани, XXII. 1954. С. 125–145; 132.
воспроизведено на www.ka2.ru 19
19 См., например, «Слово об Эль» (2: 428–430); «Царапина по небу» (3: 266–276); бóльшая часть «Зангези» (5: 306–353), а также несколько статей.
 20 Гофман В
20 Гофман В. Языковое новаторство Хлебникова // Гофман В. Язык литературы.
Л. 1936. С. 209–236; 215.
воспроизведено на www.ka2.ru 21 C. Lévi-Strauss
21 C. Lévi-Strauss. Die Struktur der Mythen // Strukturalisinus in der Literaturwissenschaft. Hrsg.H. Blumensath.
Köln. 1972. P. 26.
 22
22 «Фрагменты» Новалиса (1914) и «Ученики в Саисе» (1920) на русский язык перевёл ближайший друг Хлебникова Григорий Петников. См. библиографическую статью ‘Новалис’ // Литературная энциклопедия / ред. А.В. Луначарский.
М. 1934. Т. 8. С. 113. См. также упоминание Хлебниковым Новалиса в «Ляля на тигре»: Петников выпустил Новалиса (6-1: 259). За сообщение о знакомстве Петникова с Новалисом приношу благодарность доктору Й.Р. Дёрингу.
 23
23 См.: «Fragmenten und Studien 1799–1800»: «Zahlen sind, wie Zeichen und Worte, Erscheinungen, Repräsentationen kat exochen» // Novalis: Werke. Hrsg. G. Schulz.
München. 1969. P. 542.
 24
24 Там же. С. 543.
 25 E. Heftrich
25 E. Heftrich. Novalis. Vom Logos der Poesie.
Frankfurt. 1969. P. 147.
 26
26 Там же.
 27
27 См. также:
К.-D. Bünting. Einführung in die Linguistik.
Frankfurt. 1972. P. 33.
 28
28 Возвращение Золотого века и восстановление утраченной наивности — состояния, в котором нет противоречий между познанием субъекта и объекта, между сознанием и природой — были стержневой темой романтизма (см., например:
René Wellek. Romanticism Re-examined // Romanticism Reconsidered. Northop Frye, Hrsg.
New York/London. 1963. P.107–133. Хлебников в этом вопросе находился под сильным влиянием романтической традиции, главным образом Новалиса.
 29
29 Известны две незначительно различающиеся версии «Зверинца» — 1909 и 1911 гг.; цитируем последнюю.
 30
30 Ср.:
Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтённых книг (5: 44).
 31
31 Novalis: Werke. Hrsg. G. Schulz.
München. 1969. P. 110.
 32
32 См. примечание к «Ученикам в Саисе»: там же, стр. 683.
 33
33 О психологическом значении приготовления огня как выражения анамнезиса, воспоминания и повторного открытия архетипа см.:
C.G. Jung. Symbole der Wandlung.
Olten u. Freiburg. 1973. P. 214.
 34
34 См.:
Mircea Eliade. Das Heilige und das Profane.
Hamburg. 1957. P. 95.
 35 Книга природы
35 Книга природы — в т.ч. и восточная (буддийская) книга. См.:
Где верблюд знает сущность буддизма (6-2: 121).
 36
36 Ср. с началом «Учеников в Саисе»: „Люди то и дело ходят по дорожкам. Кто за ними следует и наблюдает их, увидит, как возникают странные фигуры; фигуры, которые кажутся принадлежащими тому великому зашифрованному письму, которое можно найти повсюду: на крыльях, на яичной скорлупе, в облаках, в снегу, в кристаллах и в каменных глыбах, на льду, на скалах, в растениях, в животных, в увиденных людях, в небесных огнях, на слюдяных и стеклянных окнах, по которым провели пальцем и помыли, в железных опилках вокруг магнита и в странных случайностях. В них подозревают ключ этого чудесного письма, языковую теорию того же, но предубеждение знать этого не желает” (Novalis: Werke. Hrsg. G. Schulz.
München. 1969. P. 95.
 37 Ju. Lotman und A. Pjatigorskij
37 Ju. Lotman und A. Pjatigorskij. Tekst i Funkcija // Teksty sovetskogo literaturovedčeskogo strukturalizma. Hrsg. K. Eimermacher.
München. 1971. P. 483–497, 486.
 38
38 Там же. С. 489.
 39 Р. Якобсон
39 Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. Набросок первый: В. Хлебников.
Прага. 1921. С. 68.
воспроизведено на www.ka2.ru 40 O. Mandel’štam
40 O. Mandel’štam. Sobranie socinenij. 3 Bde.
Washington. 1964–1969. Bd. 2. P. 390.
воспроизведено на www.ka2.ru 41
41 См., особенно:
В. Гофман. Язык литературы.
Л. 1936. С. 220;
К. Зелинский На великом рубеже (1917–1920). Дервиш русской поэзии // Знамя ХІI (1957). С. 143–152; 151.
 42
42 См.: «Utopias of escape» und «Utopias of reconstruction» // Kapitel «Utopian literature» //
Shipley J. Dictionary of World Literature.
Totowa. 1966. P. 432f.
 43 Platon
43 Platon. Sämtliche Werke, 6 Bde.
Leck. 1959; «Politela» Bd. III, 2. Kap.12, 317b–d. P. 108.
 44
44 Подробнее об
изобретателях и
приобретателях см.: «Труба марсиан» (6-1: 246).
 45 Platon
45 Platon. Sämtliche Werke, 6 Bde.
Leck. 1959; «Politela» Bd. III, 2. Kap.12, 317b–d. P. 200.
 46
46 См., например: «Воззвание Председателей Земного шара» (6-1: 263–265) и «Октябрь на Неве» (5: 179–186).
 47
47 См., например, у Новалиса: „В высшей степени интеллектуальное состояние само по себе будет поэтическим — чем больше духа и интеллектуального общения в этом состоянии, тем более оно будет приближаться к поэтическому...” Из: «Vermischte Bemerkungen» (‘Blütenstaub’) 1797–1798 // Novalis: Werke. Hrsg. G. Schulz.
München. 1969. P. 351.
 48 V. Solov’ëv
48 V. Solov’ëv. Tri razgovora.
New York. 1954. P. 198. Хлебников упоминает Владимира Соловьёва в «Зангези» (5: 338). Умозрение
в очках учёного пророка — русско-японская война, о котором говорит поэт
Зангези, входит в ту же главу «Трёх разговоров», что и пророчество о создании „Европейских соединённых Штатов”
 49
49 См.: Словарная статья ‘стан’ // Толковый словарь великорусского языка Владимира Даля. 1903. 3-е изд. Том 2. С. 505.
 50
50 См.: Словарная статья ‘мир’ // Толковый словарь великорусского языка Владимира Даля. 1903. 3-е изд. Том 2. С. 863.
 51
51 См.: Словарная статья ‘стан’ // Толковый словарь великорусского языка Владимира Даля. 1903. 3-е изд. Том 2. С. 505.
 52 V. Markov
52 V. Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.
Berkeley–Los Angeles. 1962. P. 146.
 53 Lurker M
53 Lurker M. Götter und Symbole der alten Ägypter.
München. 1974. P. 31. См. также словарную статью: ‘Amenophis’ //
Brockhaus E. (Hrsg.): Der Große Brockhaus. 12 Bde.
Wiesbaden. 1953–1957. Bd. 1. P. 256.
 54 V. Markov
54 V. Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.
Berkeley–Los Angeles. 1962. P. 148. Подробнее о влиянии Фёдорова на Хлебниковова там же, в примечании на стр. 224. Н. Фёдоров (1828–1903), автор «Философии общего дела», видел в победе над смертью высшую цель человечества и считал, что с помощью науки можно её достичь. Уделял большое внимание азиатским аспектам России. В его историческом мышлении важное место занимало понятие Турана, т.е. Туркестана, лежащего в пределах России, как связующего звена между Россией и Азией. На этом уровне можно предположить и влияние Фёдорова на Хлебникова. Термин ‘Туран’ у Фёдорова см., например, в его письмах В.А. Кожевникову «О Туркестане» // Вёрсты. III. 1928. С. 278–288.
 55
55 Вяч.Вс. Иванов сообщает ценные сведения по этому вопросу и доказывает интерес Хлебникова к буддийскому учению на произведениях поэта, некоторые из которых нам недоступны. (
Vjač. Vs. Ivanov. Struktura stichotvorenija Chlebnikova «Menja pronosjat na slonovych...» // Teksty sovetskogo literaturovedčeskogo strukturelizma. Hrsg. K. Eimermacher.
München. 1971. P. 385f). Из статьи Иванова следует, что Хлебников читал книгу В.А. Кожевникова о буддизме. О письмах Фёдорова В.А. Кожевникову см. прим. 54.
 56 W. Haas
56 W. Haas. Östliches unti westliches Denken.
Reinbek bei Hamburg. 1967. P. 225.
 57
57 О государстве как макроантропосе у Новалиса см. напр.:
Hans Reiss. Politisches Denken in der deutschen Romantik.
Bern. 1966. P. 34. Там говорится: „У Новалиса государство носит органический характер. Оно не является ни произведением искусства, ни машиной; это большой индивидуум, объемлющий всех индивидуумов. Государство — это макроантропос”. Сравните с теорией „политической биологии” Шлейермахера в:
Hans Reiss. Politisches Denken in der deutschen Romantik.
Bern. 1966. P. 67.
 58 А. Павловский
58 А. Павловский Из переписки Н.А. Заболоцкого с К.Е. Циолковским // День Поэзии.
Ленинград. 1964. С. 227–232; 230.
 59 Ю. Лощиц, В. Турбин
59 Ю. Лощиц, В. Турбин. Тема Востока в творчестве В. Хлебникова // Народы Азии и Африки. IV. 1966. С. 148. Вяч.Вс. Иванов оспаривает утверждение авторов об „исчезновении в потоке истории” как о „форме сохранения эго” у Хлебникова (
Vjač.Vs. Ivanov. Kategorija vremeni v iskusstve i kul’ture XX veka // Structure of texts and semiotics of culture. Hrsg. J. van der Eng und M. Grygar.
Den Haag/Paris. 1973. P. 384). Однако Иванов, по-видимому, недооценил взгляд Хлебникова на космос как на замкнутую систему, в которой все части, включая эго, являются одновременно частью целого и целым, содержащим всё остальное.
 60 W. Haas
60 W. Haas. Östliches unti westliches Denken.
Reinbek bei Hamburg. 1967. P. 138.
 61 Gitterman V
61 Gitterman V. Geschichte Rußlands. 3 Bde.
Hamburg. 1949. P. 292.
 62
62 Словарная статья ‘Разин’ // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. В 82-х томах.
Петербург. 1890–1904. Т. 51. С. 160.
 63
63 Из словарной статьи ‘Низ’: На Волге все города ниже Симбирска зовут „низовыми” //
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах.
М.–СПб. 1903. Т. 2. С. 1413.
 64
64 Это изменение направления движения у Хлебникова следует рассматривать на фоне того, что разинско-персидские мотивы сохранились в фольклоре. Например, в некоторых народных песнях Разин и его товарищи именуются “персами”: „Как не белые лебёдочки солеталися, / Как не ясные соколочки сопорхалися — / Соходилися музурушки персидские” или: „Соходились, собирались добры молодпы / За славные музурушки персидские” в: Песни, собранные П.В. Киреевским. VII изд.
М. 1868. Цитата из:
Л.С. Септаев. Песни разинского цикла и песни о Ермаке // Очерки по истории русской литературы. ЛГПИ им. Герцена. 1966. Т. 309. С. 3–24; 22.
 65
65 См. примечание Н. Степанова в:
В. Хлебников. Стихотворения и поэмы.
Л. 1960. С.84.
 66 H. Gericke
66 H. Gericke. Geschichte des Zahlbegriffs.
Mannheim/Wien/Zürich. 1970. P. 66.
 67
67 См.: “мнимая единица”, число
i, квадрат которого равен отрицательной единице; таким образом,
і = √–1. В: Энциклопедический словарь.
М. 1964. Т. 2. С. 40.
 68
68 См. библиографию работ Льюиса Кэрролла в: The Annotated Alice. M. Gardner Hrsg.
Harmondsworth. 1972. P. 347–349.
 69
69 В контексте данной работы важно отметить, что тема невидимого двойника, связанная с верованиями древних египтян, очевидна в названии повести «Ка
2». См.:
Lurker M. Götter und Symbole der alten Ägypter.
München. 1974. P. 96: „Ка — двойник человека; если последний умирает, Ка продолжает жить”. В «Ка» (5: 122–141), написанной за год до «Ка
2» (5: 153–165), читаем:
У меня был Ка ‹...›
Ка — это тень души, её двойник (5: 122).
 70 V. Markov
70 V. Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.
Berkeley–Los Angeles. 1962. P. 146.
 71
71 Это не значит, что намёк не отсылает к Иоанну Крестителю (которого обычно изображают в меховой одежде — известный иконографический мотив): наоборот, бóльшая часть образов в творчестве Хлебникова обретает глубину и многослойность смысла именно за счет синтеза совершенно разнородных элементов.
 72
72 Интересно отметить, что тот же мотив, квадратный корень из –1, играет важную роль в антиутопии Евгения Замятина «Мы» (начата в 1920 г.). См., например, главу «Иррациональный корень»: „Не хочу √–1! Выньте из меня √–1! Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio”. В кн.:
Е. Замятин Мы.
Нью-Йорк. 1967. С. 37. Обратите внимание на сходство с замечанием Хлебникова:
каждое враждебное, постороннее собранию (не присутствующее в нём) будет √–1, существом мнимым (5: 156). В «Мы» женщину, в которую влюбляется герой, зовут I, т.е. √–1. Можно ли говорить о влиянии Замятина на Хлебникова в вопросе о мнимых числах, ещё предстоит выяснить.
 73 Lurker M
73 Lurker M. Götter und Symbole der alten Ägypter.
München. 1974. P. 84f.
 74
74 См., например, статьи «Рычаг чаши» (6-1: 126–130), «О втором языке песен» (6-1: 131–132), О простых именах языка (6-1: 117–120). Перечень. Азбука ума (6-1: 124).
 75
75 См., например, трактат «Рычаг чаши» (6-1: 126–130), названный в степановском пятитомнике «Разложение слова» (V: 198–202). Та же тема обсуждается в письме Алексею Кручёных 16.X.1913 (6-2: 160–161).
 76 И. Брагинский
76 И. Брагинский. Заметки о западно-восточном синтезе в лирике Пушкина // Народы Азии и Африки. IV. 1965. С. 117–126; 123.
Воспроизведено по:
Salomon Mirsky. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikov. München: Verlag Otto Sagner. 1975. C. 49–107.
Перевод В. Молотилова



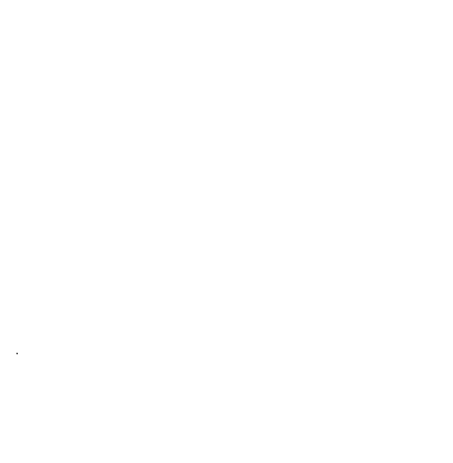 нение Лощица и Турбина о неразрывной связи представлений Хлебникова о времени и Востоке мы уже приводили.1
нение Лощица и Турбина о неразрывной связи представлений Хлебникова о времени и Востоке мы уже приводили.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
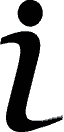 Попытаемся выяснить, как поэт пришёл к открытию русалки в √–1. Слово зорко предлагает искать ответ в визуальной области; при этом √–1 есть i, как показано выше. Рискуя навлечь обвинение в перетолковании (хотя по отношению к поэзии Хлебникова налицо прямо противоположная опасность, а именно недостаточно дифференцированная интерпретация), осмелимся предположить здесь, что намёк в строках 11–12 отсылает исключительно к зрительному восприятию — графическом знаку мнимой величины i. Не лишённому воображения наблюдателю этот математический значок (особенно в рукописном виде) может показаться воспроизведением головы, рук и хвоста нимфы, особенно если он знает о повышенном внимании Хлебникова ко всему рукописному (почерк самой начертательной дрожью руководит читателем — 6-1: 243). Другими словами, обозначение воображаемой (imaginär → i ) величины можно принять за своего рода схематический рисунок русалки, imaginären Frau.72
Попытаемся выяснить, как поэт пришёл к открытию русалки в √–1. Слово зорко предлагает искать ответ в визуальной области; при этом √–1 есть i, как показано выше. Рискуя навлечь обвинение в перетолковании (хотя по отношению к поэзии Хлебникова налицо прямо противоположная опасность, а именно недостаточно дифференцированная интерпретация), осмелимся предположить здесь, что намёк в строках 11–12 отсылает исключительно к зрительному восприятию — графическом знаку мнимой величины i. Не лишённому воображения наблюдателю этот математический значок (особенно в рукописном виде) может показаться воспроизведением головы, рук и хвоста нимфы, особенно если он знает о повышенном внимании Хлебникова ко всему рукописному (почерк самой начертательной дрожью руководит читателем — 6-1: 243). Другими словами, обозначение воображаемой (imaginär → i ) величины можно принять за своего рода схематический рисунок русалки, imaginären Frau.72![]()
![]()
![]()
![]()
