Ренато Поджоли
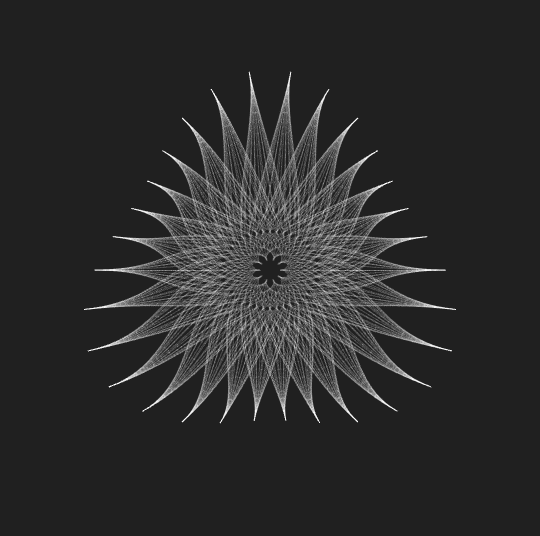
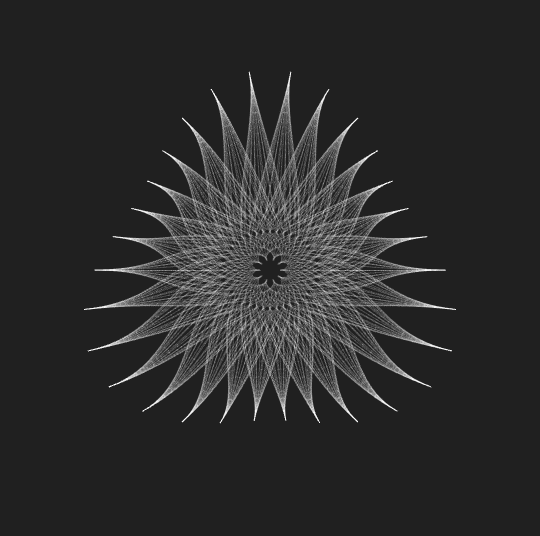
 ервые смутные слухи о манифестах Маринетти дошли до России в 1909 году. Не иначе как по ассоциации идей, вызванной раскатистым эхом нового имени, первой нарекла себя футуристами горстка молодых петербургских поэтов во главе с Игорем Северяниным и Вадимом Шершеневичем. Шершеневич стал теоретиком группы, а позже одним из столпов имажинизма. Хотя кружок московских футуристов оказался гораздо более деятельным и сплочённым, действительным центром русского футуризма он стал спустя несколько лет. Чтобы избежать обвинений в заимствовании у итальянских коллег — по совету их лидера Хлебникова, который был парадоксальным образом пуристом и архаистом в вопросах языка, — они назвали себя будетлянами (существительное от третьего лица будущего времени глагола быть) — “людьми грядущего” или “теми, кто будут” в переводе на обыденную речь. Доктрина Маринетти — он побывал в России с лекционным турне — их оттолкнула своей политической подоплёкой, своего рода буржуазным империализмом. Это привело к тому, что будетляне почувствовали себя не только независимыми, но и чуждыми франко-итальянской ветви футуризма. Позже, чтобы отмежеваться от своих петербургских соперников, с которыми они поначалу образовали союз (Северянин даже подписал кое-какие манифесты), будетляне переназвались кубо-футуристами. Аллюзия на творчество Брака, Пикассо и Аполлинера очевидна, то есть дистанцирование от группы Маринетти не мешало им следить за авангардными движениями Запада не только в области литературы, но и живописи.
ервые смутные слухи о манифестах Маринетти дошли до России в 1909 году. Не иначе как по ассоциации идей, вызванной раскатистым эхом нового имени, первой нарекла себя футуристами горстка молодых петербургских поэтов во главе с Игорем Северяниным и Вадимом Шершеневичем. Шершеневич стал теоретиком группы, а позже одним из столпов имажинизма. Хотя кружок московских футуристов оказался гораздо более деятельным и сплочённым, действительным центром русского футуризма он стал спустя несколько лет. Чтобы избежать обвинений в заимствовании у итальянских коллег — по совету их лидера Хлебникова, который был парадоксальным образом пуристом и архаистом в вопросах языка, — они назвали себя будетлянами (существительное от третьего лица будущего времени глагола быть) — “людьми грядущего” или “теми, кто будут” в переводе на обыденную речь. Доктрина Маринетти — он побывал в России с лекционным турне — их оттолкнула своей политической подоплёкой, своего рода буржуазным империализмом. Это привело к тому, что будетляне почувствовали себя не только независимыми, но и чуждыми франко-итальянской ветви футуризма. Позже, чтобы отмежеваться от своих петербургских соперников, с которыми они поначалу образовали союз (Северянин даже подписал кое-какие манифесты), будетляне переназвались кубо-футуристами. Аллюзия на творчество Брака, Пикассо и Аполлинера очевидна, то есть дистанцирование от группы Маринетти не мешало им следить за авангардными движениями Запада не только в области литературы, но и живописи.Последнее вполне объяснимо: подобно итальянским футуристам, в московскую группу входили не только поэты, но и художники, причём художники нередко и были поэтами. Таковы почти все братья Бурлюки — младшие Николай и Владимир, старший Давид (1882 г.р.). С группой были связаны живописцы Ларионов и Гончарова, из скульпторов — Липшиц.1![]()
Не удивительно, что активность будетлян больше выражалась в прокламациях и публичных выступлениях — как правило, скандальных, — чем в изящной словесности: печатные издания не отличались регулярностью. Это были антологии эпатажного свойства, где ведущие и второстепенные члены группы выступали на равных правах; самые значительные вещи принадлежали перу Хлебникова, наиболее законченному типу художника слова в раннем русском футуризме. Названия этих сборников говорят о склонности их составителей к парадоксам: «Садок Судей» (I и II, 1909 и 1913); «Пощёчина общественному вкусу» (1912); «Рыкающий Парнас» (1914); «Труба марсиан» (1916) и т.п. Даже беглое знакомство с их содержанием показывает: русский футуризм теоретически (проблемы языка и стиля, стихосложения и формы) и технически менее поверхностен, чем его итальянский эквивалент. Разработка футуристической поэтики — заслуга в первую очередь Велемира Хлебникова, способного как на прорывные открытия, так и на острый эксперимент. Вклад Алексея Кручёных (родился 1886 году и до сих пор проживает в России) в теоретическую базу футуризма кажется более ценным, нежели его поэтическая практика. И, наконец, выдающимся организатором и пропагандистом движения в его героические годы был Давид Бурлюк, чудом сохранившийся как художник после отъезда из России в начале двадцатых годов (ныне в Нью-Йорке).
Теоретизирование было коньком ранних футуристов; лидировал в этом, как уже сказано, Велемир Хлебников. Знаменосцем группы в политическом и практическом плане оказался Маяковский, за которым последовало множество молодых поэтов, самым известным из которых стал Николай Асеев, одним из последних присоединившийся к московским футуристам. Судя по статье «Капля дёгтя» в сборнике «Взял» (третье лицо прошедшего времени глагола брать, 1915), Маяковский предчувствовал метаморфозу русского футуризма ещё в самом начале Первой мировой войны. Он пророчествует о близком обоюдном триумфе революции и футуризма: последний уже „мёртвой хваткой ВЗЯЛ Россию”. После войны и революции Маяковскому удалось обеспечить неофутуристам довольно спорные победы в кампаниях, которые он вёл в качестве главного редактора журнала «ЛЕФ» (аббревиатура Левого Фронта Искусств, 1923–1928). Маяковский надеялся добиться от советской власти права на монополию возглавляемого им движения. В то же время он делал всё зависящее от него, чтобы ввести движение в рамки нормы, стремился удержать его в состоянии хотя бы шаткого равновесия между вкусами публики и линией партии. Этим он защищал себя и своих соратников от нападок и правых, и леваков от культуры. Утратив контроль над ситуацией, он основал «Новый ЛЕФ» (1927–1928), который был призван, по его словам, стать „левее ЛЕФа”. Незадолго до смерти суровые реалии советской действительности практически вынудили его распустить движение, которому отдал лучшие годы своей жизни.
Именно благодаря единственному поэтическому достижению Маяковского — духовной связи, которая некоторое время существовала между его творчеством и восторженными настроениями молодёжи после революции, — второй период русского футуризма важнее первого. Но в качестве искателей новых форм и пионеров неизведанных эстетических областей футуристы старой гвардии оставили гораздо более глубокий след в русской литературе. В основном, благодаря неустанному поиску Хлебникова, как уже сказано. И всё же два поколения русского футуризма в равной степени отличались от итальянцев тем, что проявляли агрессию по отношению к современной литературе своей страны, а не к её национальным корням. Да и превозносили блага цивилизации они в меньшим пылом, чем их западные соперники, полностью подчинённые тому, что они называли „эстетикой машины”. В России пиетет перед современной индустрией возник уже во времена ЛЕФа, как следствие коммунистического преклонения перед фабрикой и заводом.
По букве своих заявлений, а иногда и по духу своих поступков, будетляне с первых шагов группы сочувствовали идеалам социальной справедливости. Над ними никогда не стоял эгоистичный и тиранический вождь вроде Маринетти, они были индивидуалистами в гораздо меньшей, чем итальянские коллеги, степени; как группа, действовали более последовательно и сплочённо. Будущие кубо-футуристы неизменно выступали против декадентского ячества, в первом же манифесте заявив, что будут „стоять на глыбе слова ‘мы’ среди моря свиста и негодования”. Собственно говоря, неприятие любой формы самолюбования художника и стало главнейшим из разногласий, которые привели кубо-футуристов к разрыву с поэтами петербургского круга, многозначительно нарекшими себя эго-футуристами.
Последние были озабочены лишь тем, как элегантнее задрапировать ветхие чувства и настроения, а то и скрыться под замысловатой личиной, кубо-футуристы же действительно стремились к созданию новых форм. В то время как посмертный пример Coup de Dés Малларме подсказал Маринетти доктрину, оказавшуюся не более чем голословным провозглашением mots en liberté,2![]()
В конце концов, доктрина Маринетти о mots en liberté, провозглашая упразднение синтаксиса, обернулась всего лишь отменой пунктуации и мелкими, чисто внешними или техническими эффектами — звукоподражанию и фокусам типографской вёрстки. Левое же крыло русского футуризма — иначе говоря, кубо-футуристы — стремилось к созданию нового вида поэзии, основанной на чётко продуманном, сконструированном именно под эту задачу языке. Их цель состояла в том, чтобы расширить общепринятое значение каждого слова, более того — изобрести слова, морфологически новые и, следовательно, лишённые предустановленной коннотации. Созданный таким образом трансментальный язык получил название заумь. Кручёных однажды изложил теорию “заумной” поэзии следующими словами:
Метод Хлебникова оригинальнее и сложнее, поэтические опыты его не сводились к упражнениям в зауми, произвольной по определению. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что среди известных поэтов единственным, кто с головой окунулся новую лингвистическую среду, был Кручёных. Его “заумные” стихи обычно состоят из выдуманных односложных слов, сбитых в столбцы или строки на основе ассоциативной силы фонетических предположений или этимологических аллюзий; на содержание произведения, если таковое имеется, намекает разве что заголовок. Эти пьесы — из числа весьма немногих стихотворений раннего футуризма, имеющих отношение к метрическому эксперименту типа верлибр; кроме того, они не рифмованы (случайная и нестандартная рифма вновь появится в верлибре Маяковского). За исключением этого формального аспекта и вопреки лучшим намерениям её авторов, русская “заумная” поэзия кончила достижением эффектов, подобных заурядной бессмыслице. Это не означает, что попытки Кручёных или менее буквальная заумь Хлебникова лишены ценности или интереса.
Несмотря на сильную полемическую позицию футуризма по отношению к символизму, очевидно, что “заумная” поэзия напрямую связана с некоторыми крайностям символизма — подобна, по существу, экспериментам признанного мастера французской поэзии Малларме на излёте жизни. И суггестивная вербальность символистов, и чувственная вербальность декадентов с их подчёркнутым культом мелодии неизбежно способствовали развитию в упомянутых выше направлениях. Кроме того, некоторые идеи Кручёных, кажется, предвосхищают доктрину сюрреалистов, которые, несмотря на их решительный протест против такого заявления, являются не более чем детьми, если не внуками символистов. Кручёных предвосхитил, например, те самые гипотезы, на которых сюрреалисты зиждили свои концепции “онейрической3![]()
Виктор Владимирович Хлебников, избравший псевдонимом славяно-языческое имя Велемир,4![]()
![]()
Призванный в армию во время Первой мировой войны, он дезертировал после революции, а гражданская война застала его в Харькове. Там он познакомился с Асеевым, выпустил в соавторстве с ним альманах «Труба марсиан», а затем вступил в ряды коммунистической партии и служил новому режиму на Украине, на Кавказе и в Иране.6![]()
![]()
![]()
Несмотря на ярлык, поэзия Хлебникова не футуристична в прямом смысле этого слова. Это одинаково верно как с точки зрения излагаемых им идей и чувств, так и с точки зрения формы и техники. Хлебников смотрел на современную жизнь с отвращением; он усердно предавался экспериментированию в области языка и математическим вычислениям, в то время как соратники его зачастую довольствовались провозглашением самых радикальных новшеств в резонансных манифестах или риторических прокламациях. Исполненный равнодушия к злобе дня, то есть наиболее привлекательным или отталкивающим аспектам современности, он углубился в славянскую мифологию и создал по её мотивам несколько поэм. Говоря обобщённо, его страстью было наследие родового и первобытнообщинного строя, которое составляет предмет изучения археолога и антрополога.
Творчество Хлебникова дышит своего рода пантеистическим вдохновением а-ля Уолт Уитмен, но это пантеизм неприятия настоящего и бегства в прошлое ради мечты нащупать дорогу к раю первобытной невинности во мраке предыстории. С этой точки зрения его поэзия имеет мало общего с движением, которому он присягнул. А ведь футуризм был в России новейшим и наиболее радикальным проявлением западнической тенденции в литературе, тогда как в Италии он оказался безотчётным, по сути, перепевом идеи прогресса, выдвинутой XIX веком. Хлебников, пожалуй, один из самых последовательных славянофилов в истории русской поэзии: он даже предвосхитил реакционную идеологию группы эмигрантов из числа историков и географов, где утверждалось, что Россия и Сибирь есть этнографическая и геополитическая единица, шестой континент Евразии.9![]()
Мыслью Хлебников постоянно возвращался к тому времени, когда леса и равнины европейской и азиатской России были ещё населены духами деревьев и вод. Такой ностальгии полна поэма «Шаман и Венера», где классическая мифология воедино слита с варварской: богиня любви предлагает себя отнюдь не герою или полубогу, а монголу, сибирскому колдуну. Неприятие Хлебниковым технического прогресса трагически выражено в поэме «Журавль», где машины, создания и рабы человека, восстают против этого изменника природе и самому себе.
Было бы неправильно толковать слишком буквально многочисленные сочинения Хлебникова на исторические сюжеты — таковые отнюдь не самоцель, а средство познания архаичной подосновы человека. Оттого и настойчива хлебниковская ретроспектива, что „время не знает преград ‹...› ум соединяет разные эпохи”. Нарушением хронологии, переходом из одной категории времени в другую Хлебников поверяет не только жизненный опыт человечества, но и отдельной личности. Так, в рассказе «Мирсконца» биография главного героя перевёрнута, и автор прослеживает её от могилы до колыбели.
Как показывает приведённое выше суждение Гумилёва, анонимная, почти хоровая торжественность поэзии Хлебникова побудила некоторых критиков назвать её эпической.10![]()
![]()
Иногда Хлебникову («Свобода для всех») кажется, что революция — шаг к посмертному перевоплощению; он — что немаловажно — обещает воскресить даже богов первобытной славянской мифологии.12![]()
![]()
Нет ничего более впечатляющего, нежели это приравнивание войны к листопаду и бурелому — словом, к осени и зиме. Здесь Хлебников ещё раз обнаруживает склонность переводить события летописи человечества на язык естественной истории, перетасовывать эпохи и времена года, вводить в микрокосм законы и пропорции Вселенной. Индифферентность и анахронизм, а также использование метафизических и метаисторических категорий очевидны и в предпринятой им лингвистической революции. Как реформатор словесности, Хлебников независимым от мейнстрима литературного движения, к которому принадлежал. В то время как средний футурист начинает с традиционной лексики и грамматики, а уж потом выдумывает бессмысленные слова и коверкает синтаксис, Хлебников заглядывает в кладовую родной речи, приникает к её истокам, чтобы обновить язык, выстроить нерушимую связь чистых форм и совершенных слов. Неологизмы и варваризмы, заурядные в футуристской идиоматике, он обогащает архаизмами и славянизмами, и его сочинения кажутся буквальным выполнением поэтической задачи, поставленной Малларме: „donner un sens plus pur aux mots de la tribu”.14![]()
Как филолога, Хлебникова особенно интересовала начальная стадия эволюции языка. Именно там он пытался найти таинственный зародыш или вместилище15![]()
![]()
Свои теоретические воззрения он пытался претворить в жизнь, произведя ряд опытов. Именно такого плана стихотворение «Заклятие смехом», где налицо попытка добиться некоего лирического катарсиса этимологической единицы. Здесь нет ни одной из форм глагола быть, все слова без исключения образованы от славянского корня смех. Таковой употребляется во всех известных формах и возможных вариантах: существительные и глаголы, прилагательные и наречия, падежи и виды, времена и наклонения, производные и сложные; всё это перемежается неологизмами, убедительно сконструированными с помощью нескольких приставок и суффиксов. Благодаря такому сведéнию стихотворения к слову-идее эксперимент с лингвистической точки зрения имеет исключительно фонетический и морфологический характер. Как произведение искусства, оно достигает успеха в качестве поэтического эквивалента музыкального произведения типа «Тема с вариациями».
Лингвистические интересы и склонность к экспериментированию связывают творчество Хлебникова с теориями формальной школы критики. Но поэт, будучи прирождённым филологом, впал в деспотизм и мистику, подобно некоторым символистам. Одержимый древним мифом об универсальном (адамическом или райском) языке, он пытался реализовать свою мечту с помощью методов, напоминающих “научную поэзию” Рене Гиля. Валерий Брюсов был не единственным в России, кто обратил внимание на творчество этого француза, оказавшееся на поверку чистой воды каббалистикой. Белый двинулся в том же направлении, доведя символистское учение о “синкретизме искусств” до крайностей мистики («Глоссолалия»). Хлебников изложил свою позицию следующими словами: Увидя, что корни лишь призрак, за которым стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки — мое второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку.17![]()
Очевидно, под единицами азбуки Хлебников понимал не только звуки, но и обозначающие их знаки; подобно Белому, ему хотелось не только говорить или петь, но и “рисовать словами”. Это привело его к экспериментам и с чисто вербальными, и с невербальными знаками: его исследования в области общего символизма есть поэтическое предвосхищение современной семантики. Ранние словесные упражнения Хлебникова были искусным манипулированием заумью, о чём свидетельствует преобладание звукоподражательных эффектов. Но, в то время как мы вынуждены приравнять сочинения других “заумных” поэтов к явной бессмыслице, такого рода опыты Хлебникова уснащены — иной раз перегружены — всякого рода значениями, не только словесными, но и визуальными, а также идеографическими. В них преобладает система аллюзий, где появляются, подобно знакам иероглифического письма, исторические отсылки и иконические символы. Но и они приведены к общему знаменателю языковой структуры, играя одновременно роли грамматических функций и мифов.
Так, в стихотворении без названия, начинающемся строкой Усадьба ночью, чингисхань, ряд имён собственных, принадлежащих культурной или исторической традиции, использованы в качестве прилагательных или атрибутов, описывающих подробности ландшафта. Вот почему они пишутся со строчной буквы. Если, например, усадьба ночью — это Чингисхан, то заря ночная — Заратустра, а небо синее — Моцарт. Странность и произвольность этих методов можно в равной степени одобрить или порицать, а их важность слишком легко переоценить. Но мы не должны останавливаться на технических деталях как таковых. Важно то, что с помощью этого приёма поэт открывает нам двери в особый мир, где обиход человека и знаковые события становятся качествами вещей, а история и быт низводятся или возносятся до состояния природы как таковой. Подобными видениями, а не только смелым языком, поэт Хлебников гораздо больше, чем Андрей Белый, романы которого столь часто сравнивали с «Улиссом», напоминает Джойса, особенно его «Поминки по Финнегану».
Итак, в то время как Маяковский — почти помимо своей воли — взвалил на себя задачу воспеть “созидание социализма”, Есенин оставался поэтом “избяной и постной Руси”.18![]()
Он родился в 1895 году в селе Константиново Рязанской губернии. Отец и мать будущего поэта уехали на заработки в Москву, и мальчика воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии, зажиточные крестьяне. Они-то и привили ему любовь к старой вере и незамысловатым сказаниям русского народа. Поначалу он хотел стать сельским учителем, но в школе, благодаря чтению Пушкина, ему открылась таинственная магия поэзии. Он уехал к отцу в Москву, где, помимо прочего, работал в книжном магазине и в типографии, мечтал о литературной карьере и писал свои первые стихи. В 1914 году он поселился в Петрограде, где стал протеже Сергея Городецкого, довольно искусственного поэта, нашедшего свою музу в мифологии языческой Руси. Вскоре он познакомился с Клюевым, и вместе с ним какое-то время руководил группой крестьянских поэтов. В 1916 году он издал свой первый сборник стихотворений, которому, как и многим другим своим книгам, дал название столь замысловато славянское, что его практически невозможно перевести: «Радуница».
Вскоре после этого он был призван в армию, но служил в русском Версале — Царском Селе, воспетом молодым Пушкиным. К тому времени его имя было хорошо известно; сообщается, что однажды его пригласили почитать свои стихи императрице, — похоже, он отклонил приглашение. В это время он попал под влияние радикального критика Р.И. Иванова-Разумника,19![]()
Позже, в Москве, он пытался доказать свою независимость не только от Клюева, но и от ярчайших звёзд русского поэтического небосвода — Блока и Маяковского, — основав вместе с другими молодыми литераторами движение под названием имажинизм. Именно тогда и там он начал вести жизнь богемы, то есть предаваться оргиям и скандалить. Однажды вместе с собутыльниками из числа имажинистов Есенин провёл ночь тюремной камере: их арестовали за написание своих имён на уличных указателях. Психологический надлом тех лет ярко передан в «Исповеди хулигана» (1920) и в цикле «Москва кабацкая» (1923–1924). Экспериментальные приёмы имажинизма нашли своеобразное выражение в лирике «Трерядницы» и в драматической поэме «Пугачёв» (1921).
Именно в 1921 году Сергей Есенин впервые встретил известную американскую классическую танцовщицу Айседору Дункан, достигшую к тому времени бальзаковского возраста. Они стали любовниками и поженились в 1922 году. Не умея говорить друг с другом, супруги нашли общий язык в роскоши и пьянстве. Обеднев от расточительства, Айседора Дункан решила устроить гастроли за границей, и Сергей сопровождал её в длительном турне по Западной Европе и Соединенным Штатам. Это была жалкая одиссея, полная злоключений и неудач. Есенин жестоко разочаровался в Западе и топил свое отчаяние в алкоголе. Когда он вернулся в Россию, его психическое и физическое здоровье было жесточайшим образом подорвано. Он порвал с мисс Дункан и женился в 1925 году на внучке Льва Толстого; она ходила за ним как нянька, а после самоубийства стала хранительницей литературного наследия и весталкой памяти. В страхе, что творческие силы покинули его навсегда, 27 декабря 1925 года Есенин повесился в номере ленинградской гостиницы. Накануне вечером, не найдя чернильницы, он взрезал вену на запястье и написал кровью краткое прощальное стихотворение, которое заканчивалось знаменитыми строчками: „В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей”. Маяковский ответил на это рифмованной филиппикой; кто бы мог подумать, что до ухода из жизни по своей воле ему осталось каких-нибудь пять лет.
В поэзии Есенина есть хотя и второстепенная, однако не слишком отличающаяся от некоторых особенностей творчества Маяковского нотка. Это апокалиптические настроения, которые налицо и в «Преображении» и в «Инонии» (слово, придуманное автором, означающее иная земля). Здесь стих Есенина, как и стих Маяковского, переполнен “гиперболическими” и “иконоборческими” образами, которые в данном случае порождены болезненным и даже извращённый мистицизмом, зачастую переходящим в ересь и кощунство, в пародию на христианские надежды космического преображения. В этих двух поэмах Есенин становится светским апостолом нового Евангелия, провозвестником нового земного царства, провидцем революции как земного рая для крестьянина и пастуха. Эти два произведения весьма отличаются от позднейших поэм преимущественно автобиографического характера, выпукло показывающих разочарование поэта революцией; они полны стенаний крестьянского сына, изгнанного из деревни, неприкаянного в чуждом ему мире города.
И ранние произведения о революции (самая слабая часть его творчества), и поздние автобиографические поэмы иноземному читателю слишком часто кажутся высшими проявлениями таланта Есенина. Разумеется, никто не может отрицать их значения как человеческих и социальных документов. И всё же, подлинные есенинские шедевры следует искать в его немногословной и менее амбициозной лирике. Неприхотливые элегии и простодушные идиллии, лишённые любого рода риторической и анекдотической подоплёки, кажутся лёгкой паутиной из прозрачных слов, сотканной вокруг поразительно ярких образов. Любую из них можно свести к пейзажу и отклику на него в душе поэта. Элемент повествования отсутствует или крайне скуден, зато волшебная аура легенды или сказки покоряет с первых слов. Поэт воссоздаёт частную и интимную вселенную, домашнюю и деревенскую, где предметы косной природы очеловечены по-детски наивным анимизмом. Именно по-детски: центральный образ каждого из таких стихотворений — пазл для малышей, который предлагается сложить, начиная с заглавия.
Из той же простоты мировоззрения следует любовь Есенина ко всему красочному, яркому, живописному. Его любимый цвет — цвет чистого неба во всех его оттенках; он так любит его, что приписывает своей родине, „голубой Руси”. Кроме того, его стихотворения словно глазурованы белым и жёлтым, что создаёт впечатление золота и серебра, отсылая читателя к иконописи и средневековой миниатюре, византийской мозаике, лубочным картинкам или гравюрам. Этот хроматизм — не только декоративный, но и композиционный элемент, усиливающий стилизацию видения поэта, столь очевидную в статике его пейзажей с их неподвижными фигурами и вневременным настроением. Но почти всегда безмолвие сменяется внезапным взрывом песни, которая превращает застой в экстаз и заливает всю сцену мелодичной печалью, которая вибрирует каждой струной.
Чувство космической боли внушается неизменным отождествлением: люди, звери, растения и звёзды у Есенина равны друг другу. Для него нет разницы между людским горем и слезами самой ничтожной твари, почти вещи. В убеждении, что только смиренные возвышены будут, поэт даже небесное тело, которое любит больше всего — Луну, — зачисляет в мир животных и проводит через ряд метаморфоз, превращая то в медведя, то в лягушку. В том же духе, печалуясь ускользающей молодостью, он разговаривает со старым клёном; признаваясь в любви к девушке, обращается к берёзке.
Именно звери оказываются оплотом веры поэта в существование всеобщей, братской и мистической связи, единящей человека и бессловесную тварь, флору и фауну, живую и косную природу. Животные для Есенина — самые человечные и гуманные20![]()
Как поэт избяной России, Есенин протестовал и против вторжения в русскую деревню технологических монстров цивилизации: телеграфных столбов и электрических проводов, паровых машин и стальных вышек, строительства которых требовали пятилетние планы индустриализации страны. Эта тема со всей полнотой раскрыта в «Реквиеме»,21![]()
![]()
Как известно, Есенин искал спасения в искусственном раю алкоголя, в аду “огненной воды” — это рефрен «Москвы кабацкой». Единственным выходом виделось самоубийство, и двойное страдание от столь краткого существования и насильственного конца доказывает правоту его утверждения: „поэт приходит на землю, чтобы всё понять, но ничего не принять”.23![]()
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 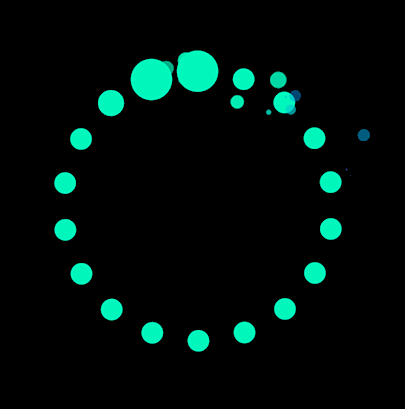 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||