

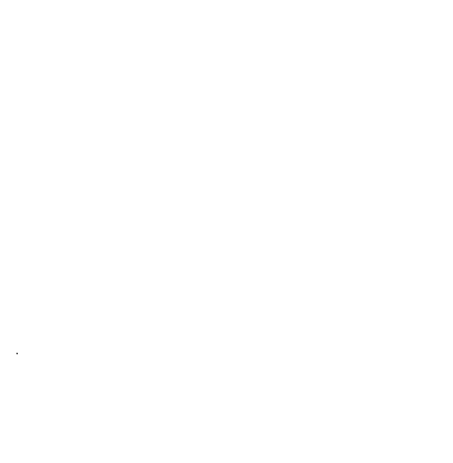 иф о Китае в русской поэзии Серебряного века1
иф о Китае в русской поэзии Серебряного века1![]()
Для обоснования этого тезиса я сошлюсь на двух представителей разных литературных школ, которые придерживались иной раз прямо противоположных поэтических и культурных взглядов: Николая Гумилёва (1886–1921) и Велимира Хлебникова (1885–1922). Исследователи основательно изучили отношение этих поэтов к Востоку и сравнили их поэтику,2![]()
При этом Гумилёв и Хлебников переосмыслили Китай независимо друг от друга, а в отношении семиотической карты Китая как культурной концепции — с разных точек зрения. Гумилёв заимствовал образы классической китайской литературы, воспроизводя их с новыми коннотациями и подтекстами, Хлебников углубился в китайскую историю и философию ради благоустройства своей поэтической вселенной. Для акмеиста пейзаж и настроение в китайской классической поэзии — пример силы первозданного поэтического языка, в то время как для футуриста китайский иероглиф — возможная модель зауми (запредельного смысла), языка поэзии будущего.
Увлечение русских поэтов Серебряного века Востоком объясняется не только исконным стремлением России познать самоё себя, но и гуманитарным кризисом на Западе, который удвоил эту тягу. Китай, наряду с другими странами Востока, распахнул перед неофитами новые горизонты в плане культурной многополярности, которая противостояла бы доминирующему в отечественной культуре евроцентризму.
Интерес русских поэтов к Китаю, особенно к китайской поэзии, возник задолго до Гумилёва и Хлебникова. Приобщил соотечественников к поэзии Китая Михаил Михайлов (1829–1865), в 1861 году адаптировав сделанный Фридрихом Рюккертом (1788–1866) немецкий перевод одного из стихотворений «Ши цзин», древнейшего (VI в. до н.э.) памятника изящной словесности Китая.

В 1910 году филолог и китаевед Василий Алексеев (1881–1951) опубликовал «Стихотворения в прозе поэта Ли Бо, воспевающие природу», на этот раз перевод с подлинника. Под его руководством Юлиан Щуцкий (1897–1938) составил в 1923 году «Антологию китайской лирики VII–IX вв. по Р.Хр.», куда включил и самостоятельные переводы поэзии времён династии Тан. К этому времени русские футуристы уже имели возможность ознакомиться с китайской поэзией благодаря «Свирели Китая», сборнику классической поэзии в переводе Вячеслава Егорьева (1886–1914) и Владимира Маркова (Волдемарса Матвейса, 1877–1914), изданному Санкт-Петербургской группой художников «Союз молодёжи» в январе 1914 года, шестью месяцами прежде выхода «Изборника стихов» Велимира Хлебникова. (Kovtun, 1987: 58).
За растущей увлечённостью русских поэтов того времени Востоком — в частности, Китаем — угадывается политический стимул: последствия русско-японской войны обострили социально-политический кризис России, вскрыли неотложность переосмысления государственного устройства страны и заставили интеллигенцию переосмыслить свою национальную идентичность и судьбу. Поэты и философы-символисты вдруг ощутили близость России к Востоку: именно в их кругу Китай стал литературным тропом.
Поэт-символист Андрей Белый (1800–1934) допускал возможность того, что культурная и политическая ситуации в России приведут к синтезу Востока и Запада. В 1909 году он приступил к обоснованию своего прогноза: «Серебряный голубь» и «Петербург» — первые части задуманной трилогии. В «Петербурге» китайский антураж не чужд отцу и сыну Аблеуховым в бытовом плане, но Китай как цивилизация здесь — метоним Востока, сыгравшего значительную роль в формировании взглядов Белого на историческую идентичность России. Дмитрий Лихачев (1906–1999) в редакторском предисловии к роману пишет:
Иными словами, вопреки знаменитому речению Редьярда Киплинга (1865–1936) „Восток есть Восток, а Запад есть Запад”, вопрос о России, с точки зрения Белого, должен ставиться как вопрос о Востоке и Западе одновременно.
В «Китайских стихах» переложения с французского перемежаются авторскими строфами с тщательно отобранными из общевосточной парадигмы элементами шинуазри (китайщины). Калейдоскоп расхожих образов китайской классической поэзии полон меланхолическим настроением затаённой тоски и обманутого ожидания. Если бы не разнобой имён авторов, может создаться ложное впечатление, что всем стихотворениям сборника нетрудно подобрать соответствия в «Яшмовой книге» Готье. Гумилёв, например, приписывает стихотворение «Дорога» Тзе Тие, в то время как Готье сообщает, что автор его неизвестен. Возможно, Гумилёв использовал для своих переложений и другие источники, что подтверждается его собственным признанием: „основанием для этих стихов послужили работы Жюдит Готье, маркиза Сен-Дени, Юара, Уили и др.” (Гумилёв 1962: 303).
«Китайские стихи» — единственный сборник Гумилёва, полностью посвящённый тематике Китая и Индокитая. Однако поэт изливал свою тоску по восточным краям и раньше. В стихотворении «Путешествие в Китай» (1909) читаем:
В этих строках скрыт важнейший вопрос: как дóлжно понимать гумилёвский Китай? Что именно думает найти лирический герой в стране, которая его так манит? Критик Майкл Баскер заостряет внимание на последних двух из процитированных выше строк — в них, по его мнению, и сокрыт ключ к расшифровке гумилёвского Китая: попасть туда можно и после смерти. Очевидно, в основе такой концепции лежит отнюдь не география.
Облегчить себе понимание того, почему путешественники Гумилёва не умрут, погибнув на пути в Китай, можно, вспомнив параллельное его название: Поднебесная. Причём в русской поэтической традиции этот метонимом Китая совпадает с противоположением “горнего” “дольнему”. В стихотворении Александра Блока (1880–1921) «Жизнь, как загадка, туманна...» читаем:
Оказывается, гумилёвское путешествие в Китай равнозначно возвращению туда; это не физический локус, где лирический герой и его спутники ещё не бывали, а уже знакомая им духовная сущность, скрытая в подсознании. Путешествие в “Китай” не простирается дальше утраченной грани “я”, которую “мы” стихотворения сообща пытаются вернуть.
Тема возвращения связана с Китаем и в «Пилигриме» из того же сборника:
Под „флейтой осени” в классической китайской поэзии подразумевается ностальгия. Лирический герой Гумилёва совершает “мысленный рывок” на родину — место, вполне достижимое посредством “перемещения в памяти”.
Мотив “духовного прибытия” налицо и в стихотворении «Дом»: некто, плывя ночью на корабле, оплакивает свой уничтоженный огнём дом — и вдруг утешается отражением женщины в лодке:
Перспектива обретения духовного пристанища, которое созиждется в „сердце её”, восполнит утрату родного дома. Да, на берегу погорелец оставил пепелище, но сознание обретённой цели вызывает прилив жизненной энергии и сводит сердечную смуту на нет. В ностальгическом настроении этого стихотворения угадывается попытка повторного открытия духовной идентичности, переосмысления себя.
Связав гумилёвский Китай с лейтмотивом возвращения, мы неизбежно задаёмся вопросом: что поэт хотел там найти? Дело в том, что восточный пласт его поэзии богат отзвуками китайской религии и философии, воспринятыми образованными россиянами ещё в допетровские времена.
Поиск культурной самобытности России привёл, в частности, к русскому религиозному ренессансу. Как православное христианство в России, так и буддизм на Востоке отражают настроение умов и быт доиндустриального уклада. Православие — краеугольный камень русского менталитета; буддизм, в свою очередь, сыграл важную роль в формировании индийских и китайских культурных традиций. Увлечённость буддизмом обернулось для Гумилёва признанием роли этого вероучения на Востоке равноценной значению православия для России.
Среди различных буддийских доктрин Ольга Улокина, исследовательница Гумилёва, выявляет близость поэту китайского Чань — концепции, развившейся из санскритского слова дхьяна (“медитация”). Чань в буддийской практике — набор дисциплин с особым акцентом на неразличимость мира и личности, субъекта и объекта, внутреннего и внешнего. „Одно — это всё, всё едино”, — писал Третий чаньский патриарх Цзяньчжи Сэнцань в поэме «Синьсинь Мин» (VI век). Хотя слово ‘синь’ заглавия буквально переводится ‘сердце’, его семантический диапазон значительно шире, включая неразрывное единство субъективного (разум) и объективного (дух). Любопытно, что Гумилёв в своём стихотворении «Я верил, я думал» (1912) изображает „сердце” именно таким:
В первом катрене поэт воображает своё „сердце” „фарфоровым колокольчиком” (фарфор появится и в стихотворении «Фарфоровый павильон» из «Китайских стихов»), который вдруг оказался „в жёлтом Китае”. Девушку из второго катрена, которая сосредоточилась на звуке этого колокольчика, можно переосмыслить так: болезненное одиночество „сердца” позади, оно уже воплощено вовне и проявляет себя как воспринимаемый объект. Тем не менее, „сердце” не утратило свободы воли, поскольку „звенит” без постороннего вмешательства. То, что „сердце” Гумилёва существует как объект и субъект одновременно, тесно сближает его с понятием синь в учении школы Чань.
Присущие китайскому менталитету ценности, подобные синь, органично — до полного слияния — вписываются в поэтический мир Гумилёва; поэт даже пытается восстановить восточный этос русской культурной традиции:
Гумилёв сочинил это стихотворение «Пантум» во время своего пребывания в Париже (там же написаны и «Китайские стихи»), где он познакомился с художниками-авангардистами Натальей Гончаровой (1881–1962) и Михаилом Ларионовым (1881–1964). Они разделяли его увлечённость восточной культурой. Более того — видели в искусстве Востока источник всех искусств. Гончарова в предисловии к Каталогу персональной выставки заявляет:
Именно из этого приобщения к ценностям культуры не европейских народов процвёл неопримитивизм. Процвёл и породил футуризм.
Хлебников был не только революционером поэтического языка, но и „мифологизирующим художником слова” (Баран, 2002: 30), причём свои мифы он строил не только на отечественной архаике, но и на культурных традициях отдалённых регионов Азии и Африки. Для модернистской эстетики это не новость, но антиевропейскую и универсалистскую тенденцию в идеологии Хлебникова следует признать явлением исключительным.
Универсалистский идеал выразился в попытке поэта выявить параллелизм исторических событий у самых разных народов и в какие угодно времена. В своей статье «Битвы 1915–1917 гг. Новое ученик о войне» (1915) Хлебников выдвинул гипотезу: зеркало жёлтого мира (Азии) отражает судьбы белого мира (Европы):
Таким образом, Хлебников полагает, что войны материка (Китай, Германия) и островов (Япония, Британия) пронизаны единым ритмом. Как утверждает Хенрик Баран, эта уверенность породила миф о белом Китае (ср. с гумилёвским „колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае”), который в рассказе «Ка» (1916) означает Германию:
Хлебников предвидел войну с Германией ещё в статье «Западный друг», написанной для журнала «Славянин» в ответ на заявление рейхсканцлера Бетман-Гольвега (1856–1921) о том, что славяне представляют опасность для западного мира. Поэт не только атакует германский и австро-венгерский милитаризм, но даже предлагает славянам заключить союз с мусульманами и китайцами:
С другой стороны, Азия вызывала у Хлебникова чрезвычайный интерес в качестве объекта, по типу мышления противостоящего европейской цивилизации. Суперсага (сверхповесть) «Азы из узы» (опубликована в 1930 году) — его последняя попытка „сконструировать “паназиатское сознание” в поэзии” (Баран, 2002: 315). Согласно Барану, мы сталкиваемся здесь с парадом событий и персонажей, легендарных и вполне реальных: таковы Хи и Хо, древние китайские астрономы.
Баран полагает, что строки «Азы из узы»
Вот ещё один эпизод истории Древнего Китая:
Баран подметил его сходство с фрагментом «Детей Выдры», дающем более чёткое представление об историческом контексте этих строк (Баран, 2002: 318). Оказывается, Хлебников подразумевает важное в истории Китая событие: во время битвы при Ямене Лу Сюфу, министр южной Сунской династии, прыгнул в море с малолетним императором Ди Бином, чтобы не попасть в руки победителей, монгольской династии Юань. Эта битва предопределила первую в истории утрату ханьцами господствующего положения в Китае.
На примере «Азы из узы» хорошо видно, что Хлебникова интересовала не только история, но и религия Китая, которая нашла место в его мозаике верований всевозможных времён и народов:
Шан-ди (Шангти) — верховное божество китайского религиозного менталитета — и Тянь (Тиэн) — небо в древнекитайской космогонии — здесь равные среди равных в кругу языческих божеств японцев, славян, греков, индусов и т.д.
Отношение Хлебникова к Азии раскрывается не только его признанием азиатской струи русского менталитета, но и декларацией своей принадлежности к Востоку по праву рождения. Причастностью к великой степи (Хлебников родился и провёл детские годы в Калмыкии) поэт гордился. В отрывке «Должна ли история начинаться с детства?» (1919) налицо и китайский элемент:
Исходя из этого признания, а также из дискуссии вокруг «Ka» и «Азы из узы», допустимо рассматривать Китай у Хлебникова как воплощение заложенной в идентичности русских “азиатчины”, которая помогала и поможет им противостоять издержкам европеизации.
Китай играет особую роль в хлебниковской универсализации не только на идеологическом уровне, но и в области поэтики. Эстетическая продуктивность китайских иероглифов повлияла на его проект универсального языка, который он постоянно поверял своей поэтической практикой. В воззвании «Художники мира!» (1919), которое первоначально называлось «Письменный язык Земного Шара: система иероглифов, общих для народов планеты», сказано:
Визуальное качество слова, по мнению Хлебникова, неразрывно связано с его звучанием. Вот одно из самых известных стихотворений поэта, «Бобэоби пелись губы...» (1913):
Здесь губы, взгляды, брови и т.д. рисуются посредством артикуляции; это и есть то, что Хлебников называет звукописью. В заметке начала 1922 года он заявил, что соответствия ему представляются врождённой связью между визуальным и слуховым восприятием слова:
Хлебников считал признание соответствия визуального звуковому важным шагом на пути к совершенствованию языка зауми. В пояснении к стихотворению «Звукопись» (1921) читаем:
«Бобэоби пелись губы...» предполагает синестетическое восприятие слова, в котором оно становится видимым через звук и слышимым через форму.
Хлебников рассматривал визуальную форму как ключ к универсальному языку, потому что он понимал её значение в происхождении языка, как он объясняет в «Художники мира!»:
Очевидно, Хлебников рассматривает иероглиф как одну из письменных форм, сохранившую изначальное “живописное” лицо, и считает китайские и японские иероглифы возможной моделью языка зауми:
Признание Хлебниковым китайских иероглифов надёжными ментальными посредниками перекликается с его высказыванием о роли авторского почерка в изящной словесности. Мгновенность практики и уникальность каждого образчика искусства каллиграфии свидетельствуют об эстетическом потенциале письма. Уместно вспомнить тезис Маркова из «Принципов нового искусства» (1912) о „прекрасной свободе”, с которой китайская глазурь на основе одного и того же оксида меди в зависимости от вида сушки окрашивает изделие во всевозможные цвета, и разнотоновой музыке колокольчиков на пагоде во время порывов ветра (Bowlt, 1988: 28). Подобно каллиграфии, всё это следствие неповторимых процессов. Идея о том, что искусство почерка может стать эстетической практикой, объясняет, почему футуристы Кручёных и Хлебников настаивали на том, что в художественном творчестве „вопрос о письме должен быть поставлен” (Perloff, 1986: 125).
Миф о Китае в творчестве Хлебникова — и в геополитическом, и в культурном разрезе — неизбежно возвращает нас к мифу о России. Поэт, осмысливая исторические события Китая, думает о прошлом и будущем своей родины; настаивая на ценности иероглифов — выявляет художественный потенциал родного языка. С точки зрения судеб России (она, по Хлебникову, соединяет три мира3![]()
Русские поэты Серебряного века получили доступ к образной системе Китая через европейскую литературу. Тем не менее, для Гумилёва и Хлебникова именно европеизированный менталитет сограждан вызывал горечь если не утраты, то изъянов национального сознания. Это побудило их вновь и вновь обращаться к наследию Китая как поводу, с одной стороны, к восстановлению утраченной грани самоидентификации, с другой — к расширению потенциала их собственной поэзии. Поэтому Китай оказался для Гумилёва и Хлебникова и альтернативой увязанию в универсализации, и ностальгической мечтой.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 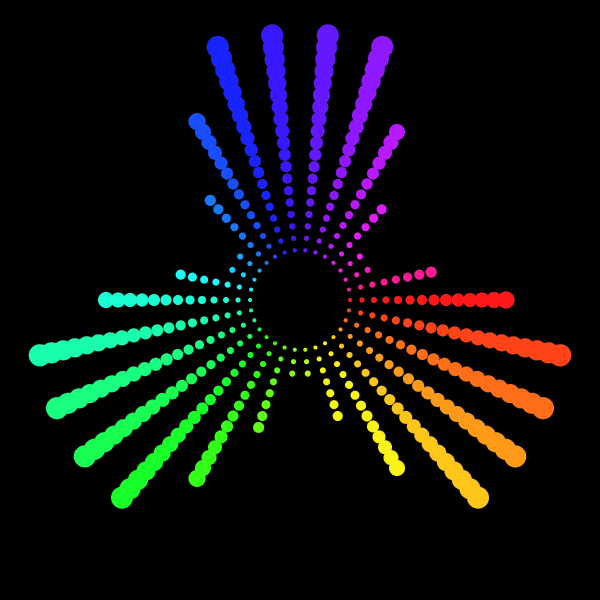 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||