

Формат описания, о котором идет речь, характерен для магистральной ветви авангардоведения, но не поддерживается его малой ветвью. Собственно говоря, это и есть тот пункт, по которому авангардоведение разделилось на две ветви. Как продолжающий авангардные манифесты, репродуцирующий самопрезентацию авангардистов и включеный в контракт авангарда с читателем, он преподносит авангард изнутри, по заданным самим авангардом силовым линиям. Его адепты говорят о своей конгениальности писателям-авангардистам, что в переводе на неангажированый язык дает “солидарное чтение”.
Размеры настоящей статьи, а также ее цель — описать солидарное чтение как особый феномен, не размениваясь на детали, не позволяют осветить научную литературу, попадающую под “солидарное чтение”, поэтому я отсылаю читателя к моим статьям о Хлебникове и Хармсе, где приводится соответствующий иллюстративный материал.2![]()
Проследим для начала зависимость солидарного чтения от авангардных автометаописаний. Футуристическая «Пощечина общественному вкусу» (1912) и «Манифест ОБЭРИУ» (1928) являют собой акты отмежевания авангарда от “старой” литературы и попытки заменить ее собой. Вот наиболее показательные выпады в «Пощечине общественному вкусу»:
“Уникальность” авангарда, пропагандируемая в его манифестах, была принята авангардоведением за данность, и Ю.Н. Тынянов вслед за футуристами повторял похвалы Хлебникову за новое зрение:
При этом солидарное чтение не задается вопросом о том, в какой мере автометаописания отразили реальную практику. Я постаралась ответить на него в исследованиях художественных проектов Хлебникова («Заклятия смехом», «Мирасконца», «Чисел», «Ка», «Зангези», нумерологии и др.) и Хармса («Лапы» и др.).3![]()
Аналогичный случай несовпадения автометаописаний и литературной практики — «Манифест ОБЭРИУ». На словах обэриуты отрицали за “заумью”, как за фирменным футуристическим письмом, какую-либо ценность (не исключено, что из желания отличаться), однако на деле охотно ее применяли. Это мелкое расхождение между программой и реальностью приоткрывает более крупную нестыковку. Понося в манифесте всякую литературность, обэриуты одновременно не признают того, что работают в традициях авангарда (в частности, зауми), и признают, беря под свою защиту авангардистов предшествующего поколения и вообще все левое искусство.4![]()
Из всего сказанного следует важный методологический вывод. Установка авангарда на первотворчество и абсолютно новый взгляд в действительности имеет статус теоретической программы, а не практики. Принимать ее в научном анализе за данность — значит понижать его научность и объективность.
Солидарное чтение попало и под влияние скрытой от глаза авангардной самопрезентации.
Самопрезентационная тактика Хлебникова и Хармса, более или менее единая, может быть названа “островной” — по хлебниковским «Детям Выдры» (1911–1913), где она была заявлена впервые:
“Островная” самопрезентация только кажется оригинальной. На самом деле она наследовала готовым моделям. В западной традиции ими были Дэз Эссент Гюисманса, затворившийся от людской серости в загородном доме и не допускавший до себя даже слуг («Наоборот», п. 1884), и Заратустра Ницше, время от времени удалявшийся в леса и горы, к своим зверям, от ненавистной ему толпы, а затем возвращавшийся к ней с выношенными в одиночестве истинами («Так говорил Заратурстра», 1883–1885). А в русской — державинско-пушкинская мифологема “поэт-царь”,5![]()
После «Детей Выдры» Хлебников переодевал свой “островной” самообраз в разные одежды — Короля Времени, марсианина, пророка-дервиша, сохраняя и его выделительно-ограничительную специфику, и неизбежный элемент самозванства. Так, мифологема Короля Времени состоит в том, что Хлебников — в роли автора математических уравнений, спроецированных на историю войн, — отменит последние и станет благодетелем человечества. “Островной” мифологией пронизан и манифест «Труба марсиан» (1916), где будетлянин — как раз в ранге Короля Времени — производит футуристов в марсиане:
После революции 1917 года, когда, как было отмечено Борисом Гройсом, авангард предложил советской власти и свои услуги, и свой дизайн переделки старого мира,6![]()
![]()
По примеру Хлебникова аналогичные “островные” заявления — но только менее праздничные и триумфальные, ибо советская идеология не оставляла возможности для прямого воздействия на людские массы иным институтам, чем она сама, — делал и Хармс. Об этом свидетельствует «Манифест ОБЭРИУ». В нем Хармс и другие обэриуты, пока еще полные оптимизма, пытаются заинтересовать власть своим художественным методом, указывая на его универсальность:
Помощь, предложенная в «Манифесте ОБЭРИУ» советской власти, ей не пригодилась, ибо в создании новой общественной формации и нового человека она сделала ставку на соцреализм. Но “островной” миф приспособился и к этой ситуации. Теперь Хармс изображает себя и своих собратьев по цеху отверженными пророками новооткрытых ими истин, отменяющих заведенный порядок вещей, науку, логику и т.п., ср. «Хню» (1931):
Предлагаемая трактовка подкрепляется прозаической миниатюрой Хармса «Не знаю, почему все думают, что я гений...» (1934–1936), тоже с образом “островного” гения и тоже поданного через призму игры:
Яркие “островные” самообразы, при помощи которых Хлебников и Хармс причисляли себя к гениям всех времен и народов, были данью романтической парадигме. Она предписывала желающему выйти в гении резко отличаться как от “обычных” людей, так и от своего литературного окружения. Для Хлебникова и Хармса “отличаться” значило перерасти рамки “просто писателя”, а именно наряду с новым письмом стать первооткрывателем истин общезначимого масштаба и своей жизнью или смертью совершить неповторимый подвиг.
Вхождение в романтический образ гения сопровождалось декларативными утверждениями, охватывавшими как литературную, так и внелитературную сферы деятельности. Сами же утверждения состояли в следующем. Тексты авангардистов созданы в литературном вакууме; “запатентованные” ими открытия — математического, философского или лингвистического характера, — способны одарить человечество как минимум новым зрением, а как максимум — качественно иным существованием; наконец, выработанный ими метод универсален и способен радикально улучшить любой культурный институт, будь то литература, наука или государственное устройство. Так, при помощи внелитературных “открытий”, дополнявшихся разработкой особых масок — философа, ученого, государственного деятеля, автора духовной доктрины и даже пророка, — Хлебников и Хармс придали своей жизни характер подвига. Впоследствии к их образу гения, носящему характер саморекламы и самозванства, добавилась освящающая трагическая смерть в 37-летнем — то есть пушкинском — возрасте.
Нельзя не отметить, что в исполнении Хлебникова и Хармса образ романтического гения обогатился сакральными обертонами. Претендуя на переплавку сознания масс, а в случае Хлебникова — и на преображение мира, оба писателя преподносили себя пророками новой веры. Правда, полем их деятельности была не религия, а математика, логика, государственное устройство и т.д. Тут решающую роль сыграло ницшеанство и — конкретнее — образ Заратустры, пророка новой, безрелигиозной, веры в сверхчеловека, упраздняющей Бога. В целом же “островная” самопрезентация Хлебникова и Хармса по всем своим параметрам попадает в более широкую парадигму рубежа XIX — нач. XX веков, в рамках которой писатели (например, Толстой как автор нового христианского учения, отлученный за это от Православной Церкви, или “маги” Серебряного века вроде Брюсова и Вячеслава Иванова) приравнивались к пророкам, святым, полубогам.
Самореклама Хлебникова возымела свое действие немедленно. Футуристы приняли его “островную” самопрезентацию за данность, и то, что в «Детях Выдры» было еще актом самозванства, получило легитимацию в виде культа “Короля Времени”, “Председателя Земного Шара” и “Лобачевского слова”. Когда и как в точности появился культ Хармса — бога бессмысленных красот, окруженного покорной толпой, — сказать трудно. Ясно одно: в наши дни Хлебников в большей степени, а Хармс — в меньшей являются культовыми фигурами.
Авангард, разумеется, вправе создавать любые мифы о себе, включая “островной”, настаивать на своей разительной до гениальности новизне и учреждать любые культы. Такова естественная практика писателей и целых литературных направлений. Если кому и можно предъявить претензии в искажении его облика, то не ему самому, а гуманитарной мысли, вот уже почти столетие идущей на поводу “островного” мифа и раздувающей культы отдельных авангардистов, да и самого авангарда. Изоляционистское убеждение, передавшееся ей от авангардистов, состоит в том, что они — каждый в отдельности и все вместе — уникальный остров в океане русской литературы, соответственно, общие законы и общие мерки к ним не применимы, а применимы лишь те необщие, которые постулировали они сами.
Держаться “островного” взгляда на авангард современным ученым завещал не только он сам, но и зачинатели авангардоведения: Ю.Н. Тынянов и Р.О. Якобсон. Будучи представителями той же левой культуры, что Хлебников и Владимир Маяковский — объекты их изучения и канонизации,9![]()
То, что Ю.Н. Тынянов и Р.О. Якобсон, проницательные во множестве других отношений, допускают искажения при описании природы авангардного творчества, объяснимо. В их эпоху еще не сложилась столь необходимая временна́я дистанция “исследователь — объект”, как не сложился и филологический аппарат, способный отделить устройство текстов того или иного автора от его поэтической самопрезентации или декларативных высказываний, а его квазинаучные проекты — от научных дисциплин, под которые они столь успешно мимикрируют. Совсем другое дело — современное солидарное чтение. Обращаясь не к новейшему, а к привычному научному аппарату — тому самому, у истоков которого стоял сам авангард и который ввели в обиход Ю.Н. Тынянов, Р.О. Якобсон, а также В.Б. Шкловский, оно не только ретуширует авангард, но и искусственно консервирует научную мысль на том уровне, на котором ее оставили отцы-основатели.
Присмотримся к такой практике анализа. Следуя полезной в свое время, но далеко не универсальной максиме “поэту надо верить”, наряду с другой — необходимостью подобрать свой ключ к каждому писателю и направлению, солидарное чтение всячески подыгрывает “своим” авторам. Например, разделяя, сознательно или бессознательно, веру Хлебникова и Хармса в собственную гениальность, исследователи нажимают на сильные аспекты их творчества, но замалчивают явно слабые. Принимая рекламные заявки обоих авангардистов за подлинно научные открытия, они вписывают соответствующие “находки” в контекст науки. Наконец, не ставя под сомнение мировой масштаб акций Хлебникова по спасению мира, типа “Общества 317 Председателей Земного Шара”, они склонны видеть в них государственную миссию, а не еще один художественный проект.
И в консервации научной мысли, и в следовании постулатам авангарда очевидны охранительные тенденции. Однако изолируя Хлебникова и Хармса от всего нового, включая методы и трактовки, магистральное авангардоведение не замечает надвигающейся опасности. Она — в том, что граница между объективным аналитическим описанием авангардистов и поклонением им в качестве культовых фигур размывается.
Не будучи дистанцированным от религиозной практики почитания святынь, солидарное чтение порождает оптику “розовых очков”, которая облагораживает их авторов порой до неузнаваемости. Приведу несколько характерных примеров.
Авангард выступил на литературной сцене под маской хулигана, бунтаря и нигилиста, и у некоторых авангардистов такая маска срослась с их лицом. Но вопреки тому, что аванград отождествлял себя с голосом улицы, а в пореволюционные годы — и с агрессивной народной массой, свергающей эксплуататоров, старый строй, традиции и культуру, гуманитарная мысль, будучи по своей природе кабинетной, наделяет его “хорошими” свойствами: нравственностью, гуманизмом и религиозностью.
Далее, аванград бравировал своей антикультурностью, соблазнял толпу низкими истинами и пытался подменить собой все культурные институты, от литературы и науки до государственного устройства. Тем не менее, магистральное аванградоведение приписывает ему высокую ученость и университетскую образованность. В результате Хлебников рассматривается как прозорливый лингвист, математик, государственный деятель, Хармс — как гениальный философ и логик, а их тексты — как обладающие элементами сциентизма и даже прогностическими функциями.
Наконец, авангард нес с собой мощный разоблачительный заряд, ср.
Только что приведенная серия qui pro quo может показаться невинной: что же плохого в том, что ученые любят изучаемых авторов и солидаризируются с ними? Беда в том, что от этого страдает научный анализ. В худшем случае он заменяется, а в лучшем — сопровождается попытками усовершенствовать авангардную продукцию, как литературную, так и внелитературную. Например, Хлебников обозначил жанр «Зангези» как сверхповесть, и эта дефиниция укоренилась в хлебниковедении вопреки тому, что она противоречит привычному литературоведческому аппарату: в жанровом отношении «Зангези» не уникален; это явно не повесть, а, скорее, драма для чтения; в ее конструкции нет ничего такого, чему соответствовала бы приставка “сверх”, ибо хлебниковские (микро)повести представляют собой акты одной пьесы. Однако отказаться от термина сверхповесть в пользу “драмы для чтения” значило бы лишить «Зангези» его оригинальности, и, более того, уравнять с «Искушением святого Антония» Флобера (п. 1874), откуда его жанр, скорее всего, и был позаимствован, а потому магистральное авангардоведение остается верным авторской дефиниции.
Охранительная практика к тому же оборачивается репрессивным подавлением инакомыслия. Оставляя пока что в стороне замалчивание иных литературоведческих точек зрения на авангард, отмечу, что все внимание исследователей обычно приковано к показаниям “бессменных” авангардистов. Но ведь была и другая партия — “временные” авангардисты! Некоторые из них — Бенедикт Лившиц, Борис Пастернак, Евгений Шварц — оставили о своем авангардном опыте отрезвляющие воспоминания. Эта партия последовательно лишается слова.
История русской литературы показала, что авангардному искусству — по крайней мере, в его футуристическом изводе, — удалось вовлечь широкие массы в свое словесно-жизнетворческое действо. Но вот вопрос: должно ли и ученые вовлекаться в эти игры? Практику солидарного чтения вроде бы никак нельзя уравнять ни с народной присягой авангарду, ни даже с так называемым народным хлебнико- или хармсоведением. Тем не менее, как можно было видеть, применяемые там методы подчас оказываются продиктованными программой действий, которую авангард предусмотрел для своих адептов.
Солидарное чтение обеспечило себе доминирующее положение в авангардоведении не только трансляцией авангардной саморекламы, но и благодаря тому, что подключилось к контракту авангарда с читателем на правах третьей стороны. Что же это за контракт?
Искусство предполагает разного рода условности, по поводу которых писатель заключает с читателем негласный контракт. В случае сентиментализма — скажем, «Бедной Лизы» Карамзина, — читателя призывают посочувствовать утопившейся героине и от горького сопереживания ее судьбе получить сильное эстетическое наслаждение. Реалистическая проза XIX века требует веры в то, что она воспроизводит реальность, давая взамен иллюзию познания действительности. Символисты, напротив, настаивают на доверии к себе, своей гениальности, уникальной судьбе и провидческому дару, обещая за это приоткрыть трансцендентное и позволить приобщиться к своей экстраординарной личности. В таком ряду контракт, заключаемый авангардом, оказывается наиболее богатым, по двум причинам. Истинной авангардной стихией является прагматика, в частности, ось автор — читатель, а, кроме того, авангардный контракт продолжает и усложняет символистский.
По авангардному контракту в отношения с писателем вступает не отдельный читатель, а аудитория, в идеальном случае — широкие массы. Отдельный же читатель как часть авангардной аудитории должен отказаться от своей воли, чтобы разделить с ней ее вкусы и настроения, которые, в свою очередь, диктуются ей писателем-авангардистом. Вообще, писатель преподносит себя как сверхчеловека и создателя новой художественной программы переделки языка, литературы и мира. Соответственно, его аудитория должна поверить в его властны́е полномочия и гениальность, воодушевиться его программой и включиться в ее осуществление. Эстетическое удовольствие, получаемое по этому контракту, носит ярко выраженный мазохистский характер.
Контракт, когда-то заключенный авангардом с читателем, прекрасно работает и по сей день. Котировки этого направления, как в российском культурном пространстве, так и в западном, неизменно растут, сам он давно превратился в культурный институт, а отдельные его представители — такие, как Хлебников и Хармс — в фетиши, которым принято поклоняться в интеллектуальной среде, и подражать — в артистической. Всем этим авангард обязан не только себе, но также своим инвесторам — ученым и коллекционерам, которые подключились к контракту авангарда с читателем, превратив его из двухстороннего в трехсторонний.
Выступая медиаторами между авангардом и общественным мнением, музеями, издательствами, выставками или фондами, ученые удостоверяют, что авангард был тем, за что он себя выдавал. Таким образом, трехсторонний контракт еще более выгоден авангарду, чем двухсторонний. Выгоден он и ученым. Если авангард — явление из разряда сверхъярких, то их исследования должны цениться выше, чем исследование обычного литературного явления.
На этом пути исследователя подстерегает одна, но роковая опасность: частичной или полной деквалификации. Будучи ангажированным, он уже не может выступать в роли ученого-детектива, ученого-юриста или ученого-психоаналитика, расследующего то, что есть, а превращается в хранителя и распространителя культа.
Устранить перекосы, когда-то заданные авангардом в борьбе за собственную институализацию, а затем канонизированные магистральным авангардоведением уже в 1920-х годах взялось несолидарное чтение. Оно зародилось как реакция на культ авангарда и на послушное ему солидарное чтение, но смогло образовать лишь малую ветвь в авангардоведении.
В качестве образцов несолидарного чтения можно привести следующие работы:
Несолидарное чтение функционирует в рамках традиционного академического контракта, который можно определить по-булгаковски: сеанс магии и ее разоблачение. Он предписывает искусству обманывать, очаровывать, гипнотизировать, создавать иллюзии; читателю — восхищаться и верить (в смысле suspention of disbelief); а ученому — отслеживать скрытые механизмы сеанса магии и предлагать для него аналитические формулы.
Мой подход в рамках несолидарного чтения состоит в том, чтобы перевести Хлебникова и Хармса из “островных” авторов — в материковые, признав их, вопреки их программным платформам, наследниками русской литературы, и, в частности, русского модернизма, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Одно из таких последствий — пересмотр характера и природы авангардного творчества. Полагаю, что для авангарда правомерно говорить лишь о двух родах деятельности:
И словесное, и жизне- творчество авангардистов производны от их “островного” мифа. Если в своих текстах Хлебников и Хармс реализуют образ гениального писателя, то в жизнетворчестве — образ гениального прозорливца, так что в сумме получается образ писателя, который больше, чем писатель.
В случае Хлебникова и Хармса собственно творчество далеко не всегда является самоцелью. Едва ли оправдано всякий раз ожидать от них как от писателей — “предъявления изделий”; от них как от “математиков”, “лингвистов”, “философов” или “государственных деятелей” — следования задачам и методам соответствующих областей человеческих занятий; а от них как от “пророков” — сбывающихся предсказаний или правильных предписаний человечеству. Все это — механизмы на службе большего, чем они сами, “эго”-проекта. “Эго”-проект, собственно говоря, и является главной точкой приложения их усилий. Тем самым прагматика, или акцент на авторском “я”, коммуникации и обработке адресата, оказывается доминантой авангардного творчества вообще и авангардного текста, в частности.
В науке об авангарде, с ее двумя конфликтующими стратегиями — солидарной и несолидарной, возникает любопытный социокультурный парадокс. Солидарное чтение, утвердившееся в авангардоведении, сделало авангард популярным и престижным, повысило его продажи и его стоимость. В результате на сегодняшний день под аванград охотно выделяются гранты, предоставляются музейные и конференционные залы, не говоря уже об издательских мощностях. Тем не менее, финансируемая обществом научная деятельность вокруг авангарда должна соответствовать его ожиданиям, то есть поддерживать культ авангарда и транслировать авангардные мифы о себе в рамках исследования его природы. В случае несолидарного чтения ситуация меняется на противоположную. Авангард высвобождается из плена мифа и культа, но, показанный в будничном свете — со всеми его взлетами и падениями, художественными достижениями и изъянами, насаждающим себя толпе и советской власти — лишается своей праздничности и привлекательность. Естественно предположить, что с победой несолидарного чтения аванград потеряет часть своих акций на рынке ценных идей, а авангардоведение — свое финансирование. Тем самым парадокс состоит в том, что многочисленные конференции, издания, выставки и другие проекты ведут не столько к открытию нового в авангарде, сколько к поддержанию его культа. И, напротив, демифологизация авангарда и вообще подход к нему “извне”, как к “обычному” литературному явлению, не встречает поддержки ни со стороны общества, ни со стороны “магистральных” авангардоведов.
Итак, социокультурные механизмы склонны поощрять лишь солидарное чтение. А по какому из двух проложенных путей пойдет наука об авангарде в следующие сто лет, покажет будущее.
| Персональная страница Л.Г. Пановой на ka2.ru | ||
| карта сайта | 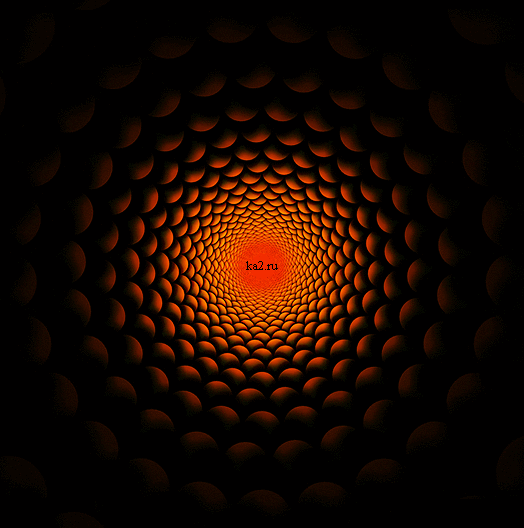 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||